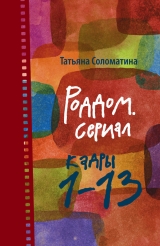
Текст книги "Роддом. Сериал. Кадры 14–26"
Автор книги: Татьяна Соломатина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Кадр пятнадцатый
«Я вам больше не нужен?»
В восемь часов вечера в кабинет заведующей обсервационным отделением вежливо постучал интерн. И, помявшись на пороге, неуверенно спросил:
– Татьяна Георгиевна, я вам больше не нужен?
– Вы переписали протокол операции из истории родов в журнал операционных протоколов?
– Да, ещё днём. Вам на подпись приносил. Вы не помните?
– Я за день подписываю огромное количество макулатуры, Александр Вячеславович. У кесарской всё в порядке?
– Да, Татьяна Георгиевна. Температура, ЧСС [4]4
ЧСС – частота сердечных сокращений.
[Закрыть], давление, выделения – в норме. Моча по катетеру светлая, из дренажа отделяемого нет.
– Удаляйте катетер.
– А дренаж?
– Я что сказала удалять, Александр Вячеславович?
– Вы сказали удалять катетер.
– Если бы я хотела, чтобы вы удалили и дренаж, я бы сказала: «Удаляйте катетер и дренаж».
– Ясно.
Он продолжал мяться на пороге. Татьяна Георгиевна оторвалась от бумажек на столе и пристально посмотрела на молодого человека.
– Александр Вячеславович, вы мне нравились гораздо больше, когда вели себя как обаятельный развязный наглец и приносили мне кофе в кабинет. Что с вами случилось? Неужели тот факт, что мы с вами имели неосторожность провести вместе ночь, так сильно повлиял на вашу психику, что вы уже не вы? Заходите, не стесняйтесь, присаживайтесь.
Дважды повторять приглашение он не заставил.
– Саша, вы прекрасны, нежны и заботливы. И если вас не затруднит, я бы попросила вас сварить мне кофе, раз уж вы допущены на нашу маленькую уютную кухоньку её полновластной владелицей бабой Галой. У меня в кабинете есть кофеварка, но кофе из кофеварки почему-то совершенно не такой. Хотя и сам кофе тот же, и вода ничем не отличается… Удивительно, да? Инженеры стараются, создают пыхтящие девайсы, бесконечно совершенствуют модельный ряд, а потом оказывается, что кофе, вода и огонь – это всё, что нужно для хорошего кофе. Более ничего. Так что кофеварка у меня в кабинете не для кофе, а для того, чтобы было чем запить разговор с Маргаритой Андреевной. Интимный задушевный моментальный разговор, не терпящий перебежек коридорами, ибо магия сиюминутной уместности так мимолётна…
– Татьяна Георгиевна, это вы так вежливо посылаете меня куда подальше?
– И в мыслях не было! – Мальцева рассмеялась. – Я действительно просто объясняла вам, почему иногда удобна кофеварка. Так что никаких метафор в моей простенькой речи не было. Это всё ваше живое воображение, Александр Вячеславович. Если я вас сейчас куда и посылаю – так это только за кофе в буфет. Вы положите в кастрюльку…
– В турку.
– У нас в буфете нет турки!
– Уже есть.
– Да? Забавно.
– Что именно забавно, Татьяна Георгиевна?
– Забавно ваше умение, Александр Вячеславович, обживать пространство. Интернировать его. Вы здесь вроде так недавно, но у меня стойкое ощущение того, что не вы принадлежите отделению, а отделение принадлежит вам. Оно – ваша интернированная сущность, а не наоборот. Хотя даже до «наоборот» не многие доживают. Вот уж как ни старается Светлана Борисовна, а никак. Она тут уже второй год. Интернатура и уже, собственно, ординатура. И никак. И шумит она, и крыльями машет, и шороху наводит, требуя, чтобы её уважали-любили. А баба Гала до сих пор с ней не здоровается, старая зараза. А вам она уже и турку позволила поселить в буфете. Забавно мне ваше исключительно мужское качество сразу становиться «как родным»… О, не благодарите меня. Это, на самом деле, очень коварное качество. Первая и самая важная характеристика обмана. Ключевая его характеристика. Потому что «родной» и «как родной» – совершенно неразличимые фенотипически свойства. С огромной генной разницей. И тут никаких метафор, Александр Вячеславович. Исключительно констатация факта. Так что… В общем, не буду вас мучить, мой дорогой. Вы положите в турку три чайные ложки кофе, нальёте холодной воды и поставите на газ. Когда кофе закипит, вы нальёте его в мою чашку и принесёте в мой кабинет. И больше вы мне сегодня не нужны.
Около десяти вечера Мальцева вышла из родильного дома через приёмный покой. На машину намело порядочный сугроб. Но ехать было необходимо. Выспаться – тьфу-тьфу-тьфу! Переодеться… Что там ещё дома? Портреты покойного мужа. Так давно покойного, что иногда брало сомнение: а был ли он вообще? Да. И он был не «как родной». Он был родным. А больше никогда и никого родного не было. Родным так и не стал Панин. И этот мальчик Александр Вячеславович наверняка не станет. Это же просто смешно, в конце концов! С этим молодым мужчиной её ничего не ждёт: ещё десять, ну пятнадцать лет – и она безнадёжно постареет, а он всё ещё будет прекрасным молодым мужчиной. Не идиотка же она! Точнее – идиотка, но ситуативная. Мало ли кто с кем переспал? Никогда она себе в этом удовольствии не отказывала. Что её сейчас-то выбило из колеи? То, что мужчина оказался намного моложе? Так и ей никто её лет не даёт… Да нет же, наоборот, беда в том, что человек намного моложе оказался взрослым мужчиной. А она, стало быть, кто? Старуха! Нет-нет, спасибо! Вот с Волковым она чувствует себя молодой женщиной. И с Паниным она чувствует себя молодой женщиной. Вот и выбирай, молодая женщина, между женатым и вдовцом. А мальчики пусть варят кофе. Это у них, признаться, отменно получается.
Расчистив машину, Татьяна Георгиевна села за руль, завела двигатель и прикурила сигаретку. Она пока покурит, а машинка пусть прогреется. Сколько бедняжка здесь простояла? Дня три. Или четыре? Всё смешалось в голове. Какие тут молодые мальчики! Тут уже ноотропы пора принимать килограммами.
К приёмному покою подъехала «Скорая». Стойка, как у борзой. Тебе-то что за дело? Есть ответственный дежурный врач. Бригада. Твой мобильный молчит, вот и чеши домой, пока не началось!
Татьяна Георгиевна сдала назад и начала выруливать на дорожку, ведущую к шлагбауму. Но тут из приёма выбежала дежурная санитарка и истошно заголосила:
– Татьяна Георгиевна!!! Вас Семён Ильич ищет! Как хорошо, что вы ещё не уехали!
Ну не сгорел бы он в аду, а?! Ищет он её. Внутренние, городские и мобильные телефоны отменили, не иначе. Самое надёжное и проверенное средство связи – это санитарка, выбегающая в пижаме на мороз. Естественно, ей больше всего и достаётся. Как не поорать на санитарку? Святое…
На сей раз Мальцева не стала орать на санитарку, а молча совершила обратный манёвр и припарковалась на не успевшее припорошиться снегом своё законное место, аккурат под окном буфета первого этажа обсервационного отделения.
Панин сидел в приёмном покое и деловито изучал обменную карту.
– Татьяна Георгиевна, привет! – в своей обычной, чуть мрачноватой публичной манере буркнул он, как будто ничего и не произошло. Впрочем, между ними за долгую жизнь столько всего произошло, что можно считать, будто уже и ничего.
– Добрый вечер, Семён Ильич, – поприветствовала она Панина, всё ещё не снимая свою меховую курточку.
– Боюсь, вам придётся задержаться. Мне нужна ваша помощь.
Как же! Нужна ему её помощь, как зайцу пятая нога! Сёма, слава богу, с любой акушерской ситуацией сам справится. За каким таким ему «нужна ваша помощь»? Опомнился, что ещё не сорвал на ней зло?
– Кстати, поздравляю вас, Семён Ильич! – Татьяна Георгиевна не отказала себе в удовольствии.
– С чем?
– Как с чем?! С тем, что вы стали дедом! Прекрасная у вас родилась внучка на… – Мальцева многозначительно замолчала, как бы подыскивая нужные слова. – На радость всей вашей большой и дружной семье, Семён Ильич. Я имела сегодня удовольствие видеться с вашей почтенной супругой. Она, как всегда, великолепна.
Акушерка и санитарка приёмного, а также дежурный доктор и дежурный интерн сделали настолько серьёзные и дубовые лица, что можно было не сомневаться – еле удерживаются от смеха. «Прекрасная у вас родилась внучка на…» Язва всё-таки, эта Мальцева. Жуткая язва. Жена Панина великолепна, ха-ха три раза! Вечно в стоптанных башмаках и перекрученных чулках. Совершенно непонятно, почему с ней всегда так? Панин мужик не жадный, наверняка на тряпки ей отваливает. Но Варвара Панина просто понятия не имеет, как должна выглядеть женщина. У Варвары Паниной всегда бесцветный мышиный пучок на затылке, пальто какое-то вытянутое, даже если новое… А вообще-то, нехорошо. Нехорошо сплетничать. Варвара – очень хорошая милая женщина, приятная во всех отношениях. Жена и мать. Мать троих детей. А теперь вот ещё и бабушка. А то, что эта стерва Мальцева всю жизнь у начмеда в любовницах, ещё не даёт ей права оскорблять его жену… Хотя, конечно, Татьяна Георгиевна, в отличие от Вари Паниной, штучка та ещё. Понять Семёна можно.
Выражение лица Семёна Ильича стало просто-таки зверским. Он оглядел всю почтенную публику, чьи даже самые потаённые мыслишки были ему отлично известны и, не ответив на поздравления заведующей обсервации, сказал:
– Поперечное положение. Крупный плод. Анатомо-функциональная несостоятельность рубца на матке [5]5
Анатомо-функциональная несостоятельность рубца на матке – осложнение беременности и родов, связанное, как правило, с предыдущими операциями кесарева сечения. Может привести к тяжёлым осложнениям – разрыву матки, кровотечению, гибели плода. Во время беременности и родов женщины с рубцом на матке требуют тщательного мониторинга состояния нижнего маточного сегмента.
[Закрыть] .Четвёртое вхождение в брюшную полость. Так что, Татьяна Георгиевна, переодевайтесь и мойтесь. Я уже распорядился развернуть операционную.
Вот это была несостоятельность так несостоятельность! Хорошо успела баба в родильный дом вовремя. Да и поперечное крупного плода – это вам не фунт изюма. Пять семьсот. Всё-таки Панин ас каких мало. Мужчина, так владеющий ремеслом – тем более ремеслом хирургическим, – поневоле вызывает восхищение. А там, где у баб восхищение, – там и все остальные ментально-психические образования типа любви и привязанности. Панин в деле – это никакой суеты, ни единого лишнего движения… При вхождении в брюхо, правда, резанул мочевой пузырь. Ну да там предыдущие умельцы дупликатуру пузырно-маточной складки [6]6
Дупликатура пузырно-маточной складки – листки париетальной и висцеральной брюшины.
[Закрыть]так на матку натянули, как будто не перитонизировать [7]7
Перитонизация – закрытие дефекта висцеральной брюшины, возникшего при хирургической операции, путём наложения серо-серозного шва. Многими школами акушерства и гинекологии необходимость перитонизации оспаривается. Но не русской.
[Закрыть]хотели, а мочевой пузырь на лоб пришить. Мог бы и сам справиться, но сегодня Панин был не Панин – а сплошная буква. Как будто дух из него напрочь вышибли. Просто робот-манипулятор какой-то, а не живой мужчина из плоти и крови. Пришедший из главного корпуса уролог недовольно топтался у батареи позади операционной медсестры, бурча себе под нос: «Мясники! Почему электрокоагулятором не пользуетесь?! Почему у вас тут вечно реки крови льются? Почему у нас кровопотери в тридцать, в пятьдесят, ну в сто миллилитров, а тут?..»
– Потому что это акушерство! – рявкнул Семён Ильич. И немного наконец разморозился. – А где же ваш паж? – язвительно вопросил он своего ассистента Татьяну Георгиевну. – Отдыхает после праведных трудов? Интересный случай, а его и след простыл? Или он отсюда не вылезал, потому что его вовсе не акушерство интересовало?
– Семён Ильич, я понятия не имела, что будет интересный случай. И отпустила интерна домой. У них свой график дежурств. Вон стоит другой интерн. Вы ему, кстати, помыться не разрешили.
– Мне тут только лишних лап не хватало, – пробурчал Панин. – Кровь заказали?!! – заорал он.
– Господи!.. Да! – Тут же из «предбанника» подскочил анестезиолог.
– Бумажки потом будете писать! Пока больная на операционном столе, вы обязаны стоять около неё!
– Да я только на секунду вышел. И не одна же она тут, анестезистка рядом.
– Анестезистка… Все вы разгильдяи и…
– Не можете придумать кто ещё, да? – услужливо проворковал анестезиолог.
– Я у вас тут сейчас в обморок упаду, у этой батареи. Кровищи море, жарко! – жалобно проныл уролог.
– Иди, становись, работай. Матку уже ушили…
Семён Ильич немного подвинулся, освобождая место профильному специалисту.
Завершали операцию в полнейшей тишине.
Когда была наклеена повязка, Панин с треском сорвал перчатки и буркнув традиционное: «Всем спасибо!» – проворчал в никуда:
– Татьяна Георгиевна, всё запишите и ко мне в кабинет на подпись.
Анестезиолог насмешливо глянул на Мальцеву.
– Вы бы за своей документацией следили вместо того, чтоб глазки строить! – снова в никуда пролаял Панин и вынесся из блока.
– Что это с ним? – спросила операционная сестра. – Дедом стал, радоваться надо.
– Испереживался! – саркастично ляпнул наркотизатор. – Тань, куда бабу? В интенсивную?
– Ну разумеется.
– Иди-знай. Сэмэн совсем чумной. Вдруг «не разумеется»?
– Ну так пойди, спроси!
– Что я, больной на голову? Ты сказала в интенсивную – вот и под твою ответственность. Кровопотеря какая?
– Литр пиши.
– А-а, так ты её мне в интенсивную, чтобы с кровью не самой мудохаться?
– Ты начал капать, ты и продолжай. А в интенсивную госпитализируют совсем по иным причинам!
– Танька, ты-то чего рычишь? Это что, заразно?
После перекура Татьяна Георгиевна почти полтора часа писала историю и заполняла журнал операционных протоколов. Ну Панин, ну гадина! Нашёл себе девочку-писаря. Скотина!
Около двух часов ночи она позвонила ему в кабинет.
– Да!
– Я так надеялась, что ты не возьмёшь трубку!.. Я всё написала. Подпись терпит до утра?
– Не терпит. Зайди.
Чтоб ты был здоров!
– Татьяна Георгиевна, я вам больше не нужен? – ехидно поинтересовался Панин, как только она прикрыла дверь, войдя в кабинет начмеда.
– Если вы о кесарской с поперечным, то она стабильна. Вы можете совершенно спокойно ехать домой, Семён Ильич.
– Ты прекрасно поняла, о чём я! Что это вчера было?!
– Уже позавчера, Сёма. Два часа ночи. Нормальные люди давно спят в своих кроватках, а не выясняют отношения, путая рабочее с личным, а тёплое с мягким. Так что позавчера-вчера было? У тебя внучка на автобусной остановке родилась? – Татьяна Георгиевна хихикнула и полезла в один из шкафов. Достала бутылку отменного коньяку, две рюмки и налила абсолютно равные порции. Одну рюмку передала Панину. – За тебя, мой дорогой.
Они выпили.
– Ты переспала с ним?! – чуть не взвизгнул Панин, так зверски жахнув об стол рюмкой, что у той отвалилась ножка.
– Сёма! Ты взрослый мужик. Руководитель крупного лечебно-профилактического учреждения. Семейный человек. Многодетный отец. Дед уже. А ведёшь себя, как пацан, тёлку которого видели «на раёне» с другим.
– А ты ведёшь себя как блядь! Как старая блядь! – злорадно прошипел Семён Ильич.
– Ты ещё забыл добавить прилагательное «одинокая», – безмятежно прокомментировала Татьяна Георгиевна. – Старая одинокая блядь. Вот так бы было правдивее. Мы, старые одинокие эти самые, Сёма, можем вести себя как угодно. И с кем угодно. Потому что мы никому ничего не должны.
– Я сколько раз тебе замуж предлагал!
– Ой, ну завёл шарманку… Не так уж и много раз, если ты решил заделаться счётной комиссией. Не так уж и много. И не так уж искренне предлагал.
– Чем ты вчера занималась?!
– Ну ладно. Правда, правда и ничего, кроме правды. Ещё позавчера я термоядерно кокетничала с интерном на нашей ежегодной вечеринке двадцать третьего февраля, которую мы проводим в изоляторе вверенного мне отделения обсервации. Затем мы с интерном покинули здание…
– Выставила меня на посмешище!
– Опять твои ненужные эмоции. Как я могла выставить тебя на посмешище? Если бы Варвара Панина кокетничала с интерном – это было бы действительно посмешище. В смысле – ты был бы выставлен на посмешище. Но Варвара Панина жена и мама. Больше у неё профессий нет… Пардон, теперь ещё и бабушка. Многостаночница. В отличие от меня, имеющей одну-единственную специальность: акушер-гинеколог. Разумеется, я понимаю, что вы, Семён Ильич, в качестве начмеда конечно же сильно беспокоитесь за моральный климат в коллективе. Но тогда вам самому в первую очередь необходимо прекратить никому не нужные и даже тягостные многолетние отношения с заведующей обсервационным отделением Мальцевой.
– Так я что, больше тебе не нужен?!
– Я так понимаю, в текущий момент времени вопрос о ненужности кого бы то ни было лично мне – становится просто-таки злободневным.
– И не ёрничай, пожалуйста!
– Сёма, для полноты картины тебе не хватает только руки заламывать. Кстати, что мы стоим, как два мудака? Ты не возражаешь, если я присяду на диванчик?
Татьяна Георгиевна шлёпнулась на диван и закинула ногу на ногу.
– А если ты будешь так беспредельно галантен, что позволишь мне закурить у тебя в кабинете, то я расскажу тебе, что было после того, как мы с интерном покинули здание. Именно на этом месте правдивого повествования ты меня перебил. Создаётся впечатление, что на самом деле ты не хочешь узнать продолжение.
– Кури! Пепельница сама знаешь где. Для тебя только и держу, между прочим!
– Как душевная щедрость! Какие милые разборки в два часа ночи в кабинете начмеда! Мечта любой женщины, что и говорить!
– Или ты прекратишь язвить, или я…
– Что ты?! Сёма, ну что – ты? – устало выговорила Татьяна Георгиевна и прикурила сигарету.
– Так что было дальше? Я хочу знать! – Панин опёрся на свой стол. Возможно, если бы он сел рядом… Но он не сел рядом. Он продолжал изображать обиженного любовника. Всё это напоминало плохо поставленную комедию.
– Дальше мы с ним пошли в кабачок. Потом ещё в один кабачок. А после – завалились к нему домой. Целоваться начали ещё в такси. Дальше помню смутно, но общее впечатление хорошее. Состояние моё было, что называется, удовлетворительным. То есть – полностью. От и до. Прям тебя вспомнила в лучшие твои времена, вроде нашей студенческой поездки в Карпаты.
Панин становился всё мрачнее.
– Ну а потом меня разбудил Маргошин звонок. В три часа ночи. Она спешила меня обрадовать – ты стал дедом. И ей было абсолютно наплевать, сколько времени, где я и с кем. Как, впрочем, всем вам, моим добрым друзьям, наплевать на собственно меня. Затем мы с интерном выпили немного кофе с коньяком, немного покурили и снова отправились в койку. Моё состояние было уже куда более осмысленным, чем во время первого сета. И могу тебе сказать, что в постели он просто замечателен.
Семён Ильич подошёл к Татьяне Георгиевне и…
– Ты хочешь залепить мне пощёчину, но никак не можешь занести руку? Не стоит, Сёма. Не стоит… Распишитесь в истории и в журнале операционных протоколов, Семён Ильич. После чего я, с вашего позволения, всё-таки поеду домой.
– Ты же выпила!
– Ой, я тебя прошу. Жалкая рюмочка коньяку. Сейчас зажую кофейными зёрнами и поеду. В три часа ночи в такую погоду ни одно ГИБДД паршивого щенка на улицу не выгонит.
– Тань, ты всё выдумала, да?
– Что всё?
– Ну всё вот это. Про кабаки и постель. Ты же специально, да?
– Я тебе ещё подробностей не рассказала. Ну, постельные опустим, раз ты не помнишь себя в Карпатах… Действительно, столько лет прошло, кто припомнит такие детали? Сейчас-то наш с тобой секс долгим и вкусным уже не назовёшь… Я про кухонно-кофейные подробности. С Марго по телефону я свистела голая. А интерн вынес мне свою рубашку. И кофе он мне варил, и коньяк наливал, и сигарету прикуривал совсем голый. Вот так вот.
– Ну точно всё выдумала. Чтобы меня позлить. Давай бумажки!
Татьяна Георгиевна молча кивнула на стол, где лежала история и журнал операционных протоколов. Молча встала, молча дождалась сигнатур Панина. И молча направилась к двери.
– Выдумала, да?! – крикнул Панин вдогонку.
Она, не оборачиваясь, пожала плечами. И молча вышла.
Кадр шестнадцатый
Молча
Молча приехать домой. Молча сварить кофе. И поговорить с портретом покойного. Тоже, разумеется, молча.
Ему с ней никогда не надо было слов. Ей с ним поначалу было надо. Много-много-много слов.
Она с ним познакомилась как раз когда влюблённый в неё до одури Сёма Панин приревновал к каким-то поцелуям на балконе. Не приревнуй он тогда – давно были бы женаты и было бы у Панина с Мальцевой трое детей и не Варя, а она сидела бы, нелепо подоткнув под себя ноги и сложив руки на коленках в третьем люксе второго этажа, безусловно счастливой бабушкой. И Таней, в честь неё, называли бы сейчас их первую с Паниным внучку. Но она ни о чём не жалеет. Ни о том, что принимала знаки внимания от всех подряд и с живостью на них откликалась. Ни о том, тем более, что Панин тогда приревновал. Как мужик ведёт себя в ревности – тоже показатель. Характеристика личности. Тест. Совершенные особи мужского пола бабу свою с таких балконов вытаскивают. И более не позволяют попадать ей в такие ситуации. Контролируют. Как контролировал её муж. Контролировал, но, всё понимая, отпускал. Зная, что ей это просто необходимо – «целоваться на балконах». Или сгонять в Карпаты. Или… Муж любил её всё понимающей и всё принимающей любовью. И она его любила. Не так. Куда более эгоистично, куда более по-детски, но искренне и сильно, как люди любят только себя. Панина она никогда не любила как себя. Смешно… Ушёл, потому что она целовалась на балконе. К стенке бы сейчас поставили – не вспомнила бы с кем тогда целовалась. И не только тогда… Ни лиц, ни губ, ничего. Пусто в этом месте. Кроме, разве что, двоих-троих. Которые не из тех двоих, что были в твоей жизни главными. Да и они – не главные. Лишь собственное эго. Потому что без Панина – это просто без Панина. А без мужа – это без части себя. Ампутация. Сильная фантомная боль. Своя. В себе. Потому и так тошно. Тебе самой. Да-да, Танечка Мальцева, признайся – ты всегда была из таких что «а вот и я!» Нравилось нравиться. А Панину не нравилось, что ты всем нравишься… А мужу – нравилось. Он говорил, что и Панину нравилось. Просто Панин – самолюбивый самец. «А ты что, не самолюбивый?» – смеялась она тогда. «Я нечеловечески самолюбив. Настолько, что это выше самолюбия!» – смеялся он в ответ. Он, муж, всё про неё знал. Всё и всегда. Ему не надо было говорить. Но первые пару лет она забалтывала его вусмерть. «Скажи, я самая красивая?» – «Ты – самая красивая!» – «Ты меня любишь?» – «Люблю!» – «Сильно-сильно любишь?» – «Сильно-сильно!» – «Сильнее жизни?» – «Сильнее. Жизнь – ничто по сравнению с тобой!» Он был такой сильный, такой уверенный, такой надёжный… А потом его не стало. В момент. Как будто из груди вырвали лёгкие, вырвали сердце. Но ты почему-то не умерла. Ты ходишь, что-то делаешь – и даже неплохо справляешься. Но никто почему-то не видит, что на самом деле ты не можешь дышать и сердце твоё не стучит. На медосмотрах у тебя проверяют частоту дыхания и сердечных сокращений – и они, почему-то, есть. Хотя нет ни лёгких, ни сердца. Просто органы дыхательной и сердечно-сосудистой систем имитируют наличие у тебя лёгких и сердца. И давление у тебя есть. И периферические сосуды пульсируют. Ты чистишь по утрам зубы, принимая душ. Ты даже следишь за тем, что ты ешь… То есть сперва ты не ешь ничего. Ты опознаёшь труп в морге, что-то там тебе говорят менты и коллеги. Ты даже смотришь на искорёженную груду металла. В чём-то расписываешься. Идёшь на похороны. Сперва их организовываешь и тут же на них идёшь. Едешь рядом с гробом в катафалке. Стоишь у могилы… Сразу после того, как не можешь стоять в кладбищенской церкви. На похоронах и поминках очень много людей. Оказывается, у него была какая-то своя жизнь… До тебя. Но она была – и её не выкинешь. Ты мог её не допускать до меня. Пока был жив. Но ты погиб. Умер. Тебя не стало. И какие-то совершенно чужие люди кидаются на крышку гроба. Какая-то посторонняя женщина плачет, держа за руку какую-то постороннюю девочку. И ещё одна посторонняя женщина рыдает и чуть не бросается в свежевырытую могилу, держа за руку какого-то постороннего мальчика. О да! Ты не был на них женат. Ты был женат только на мне. Но детей ты записал на себя. Ты не пускал их в мою жизнь, но ты записал их на себя. Да-да, если бы ты мог хоть что-нибудь изменить… Но поздно. Да и никто не в силах ничего изменить. Ты был единственным моим человеком. При жизни. Я была единственным твоим человеком. При жизни. Но ты погиб. Умер. Тебя не стало. Но стало так много неединственных твоих людей, что если бы твоя смерть не вырвала у меня лёгкие и сердце, их бы вырвали эти неединственные, но тоже твои люди. Это страшно, когда у твоего единственного человека вдруг оказываются какие-то ещё люди. И ты, пожав плечами, отдаёшь этим неединственным людям то единственное, что от тебя досталось… Для них единственное. Не квартирный вопрос испортил москвичей. Не только москвичей. Всех людей на этом свете испортили вопросы гражданского права. Ты жена и единственная – вот чёрт, противное всё-таки слово! – наследница. Но они ходят с какими-то незнакомыми мальчиками и девочками, в которых ты с отвращением узнаёшь черты своего единственного человека, и требуют. Приходят в дом с ними за ручку. Приходят на работу. С ними за ручку. И подают в суды. Где же вы раньше были, неединственные люди? Да нате вам просто так. И даже не давитесь. Единственное, что ещё оставалось – место, – становится не таким уж и важным, после того как в этом месте пили чай эти неединственные люди и ели конфеты эти твои… Дети. Блин, да. Твои дети. Единственное, чего у нас с тобою не было – детей. Это было совсем не нужно, настолько было вместе… Но не в месте. А бабы-то, бабоньки… Голосят как заполошные: «У нас от него дети! Де-е-е-ети!» Как будто милостыню просят. Противно. Где же раньше были его де-е-е-ти? Ах да. Настолько берёг, что эта часть спектра тебе была не видна. Бабки, видимо, кидал. В кино ходил. В школы устраивал. Что там ещё делают с детьми? Слава богу, что настолько берёг. Но безумно больно, что была у него не единственная на двоих жизнь. Было бы безумно больно, если бы не вырвали лёгкие и сердце… У вас от него де-е-ети? Берите, неединственные люди. Только не поубивайте друг друга при разделе места, где уже не мы, уже не вместе. Что ещё? Ещё есть груда искорёженного металла. Тоже забирайте. На могилу? Не вопрос. Ходите. Я туда ходить не буду. Мне достаточно портретов. И тишины. В тишине нет места де-е-етям. Да что они значат, ваши дети?! Ничего ровным счётом. Даже сейчас скажи она Панину: «Ко мне!» и где будут его де-е-ети, его Варя и его внучка? Там и будут. В отдельной от неё жизни. Но не в отдельной от него. Нет, спасибо. Не надо. Это кому поумнее вариант. Не ей, дуре и эгоистичной собственнице Таньке Мальцевой. Человек – не пирог. Не делится на части. Всё остальное – популярная психология.
Вот уже и утро. И какого домой приезжала? С портретом пообщаться. Молча. Хотя уже давно и лёгкие на месте и сердце стучит как пламенный мотор, не подавая, несмотря на многолетнее курение и не слишком подходящий для женщины образ жизни на работе, ни малейших признаков износа. И ты внимательно следишь за тем, что ты ешь. Дома завтрак лучше, чем на работе. Хотя и там, в кабинете, стоит банка мюсли, а в холодильнике – обезжиренные йогурты. Странное существо человек. Даже если у него вырвали душу, он может продолжать предпочитать инжир сушёным бананам и всё знать о калорийности продуктов. И о том, что клетчатка не переваривается. Потому, идя на гламурную вечеринку, не стоит наедаться минестроне, закусывая его рататуем. Человек, всё знающий о репродукции, вполне может не любить дете-е-ей.
Ну дети, дети. Что дети? Де-е-ети хороши только в виде новорождённых. Здоровых новорождённых, не испытывающих затруднений при прохождении родового канала. А потом – на хер в неонатологию, и привет! В смысле, до свидания.
Чокнувшись с едва забрезжившим рассветом чашкой горячей воды с соком половины лимона, Татьяна Георгиевна Мальцева отправилась в душ. И с удовольствием приведя себя в порядок, с не меньшим удовольствием выбрала из своего гардероба одежду. Да-да, придя на работу, она моментально нарядится в зелёную пижаму и белый халат, сменив шикарные сапоги на белые моющиеся тапочки, но… одежда – это очень вкусный чувственный спектр мира. И потому не надо его исключать из собственной жизни. Из жизни всё ещё молодой, очень красивой женщины, отличного востребованного специалиста, заведующей крупным отделением здоровенного родовспомогательного учреждения. Спасибо тебе, портрет, за беседу. Мне они здорово помогают, эти наши полуночные разговоры. Спасибо, что сделал когда-то из яркой дурноголовой девчонки изящную умную женщину. Я не могу тебя ненавидеть за то, что ты погиб. Я знаю, что была твоей единственной, как бы ни размахивало то бабьё незнакомыми мне девочкой и мальчиком. Которые хоть и были похожи на тебя, но копии есть копии. Отцовский инстинкт – блеф. Его эксплуатация – рискованный блеф. Шантаж – заведомый проигрыш. Люди просто делятся на единственных и неединственных.
– Татьяна Георгиевна! – окликнула вышедшую из лифта Мальцеву консьержка. – Татьяна Георгиевна, тут вам вчера вечером цветы принесли. Я, извините, даже не заметила, когда вы домой пришли.
Не ругать же старушку за то, что она дрыхнет по ночам. Это тебе не дормен с Манхэттена, что вечно на посту в красивой униформе. На работу с цветами переться? Нелепо. Вернуться? Плохая примета. Глупости всё, эти приметы! Зеркал, что ли, в квартире мало? Зеркал по самое не балуй.
– Вот, забирайте! Красота-то какая. Ещё и деньжищ, поди, стоит. Белые розы зимой… Кто-то вас очень любит, Татьяна Георгиевна.
– Кто-то за мной ухаживает. Мужчина мало чем отличается от животного. Способы разные, а физиология брачных игрищ такая же.
– А и давно пора вам замуж! Красивая, молодая, небедная…
Ох уж эти консьержки. Мало чем от старушек подъездных обыкновенных отличаются.
– Брачные игры к серьёзным намерениям не имеют никакого отношения, моя дорогая…
Чёрт, как её зовут? Авдотья Филипповна? Анастасия Егоровна? Дома надо чаще бывать, Татьяна Георгиевна!
– Спасибо, что напоили мои цветы.
– Да ну что вы, Татьяна Георгиевна, такая красота! Я уже сменщице записку написала, что если вы не придёте, чтобы она им воду сменила.
Действительно, двадцать одна белая роза. С ума сойти! От кого же? Интерн? Да ну, откуда у него деньги! Наверняка все свои текущие сбережения на кабаки с ней грохнул. Семён Ильич? Да тот цветы дарит только на день рождения, на восьмое марта, на… четыре раза в год, короче. Волков? Скорее всего. Может, записка какая есть?
– Открытки или карточки не было? – спросила Татьяна Георгиевна, принимая у старушенции громадный пахучий букет.
– Не было.
– А кто принёс?
– Да мальчонка какой-то хлипкий.
– Ясно. Спасибо вам ещё раз.
«Хлипкий мальчонка» – значит, просто курьер службы доставки. Интерна хлипким не назовёшь, а Панин и Волков давно уже из «мальчонок» вылупились.
Развернуть, подрезать, поставить в вазу, в чуть подсахаренную воду, кинуть таблетку аскорбинки… Ну вот, пусть стоят тут в тишине. И одиночестве. Пока-пока, белые розы. Не знаю, когда вернусь.
– Танька, я сбилась со счёта! Это под каким номером меховая курточка?
– Это, Маргоша, курточка без номера. Я их не нумерую. Так люблю, без номеров. Что мы, на охоте, что ли?
– Ладно, по сигаретке и арбайтен?
– Давай! Я смотрю, ты уже на посту?
– Здрасьте! Я сегодня в смене была.
– Понятно. У меня уже смешалось, когда ты в смене, а когда «блатняк» принимаешь…
Подруги прикурили по сигаретке, причём Маргарита Андреевна – явно не первую. Некоторое время курили молча.








