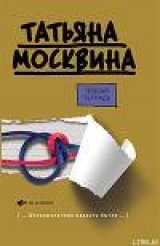
Текст книги "Общая тетрадь"
Автор книги: Татьяна Москвина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
«Русская америка». Улыбчивые молодые люди, профессионально делающие дело «до и после полуночи». Я люблю буги-вуги. «Почему вы нас никуда не ведете?» – спрашивает Очень Мрачный Человек у популярного исполнителя легкомысленных пустячков. «Я не хочу врать», – отвечает тот. Я танцую буги-вуги. Известный режиссер заявляет, что пора искоренить нерентабельное кино! Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день. После заседания райисполкома отведено пять мест для уличных художников в городе Ленинграде. Буги-вуги каждый день. Рок-музыканты – за доверие! На снимке: Джоанна Стингрей и Борис Гребенщиков. Ах, белая панама. Наш корреспондент: «Как вас принимали в Париже?» Марк Захаров, главный режиссер Театра имени Ленинского комсомола: отвечает. Роскошная панама. Первый советский видеофильм «Как стать звездой» не будет последним. Ох, мама, мама. Начинающие писатели должны публиковаться за свой счет – утверждает знаменитый критик Лев Аннинский. Рок-н-ролл, танцуют все рок-н-ролл. Вы только что видели эмблему всесоюзного конкурса видеоклипов, проходившего в городе Таллине. Суббота есть суббота. Как вы относитесь к благотворительности? – спросили мы у народного артиста СССР, участника первого благотворительного концерта. И я чего-то жду. Благотворительность – прекрасное слово. И не спеша по городу – буги-вуги каждый день, буги-вуги каждый день.
Если читатель меня еще не покинул, то в награду вот ему еще один осколок на тему «духовный образ нации», который мне удалось разыскать в жажде всеобъемлющих и цельных ощущений вопроса.
В литературе достаточно распространен образ разрушенного муравейника – метафора человеческого общежития после испытанного им сильного бедствия. Вот, скажем, слова Льва Толстого: «…трудно было бы объяснить причины, заставлявшие русских людей после выхода французов толпиться в том месте, которое прежде называлось Москвою. Но так же, как, глядя на рассыпанных вокруг разоренной кучки муравьев, несмотря на полное уничтожение кучки, видно по цепкости, энергии, по бесчисленности колышущихся насекомых, что разорено все, кроме чего-то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кучки, – так же и Москва, в октябре месяце, несмотря на то, что не было ни начальства, ни церквей, ни святыни, ни богатств, ни домов, была тою же Москвою, какою была в августе. Все было разрушено, кроме чего-то невещественного, но могущественного и неразрушимого» («Война и мир»).
Теперь тот же образ – в интерпретации одного из лучших, на мой взгляд, писателей современности – Владимира Маканина: «…огромная муравьиная гора была смыта, снесена, напоминая внешним видом разорванную собаками старую большую шапку, клочья которой валялись там и здесь.
В муравейнике осталось лишь основание: большой и пахучий круг темной зелени; муравьишки там были, ползали, и пусть вода уже спала и тот поток, что снес и разрушил, ушел в сторону, они ползали все еще испуганные, медленные; лишь некоторые на спинах своих подтягивали сюда новую землицу, а даже и новые травинки, в тихой надежде, что все на свете поправимо. Вероятно, они не представляли, какая потеря и какая утрачена высота, и это незнание, возможно, было их благом… Их было даже не жаль; в трагедии неуместна жалость: их было мало, верующие в судьбу, кто порожняком, кто с грузом, муравьи торопились по дорожкам, которые были давно забыты, так как на глубине этих путей (в основании муравейника) жили слишком далекие и слишком уже забытые их предки» («Голубое и красное»).
При том что мне тихая, исступленная мрачность этих горько-искренних строк дороже сотен тысяч жизнерадостных томов, все-таки снова и снова в мыслях возвращаешься к словам Толстого: «все было разрушено, кроме чего-то невещественного, но могущественного и неразрушимого».
Возвращаешься, потому что более возвращаться – некуда…
Наша Раша[1]1
Раша (англ.) – Россия.
[Закрыть]
Как водится, первыми пришли слухи. Мрачные и зловещие. Молва гласила, что новый фильм Михалкова-Кончаловского «Курочка Ряба» – русофобский. Что он смотрит на русскую деревню презрительным взглядом заезжего иностранца и не видит в ней ничего, кроме грязи, пьянства, тысячелетнего рабства и умственной отсталости.
И это говорили не чокнутые патриоты, а здравомыслящие критики космополитической ориентации! Натурально, все взволновались.
Я думаю, это произошло оттого, что здравомыслящие критики космополитической ориентации давно не бывали в деревне, потому и приняли картину Кончаловского за клевету. Зрители же кинотеатра «Аврора», где в рамках фестиваля «Виват, кино России!» показывали «Курочку Рябу», явно там бывали, как и я, а следовательно, хихикали одобрительно, с узнаванием, или, наоборот, горестно вздыхали.
Фильм, конечно, не выдающийся, не сильный, с чрезвычайно запутанным сюжетом и неловкими жанровыми колебаниями, но – забавный, занимательный для размышления.
Надо сказать, я давно ломаю голову над смыслом русской народной сказки «Курочка Ряба». Что это за история? Зачем дед и баба били золотое яйцо? Надеялись, там алмаз, что ли? А когда оно разбилось, о чем плакали? Скорлупа-то у них осталась, по крайней мере. И что там было внутри? Ничего не понятно.
Знакомый музыковед, которого я озадачила этой сказкой, сочинил ловкое объяснение: яйцо в мифологии есть символ Космоса, Вселенной, дед и баба – первые люди; мышь с хвостом – хвост можно приравнять к змее, то есть к сатане; таким образом, в нашей незатейливой сказке спрятано давнее предание о падении мира и людей, о конце Золотого века. Мило. Правда, мне-то кажется, что, если в существительных «Рябы» действительно есть интернациональность (дед, баба, курочка, яйцо, мышь), то в глаголах (жили-были – били – не разбили – упало – разбилось – плакали) звенит уже чисто русский надрыв, звучит нота русской тоски по несбывшемуся. Вот оно было в руках – ан нет, опять упустили. И плакали…
Понятно, почему загадочный иррационализм нашей сказки увлек Кончаловского, уверенного в русской иррациональности. История о том, как развалившийся, но бодрый духом колхоз дружно травит единоличника, живущего в одиноком замке на горе, а бедная Ася Клячина мечется от страстной любви к святыням родного колхоза до буржуазных мечтаний о личной инициативе, – тоже совершается загадочно. Единоличник, не вынеся психологического террора, сам поджигает свое хозяйство и поет-пляшет среди очистительного огня, соединившего его с общиной. Что ж тут клеветнического?
И во внешнем облике деревеньки, где происходит действие фильма, нет ни малейшей насмешки или поклепа. И ничего страшного, кстати, тоже нет. Не Швейцария, но и не Руанда или, упаси боже, Кампучия. В избе у Аси (Инна Чурикова) чисто, прибрано, стоит цветной телевизор, в хлеву курочки, козочки; яблоки она мочит в большущей кадке, самогон держит в агромадных бутылях. С голоду никто не пухнет, а что ватники да сапоги, да клозет без удобств, так нам до того дела нет. Если судить только по внешности, наша Раша предстает этаким «островом невезения», который, как пел Миронов, «в океане есть». «Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри».
Нет, не «добрые внутри». Так, видимо, считает режиссер, и не могу тут с ним не согласиться.
И не в том беда, что пьют. Пьют во всех слоях населения – пьют «новые русские», пьет – не сдается рабочий класс, пьет по мере сил трудовая интеллигенция.
Беда в том, что агонизирует общинное, роевое-строевое житье, идет ко дну гордый «Варяг» советского Колхоза. Когда-то и в этой жизни были свои подвиги, свои герои и злодеи, даже свои добродетели. Но все выветрилось, обмельчало, выродилось в одно дружное строевое чувство: в коллективную злобу.
И вот об этой, трагической в общем ситуации режиссер рассказывает в стиле баек-юморесок наших «писателей-сатириков». Время от времени кажется, что картину снимал Мамин, а не Кончаловский и вместо Чуриковой играет Ахеджакова. С неслыханным мужеством и упорством режиссер, никогда не отличавшийся в комедии, выдерживает комическую тональность почти на протяжении всего фильма вплоть до сцены самоподжога, которая, конечно, не смешна. Если кончается естественный юмор, в ход идут казарменные остроты – надо же выдержать взятую тональность. Если бодрый темп «комедии-лубка» падает, его взвинчивают нарочно – музыкой, спецэффектами. А взвинтив, тут же топят в мелодраматических слезах. Зачем? Вот загадка не хуже сюжета «Курочки Рябы». Попробую выдвинуть свою версию.
У нас часто рассуждают о таланте, мастерстве как о неких субстанциях, дополнительных к личности человека. А ведь лично своеобразное и строго определенное отношение к явлениям жизни – непременная часть таланта. Мне кажется, Кончаловский так и не определился в своем отношении к отечественному Колхозу, поскольку опирался не на почвенное чутье, а на доводы рассудка.
Начинается все с явной карикатуры, и Чурикова остро и смешно, в духе своих ранних ролей, играет злобную, туповатую тетку, колхозную Валькирию, Мать-Родину советского строя, которая марширует к дому единоличника с портретом Брежнева на груди, а затем, скрючившись от ненависти, даже решает этого единоличника поджечь.
Но кто его знает! – думает, как мне показалось, Кончаловский. – Может, колхоз-то лучше выражает сущность русской души, чем горделивый хутор.
И вот, что называется, с места в карьер Чурикова начинает «воплощать русскую душу», жалостливую и печальную. Вообще, для актера «изображать русскую душу» – задача из клинических. Потому при всем мимическом разнообразии игра Чуриковой в диапазоне «карикатура-символ» не свободна от фальши.
Как не свободен от нее и весь фильм, чья живая и острая тема с трудом пробивается сквозь плотный слой зубоскальства и мелодраматического надрыва.
«Зачем ты в наш колхоз приехал?»
1994
Русь улетающая
О фильме Эльдара Рязанова «Небеса обетованные»
Серым тянутся тени роем,
В дверь стучат нежеланно гости,
Шепчут: «Плотью какой покроем
Мы прозрачные наши кости?
В вихре бледном – темно и глухо.
Вздрогнут трупы при трубном зове…
Кто вдохнет в нас дыханье духа?
Кто нагонит горячей крови?»
Вот кровь – она моя и настоящая!
И семя и любовь – они не призрачны.
Безглазое я вам дарую зрение
И жизнь живую и неистощимую.
Слепое племя, вам дано приблизиться,
Давно истлевшие и нерожденные.
Идите, даже не существовавшие.
Без родины, без века, без названия…
Михаил Кузмин
Аспиранты, вот вам тема для диссертации: «Эльдар Рязанов как народный гений».
Исследуйте, почему и каким образом этот веселый толстый человек столь органично и ловко перерабатывает миллионы разнородных энергетических импульсов, поступающих от населения родной родины, – и перерабатывает именно в то, в чем у родины душевная нужда. Не рассчитывает, не прикидывает, не вычисляет. Те, кто рассчитывает и вычисляет, снимают сейчас фильмы, к примеру, о шикарной любви модного писателя к роскошной дикторше ТВ. Все давно, бодро и, как водится, хором сказали, что народ не будет больше смотреть никакой мрак о своей жизни. И, здравствуйте пожалуйста, «Небеса обетованные» – при полном зале и с аплодисментами по ходу фильма.
Собственно, благодаря Рязанову понимаешь, что советский народ на самом деле был. Он имел свою историю, свои подвиги и преступления, своих героев и праведников, свою духовную и душевную жизнь, свои, выработанные временем, полновесные характеры и крепкие типы.
«Летела птица, звать ее: всему конец» (Юрий Кузнецов). Больше никогда не будет ни старых большевичек, ни художниц-нонконформисток, ни полковников, бравших Муданьцзян, ни обкомовских матушек, ни бедных евреев-отказников со скрипочкой в ручках…
В очередной раз – Русь улетающая безвозвратно, навеки.
Вместо всего этого построят большой завод по производству презервативов – «чтоб таких, как ты, больше не рождалось» (из анекдота).
Наверное, с точки зрения киноискусства, это «плохой» фильм. Но сию тему я развивать не буду – во-первых, кто я такая, чтобы воплощать точку зрения киноискусства? Во-вторых, рязановский фильм не то что не мог – просто-таки не имел права быть «хорошим» (гармоничным, совершенным…).
Ибо: «Небеса обетованные» – последний советский фильм.
Где-то прочла, что инвалидам и пенсионерам устроили благотворительный сеанс – разрешили посмотреть «Небеса» бесплатно. О, надо бы круче выдумать, да нет никакой возможности.
Анализировать картину Рязанова нечего – она ясна, как пустая тарелка. Мне нравится в ней все: плакатный стиль, клочковатость, праздничная маскарадность. Забавно: голодная Ольга Волкова душераздирающе глядит на Эльдара Рязанова, поедающего свой обед в столовке. Если бы вместо себя Рязанов снял в этой сцене любого всерьез играющего актера, сцена сделалась бы нестерпимо мыльно-мелодраматической. Победно-героическая веселость фильма даже как-то заглушает мысль о грядущих талонах на бесплатную смерть. Единственно что: в последней части фильма, когда народ в лохмотьях стоит и смотрит в небо, хорошо было бы Рязанову снять всех знаменитых актеров – любимцев публики. Пусть бы в толпе стояли и Мордюкова, и Никулин, и Гурченко, и Фрейндлих, и Ефремов, и Табаков, и Вертинская, и Быков – все!
Злодейчик в картине всего-то один, играет его Александр Белявский. (По опыту кинозрителя давно знаю: если в картине появляется Белявский – добра от него не жди, это не Фоксом началось, не Рязановым закончится.) Каково классовое происхождение злодейчика, Рязанов не уточняет – коммунист ли это, демократ, мутант. Будучи народным гением, режиссер твердо знает одно: начальник есть начальник. Начальник может быть занят только одним настоящим делом: войной с народом до победного конца. («Эй, начальник!» – восклицание Кинчева из песни «Земля» и Шевчука из песни «Родина» – тоже умницы оба.)
«О-о, Веничка! О-о, примитив! – Пусть, отвечу я. Пусть примитив». Тут не поиск интеллектуальный, не сознательное решение, а одна голая эмоция. Эмоцию же оспорить невозможно, и какие возражения предъявишь ты ей?
Один историк театра, рассуждая об исполнении Михаилом Чеховым роли Гамлета, неожиданно-грустно заметил (дело было в 20-х годах): вот, мол, оказывается, что старый мир в своем крушении уносит не только отжившее и бесполезное – он прихватывает с собою еще и благородные образцы человеческих пород, которым больше никогда не суждено возродиться в их неповторимом своеобразии.
Каким образом наша жизнь рождала «благородные образцы человеческих пород» – тьма и тайна, но рождала: факт.
Даже трижды проклятая идеология – и та не была сплошь черной, мелькали некие золотые нити, полузабытые и перевранные, но алмазные слова – о каком-то, что ли, труде на благо человечества, о братстве и взаимопомощи… В юности, помню, именно эти отвлеченности и волновали.
Смешно было бы требовать от Рязанова, чтобы он стоял как дурак по стойке «смирно» и кричал: «Чик-чирик! Зло ушло – добро пришло! Прощай, старая жизнь! Здравствуй, новая жизнь!» Оставим это лакеям от журналистики, которые так любят воспевать новых министров и председателей правления банков.
Лакеи себя видят в новой жизни отчетливо – на прежней, но более высокооплачиваемой должности. А Рязанов не очень-то видит.
Как исповедующая безудержный лиризм, замечу: и я себя в новой жизни не вижу.
Допустим, сочиню я статью о том, что искусство – это роза в хрустальном бокале и пенье соловья на рассвете (в самом деле, дошла я до мысли такой). Напечатают, скажем. Рядом будет красоваться реклама какой-нибудь системы бирж «Алиса» («Алиса» – это гениальная рок-группа, ничего больше, а вы, господа, самозванцы), и очередной Фунтиков-Стерлингов станет с апломбом учить всех жизни вкупе с обещаниями утереть все слезы, позолотить все ручки и возродить первым делом культуру. Вот мое место. Не хочу.
Великолепно передала это ощущение Лия Ахеджакова – «не хочу я вашего ничего».
Не хочу ваших Тарасовых, Айзеншписов и Таги-заде, ваших мэрий, презентаций, префектов и презервативов, ваших брокеров, бартеров, чартеров и Гайдаров, ваших ССГ и СНГ, ваших интервью газете «Рреп-пубблликка»… ваше-го-всего…
«Каждый последующий строй был хуже предыдущего, но за это надо было бороться» (из дневника юности).
Мальчик без штанов: новые приоритеты
Святая Русь! Обыкновенный разум
Судьбы твоей вместить в себя не в силах!
Н. Кукольник.
Рука всевышнего отечество спасла
Вышла после «Урги» Никиты Михалкова, облегченно вздохнув. Слава богу, русских не обосрали. Смесь легкомысленных приколов и показной сентиментальности у Михалкова иногда возвышается до убедительного союза чувствительности и юмора. Русский в гениальном исполнении Владимира Гостюхина лучший тому пример. Одно дело декламировать, что «умом Россию не понять», и совсем другое – сотворить такого смешного и трогательного человечка.
Да, это он, любимый наш «мальчик без штанов» из щедринского сна, вечный мученик истории. Среди мирового существования, отлитого в определенные формы, он – без формы, без места, без обряда, без порядка. Неподвижные маски Востока выгодно оттеняют его беспокойную подвижность. Сотни выражений сменяются на его лице ежесекундно, пока люди Востока, не двинув и бровью, плывут в потоке своей величавой обрядности. А он мается-болтается, комок неоформленной души. Но, однако, какая в этих измученных глазах отзывчивость, готовность к восприятию, жадное любопытство к мучительнице-жизни, тоска по теплу. Кстати сказать, в конкретных обстоятельствах его жизни (как персонажа определенного сюжета) нет ничего особого и чрезвычайного, его страдальческая тоска надиндивидуальна.
Громадное число людей мира живет по порядку, по обряду, по закону – то есть как заведено. Русские так жить не могут, потому что у них мало что заведено. А если заведется вдруг, так скоро разведется. Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. С одной стороны, бесформенность есть невыносимая мука. Мука эта будет долгое время и неизбывна, ибо общего порядка нет. И даже если он начнет заводиться, это будет очень молодой порядок: он не даст ощущения накатанного, удобного, автоматического житья.
С другой стороны, от постоянных попыток выстроить свои индивидуальные взаимоотношения с жизнью русские лица покрывает интересная бледность, выражение их усложняется и частенько являет собой характерное сочетание оживленного любопытства (вплоть до игривости) с особой печатью страдальческого беспокойства.
Век ли, вечно ли Россия обречена трудному самосознанию и самоопределению в семье народов земного сообщества? Труд этот – в мысленном пространстве, где, в отличие от реальности, существуют и двигаются целостные формы. Где «Россия», «Европа», «Америка», «Запад», «Восток» суть развитые образы человеческого воображения и провиденциальной воли.
Осторожно топоча по скользким дорожкам немытого Петербурга, я отлетаю в сияющие пространства увлекательных споров о России и живо ощущаю, насколько натуральна, не выдумана сообщность людей-разумов. Россия Пушкина, Россия Достоевского, Россия Мусоргского, Россия Нестерова, Россия Блока… и так далее… а ведь будто есть где-то точка совмещения всех «Россий»… и все шлифуется, все совершенствуется черный алмаз духовного образа страннейшей из стран. «Вернитесь на землю!» – скажете вы. А что на земле? На земле критик Писарев когда еще сказал: «Во-первых, мы бедны, а во-вторых, глупы».
Можно сказать совершенно наоборот, то есть: во-первых, мы богаты, а во-вторых, умны. И тоже будет похоже на правду. Вообще, не знаю, замечали ли вы, что ни скажи про Россию и русский народ – все будет похоже на правду.
Глупы? Глупы. Умны? Умны. Ленивы? Ленивы. Работящи? Работящи. Добры? Добры. Жестоки? Жестоки… Господи, думаешь, может, русских не одна нация, а две? Две нации, совмещенных под одной шапкой. Которая горит.
Тут автор что хотел сказать. Он хотел сказать, что, вооружившись дедуктивным методом восхождения от частного к общему и пытаясь восходить от русской действительности к обобщениям, мы можем с читателем заплутать. Но, оседлав индукцию и спустившись с высот обобщений к действительности, мы рискуем не застать действительность на месте. Поэтому мы пойдем русским, то есть особенным, путем. Несколько вкругаля.
Когда из уст маленького круглолицего человека, возглавлявшего партию Люцифера, впервые вылезли слова «приоритет общечеловеческих ценностей», я подумала, что либо уже скончалась и присутствую на заседании чистилища (я ведь на чистилище рассчитываю), либо провиденциальные силы крепко взялись за Россию. С какой стати, каким чудом, с чьего попущения раздались эти сладкие слова? Какая плененная царевна взломала решетки своей темницы? Какой спящий богатырь икнул, очнувшись от векового сна?
И – ничего. Кострома не вздрогнула, Смоленск не почесался. А ведь все, что стряслось потом, что помчалось-понеслось на вытаращенных наших глазах, было просто-напросто следствием таинственного «приоритета» неведомых «общечеловеческих ценностей».
Опять же любители дедукции укажут мне на коммерческий ларек, сверкающий ночными огнями посреди русской грязи, и спросят: «Это – ваши хваленые „общечеловеческие ценности“?»
А именно. Разве деньги – не бесспорная общечеловеческая ценность?
«Несчастие еще не униженье. Русь никогда унижена не будет» (Н. Кукольник. Рука всевышнего отечество спасла).
«Общечеловеческие ценности» вернулись на Святую Русь оживленной и разномастной гурьбою. Каждая из светлых ценностей вела за собою своего демонического двойника.
За радостными бликами восстановленных крестов – свобода вероисповедания! – тянулись сектанты, лжепророки, темные безумцы. За святыми страницами дорогих книг свобода слова! – влеклось болтливое и кровожадное мракобесие. За оправданием плоти и весны – привет божественному Эросу! – шла торговля гениталиями.
А за то, что «стало видимо далеко во все стороны света» и другой чужой незнаемый мир сделался так близко, – русские расплатились тем болезненным чувством, что нередко зовут «чувством национального унижения».
У них-то… а у нас-то…
«МАЛЬЧИК БЕЗ ШТАНОВ …ты мне вот что скажи: правда ли, что у вашего царя такие губернии есть, в которых яблоки и вишенье по дорогам растут и прохожие не рвут их?
МАЛЬЧИК В ШТАНАХ. Здесь, под Бромбергом, этого нет, но матушка моя, которая родом из-под Вюрцбурга, сказывала, что в тамошней стороне все дороги обсажены плодовыми деревьями…
МАЛЬЧИК БЕЗ ШТАНОВ. Да неужто деревья по дороге растут и так-таки никто даже яблочка не сорвет?
МАЛЬЧИК В ШТАНАХ (изумленно). Но кто же имеет право сорвать вещь, которая не принадлежит ему в собственность?!
МАЛЬЧИК БЕЗ ШТАНОВ. Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали! У нас, намеднись, дядя Софрон мимо кружки с керосином шел – и тот весь выпил!» (М.Е. Салтыков-Щедрин. За рубежом).
Великому и ужасному Щедрину даром не нужна была подобная слава – если бы он, бедный, знал, что спустя сто с лишним лет, читая эти его строки, редкий русский не расхохочется!
Сто лет, боги мои, сто лет! Да за сто лет работы всю Россию можно было засадить вишневыми деревьями, чтоб эта вишня уже в рот не лезла, чтоб ее девать было некуда, чтоб ее сушили и возами отправляли в Москву… А мы чем занимались?
Нет-с, это вам не «унижение великого народа» – это совесть болит после беспримерной исторической гулянки.
И каждый раз, когда русский в тоске мотает головой, повторяя свое треклятое: «у них-то… а у нас-то…», – начинает тихо прорастать рациональное зернышко.
Натурально, рядом со всяким тихо прорастающим рациональным зернышком тут же расцветает чертополох иррационализма. Не без того.
Идти ли нам своим особенным путем или не-своим и не-особенным? Никаким другим путем, кроме своего особенного, мы не пойдем, потому что не можем. Какие бы формы общежития ни перенимала наша страдальческая бесформенность, какие мировые законы мы бы ни внедряли, что бы ни копировали – все неумолимо обернется своим и особенным. Бессмысленно при таком обороте дел еще и дополнительно заботиться о своеобразии. Резко оригинальный человек не заботится специально о своей оригинальности (иначе он позер и фуфло), а ведет себя в согласии с законами общежития и по возможности проще. От декларации прав человека, хороших дорог, суда присяжных и собственности на землю никаких бед с русским духом не приключится.
Истерический «патриотизм», если он не шарлатанство, есть психическая болезнь части национального сознания, смесь паранойи и шизофрении с поиском вечно русофобствующего врага и стойкой манией величия. Это неизлечимо. Этой части национального сознания суждено скончаться в сумасшедшем доме, на руках плачущих врачей.
Величие потому и величие, что оно не ищет врагов, не опровергает критики, не вступает в полемику, не ищет подтверждений, не слушает славословий, не замечает непризнания.
Корреспондент: «Борис Николаевич, что будет, если народ не примет Конституцию?» Ельцин: «Я этого не допускаю» («ТВ-новости», 12 декабря 1993 года). Если на одном полюсе кривой оси координат помещается психоделический патриотизм, то на другом располагается более молодая, менее оформленная космополитическая идеология, хорошо представленная художницей-жизнью в типах романтического жулья, которое условно именуется «русские миллионеры».
«ИВАН. Отчего это он все молчит?
ТАВРИЛО. «Молчит». Чудак ты… Как же ты хочешь, чтоб он разговаривал, коли у него миллионы! С кем ему разговаривать? Есть человека два-три в городе, с ними он разговаривает, а больше не с кем: ну, он и молчит. Он и живет здесь неподолгу от этого от самого; да и не жил бы, кабы не дела» (А.Н. Островский. Бесприданница).
Мокию Парменычу Кнурову можно было молчать, так неоспоримо было его право на жизнь, так много было умельцев говорить за него. Романтическое крыло отечественной буржуазии, отлитое в чудных образах печальноглазого Чайльд-Гарольда Тарасова, особо почему-то ненавидимого мной Германа Стерлигова или вечно улыбающегося, как Джоконда, Борового, – это крыло страстно любит поговорить. Не надеяться же им на московских (по выражению Градского) «журналюг», которые твои щи съедят да в твою ж тарелку и плюнут.
Нет, они говорят сами обо всем, потому как все знают, все понимают, все умеют. Единственно, когда их спрашивают, как же стать миллионером, они, скромно потупившись и невольно усмехнувшись, отвечают: трудиться. За ротой этих романтиков идут полки менее художественно оформленных и говорливых, но с тою же святой убежденностью, что «общечеловеческие ценности» у них, что называется, в кармане.
Но именно потому, что они, ценности, слишком реальны, что нет никаких препятствий к их отъему, что разрыв этих деятелей с жизнью фатален, – так двусмыслен их взгляд, так преувеличенно напористы речи. Святое искусство, почтительно кланяясь и заверяя в уважении, потихоньку скрещивает пальцы в кармане.
Все знают, что Штольц – молодец, а любят Обломова. Сердцу не прикажешь. «Оно конечно, – говорит искусство, – надо трудиться. А может быть, на самом деле надо лежать на диване и не приносить тем самым никакого вреда Родине?» Совсем бесполезный человек – Александр Сергеевич Макаров, поэт из фильма Владимира Хотиненко «Макаров», – все равно бесконечно выше стоит на лестнице мироздания, чем опереточный злодей-буржуй Савелий Тимофеевич – чванливый и претенциозный глупец, натуральный, слегка прикрытый приличными одеждами бандит. Ох, ох. Как волка ни корми, он все в лес глядит. «Ну не люблю я тебя», – читается в глазах больших и малых художников, обращенных к милостиво протянутой руке. Глубокая тоска звучит в благодарных речах о таких хороших банках, вложивших деньги, о таких чудесных продюсерах, заключивших контракт, о таких милых предпринимателях, недавно подаривших инвалидам что-то. Непонятно, правда, куда инвалиды все это подевали – ведь, судя по количеству заверений и уверений о помощи инвалидам, наши инвалиды должны кушать из золотой посуды… Глядит, глядит в лес неблагодарный русский волк…
То ли ему, кроме задранного ягненка и полной луны, ничего не надо. То ли он смутно вспоминает когда-то звучавшие речи о «Грядущем Хаме» и подозревает, что Хам наконец грянул. То ли, по звериной своей сути, понимает самоуверенность, но не выносит самодовольства… Но что-то чудится, будто брачный контракт между искусством и капиталом грозит чьими-то преждевременными похоронами. И это единственный случай в моей жизни, когда я рада буду оказаться неправой.
«Он Русь любил, а русских не любил. И, кажется, был прав» (Н. Кукольник. Рука всевышнего отечество спасла).
На заре туманной юности-перестройки мне довелось участвовать в первом молодежном номере журнала «Искусство кино» со статьей «Отечественные заметки», где я писала о «духовном образе нации», как он тогда мне представлялся. В частности, там я вспоминала эпизод «Набег» из фильма Тарковского «Андрей Рублев», когда один из защищающихся вдруг изумленно кричит своему врагу: «Братцы! Да вы же русские!» «Я тебе покажу, сволочь владимирская», – отвечает тот.
Далее, из своего восемьдесят восьмого года, я рассуждала так: «Местное сознание при всем обаянии своем (люблю не отвлеченную химеру, а то, что знаю, свой кусочек земли) может обернуться бедой, этим самым „я тебе покажу, сволочь владимирская“. Не грозит ли оно нам? Нет, пожалуй, пока нет. Бродят-ходят, не дают покоя скрепляющие идеи и чувства. Скрепляет и ощущение общей драмы, общее стояние на краю…»
Кто поручится теперь, что в Казани и Петропавловске-Камчатском, Красноярске и Липецке человек не получит свое перышко под ребрышко с восклицанием: «Я тебе покажу, сволочь московская»? И в этом случае, говоря «Россия», – о чем мы говорим? Может, пора объявлять республику Санкт-Петербург? Может, пора ноги уносить от «темного царства»?
Нет. Если русским так нужна воодушевляющая идея, то ее нетрудно сервировать. Например, объявить Петербург тем самым местом, где идеальная Россия должна встретиться с идеальной Европой. Никакое другое место не выполнит сей прекрасной, почетной и образцовой задачи. Для нас главное – не расставаться с идеалами, раз иначе мы не можем. А судя по всему, не можем.
Даже вымороченное поколение, которое выбрало «пепси» с ужасающей пустотой в трезвых глазах, полной неспособностью к чувствам и рукой, все ищущей кобуру, – даже они, вследствие какого-то трагического выброса в атмосферу, желают чего-то идеального, с болезненной жадностью пожирая реальность…
Неужели точность земного, твердого, благожелательного к человеку закона так-таки несовместима с горними томлениями духа? Ведь можно же «гулять» раз в месяц, согласно гениальному рецепту из рассказа Н.С. Лескова «Чертогон», но после, в чистой рубашке, под образа – и опять за честную работенку, чертей-то повыгнав. Ведь можно возлюбить самого себя лучшего, идеального, а не в нынешнем копаться, все отыскивая грошовые бездны. И ведь, наверное, возможно принимать свой пуп за центр мироздания не все 365 дней, а только через день.






