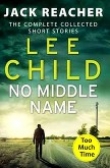Текст книги "На одном дыхании!"
Автор книги: Татьяна Устинова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Принцы женятся на золушках. Министры на секретаршах, миллионщики на манекенщицах, бизнесмены на королевах красоты и молоденьких певичках.
Принцам быстро надоедают золушки, певички и королевы красоты, и, измученные скукой и непониманием, принцы берутся за ум и принимаются искать «хороших девушек» – воспитанных, порядочных, добрых и умных, – чтобы осчастливить их, «создать семью» и завести очаровательных малышей и большую собаку. Семейный автомобиль, зеленую лужайку и дом с камином.
Варя, будучи девушкой здравомыслящей и как раз «из хорошей семьи», о женихах «высокого полета» вовсе не мечтала, конечно, но… присматривалась. Верила, что самое главное оказаться в нужное время в нужном месте, а там… посмотрим.
Угольно-черные ресницы Разлогова долго не давали ей покоя. Ей повезло – она работала вроде бы в офисе, а вроде бы и нет – на шестой «начальничий» этаж офисная мошкара залетала редко, почти никогда, только во время каких-нибудь совсем больших совещаний и торжественных заседаний под праздники. Варя всегда была с «большими» – начальниками и их ближайшим окружением, то есть как бы над болотом, в котором селились лягушки и роилась мошкара. Девушки, цокающие на шпильках с утра в будние дни, девушки, в хмурых осенних рассветных сумерках являвшиеся на работу в декольте и ярко-алой губной помаде, были ниже, населяли те самые пять этажей, куда Варя спускалась только «по делу».
Принцы, таким образом, были в ее полном распоряжении и безраздельном владении, по крайней мере в рабочее время.
И тут подвела ее улица Тухачевского и прочитанные на диване кипы глянцевых журналов!
Там, в журналах, ничего не говорилось о том, что принцам прежде всего нужно… работать. Что работа – главное в их жизни, альфа и омега, первое и последнее, что у них есть, а все остальное лишь приложение к ней.
Принцы куют деньги и проводят в кузнице куда больше времени, чем на курортах, в Давосе и на горных склонах.
Принцам скучно – как с певичками, так и с порядочными девушками «из хороших семей». Детьми они обзаводятся только для того, чтобы в далекой перспективе было кому оставить кузницу вместе с горнилом. Семейный автомобиль водит шофер. В дом с лужайкой и камином принцы наезжают крайне редко, предпочитая ночевать «в городе», в громадных московских квартирах, предназначенных «для одного» – и вовсе не за тем, чтобы предаваться там непременному и соблазнительному разврату, а для того чтобы выспаться и не стоять с утра в гигантских пробках. Ведь надо на работу!
Принцы оценивали людей – и мужчин, и женщин – исключительно с точки зрения их полезности для дела.
Варя была им полезна, и они относились к ней по-своему прекрасно.
И все. Все!..
В Женеве, куда ее взяли переводить в магазинах и ресторанах (в свое время она окончила курсы английского), она увидела Монблан. Идиллическая картинка, воспроизведенная на кружках, открытках, майках и просто сувенирной чепухе! Изумрудные лужайки, голубые ручьи, сахарная приветливая вершина в безоблачном, чистом, нерусском небе. Варя садилась на газон на набережной, откусывала от багета и любовалась, и фотографировала. А потом Разлогова зачем-то понесло в горы, и они заехали далеко и высоко, остановились возле какого-то шале, от которого можно было подниматься только пешком. Здесь было холодно, дул ледяной и острый ветер, скалы нависали угрожающе, и вершина, мерещившаяся снизу такой соблазнительно сверкающей, вовсе не сверкала, была припорошена песком и гранитной крошкой и оказалась мрачной и недостижимой.
– Так всегда бывает, – сказал ей подошедший Разлогов. Он мерз и часто шмыгал носом. Варя искоса на него взглянула. – Заберешься на вершину, и ноги не держат, и сил больше нет, и стоять неудобно, и холодно, и одиноко, а впереди только следующая вершина. Но если долго не двигаться, голова закружится, и в пропасть сорвешься!
И постепенно за это их упорство, за умение не стоять на месте, за то, что в пропасть не сорвались, Варя стала их уважать.
Она стала их уважать и все простила – равнодушие, черствость, невозможность женить их на себе и хорошенько ими попользоваться!.. Она простила им их виски по пятницам на работе, иногда до поросячьего визга, их любовниц, их одержимую требовательность, несдержанность и швыряние в стену документов, если что-то вдруг не понравилось!
Швырял Разлогов, конечно, а Волошин никогда.
Она захотела… «соответствовать». Жесткое расписание на день, оценка собственной эффективности – да-да! – дорогие очки, белое пальто и только вперед!
Мама ничего этого не понимала. Маме не нравилось, что дочь день и ночь торчит на работе, и еще по выходным, а бывает, и по праздникам!
Тети, дядья и двоюродные во время семейных застолий смотрели на нее странно, а она хватала телефон после первого же звонка и мчалась на работу – только там ей было интересно, только там она чувствовала себя на месте.
А потом Разлогов умер. Просто взял и умер.
Варе вдруг стало нечем дышать, она зашарила рукой по обивке, нащупала ручку, дернула и почти вывалилась наружу.
– Ты куда?! Я тебе велел сидеть, не дергаться!
Про Вадима она совсем забыла.
– Что-то меня… тошнит.
– С голодухи тебя тошнит! Тут дождина льет! Лезь обратно, только тихо, видишь, она на домкрате у меня!
Варя помотала головой – не полезет она обратно!
– Лезь, говорю! Пальто изгваздаешь! Догадалась тоже в нашем климате такое пальто купить!
Он же не знал, что это не пальто, а вызов!..
Очки запорошило дождем, и узкая и пустая улочка «тихого центра» виделась смутно, как вдруг из-за поворота ударил свет фар, и Варя зажмурилась.
– Придурок, мать твою!
Вадим проворно, как заяц, метнулся за капот, и мимо них в облаке дождевой пыли пролетел черный автомобиль.
Они проводили его глазами.
Автомобиль затормозил перед шлагбаумом, стал как вкопанный, ткнулся рылом почти в полосатую шлагбаумную руку. Шлагбаум немного подумал и поднялся, пропуская машину на стоянку. Машина была знакомой. Собственно, они точно знали, чья она. Они посмотрели ей вслед, а потом друг на друга.
– Чего это его принесло среди ночи? Ты же ему вроде звонила, и он сказал – до завтра?
– Не знаю. – Варя сняла залитые дождем очки и сунула их в карман пальто.
Они помолчали и опять посмотрели друг на друга.
– Может, мне вернуться? – нерешительно спросила Варя сама у себя. – Или позвонить ему?..
– Да что ты придумываешь?! – взвился Вадим. – Тебе домой чего, совсем не надо?! Не наработалась за день?! Прямо рвение у тебя какое-то открылось!
– Зачем он приехал? – не слушая его, продолжала Варя задумчиво. – Ночь же! И мне он сказал, что с бумагами ничего не будет, да и бумаги-то, на самом деле…
– Чего ты там бормочешь?!
В кармане светлого Вариного пальто затрезвонил мобильный телефон, и, совершенно уверенная, что звонит измученная ожиданием мама, Варя выхватила трубку. Даже не взглянула.
– Да, мамочка! Я уже совсем, совсем скоро!
– Мне известно, что вы убили Владимира Разлогова, – сказал ей в ухо равнодушный голос. – Известно, за что и каким способом.
Варя молчала.
– Я позвоню вам еще раз и сообщу, что именно хочу за свое молчание.
Варя отняла трубку от уха и посмотрела в окошечко. Номер, ясное дело, совсем незнакомый.
– Чего там? – спросил Вадим и покатил снятое колесо к багажнику. – Мамаша на нервах? Вот е-мое, все мокрое, блин! Придется завтра…
Варя не слушала.
Она проворно прыгнула на переднее сиденье. Зажгла лампочку под потолком и нажала кнопку.
Если этот человек ей звонил, значит, и она может ему позвонить? Посмотрим, что из этого выйдет.
Не вышло ничего. Трубка отозвалась переливчатыми трелями и сообщением о том, что «аппарат абонента выключен»…
Варя подумала еще несколько секунд. Совершенно хладнокровно.
Вадим сел рядом, о чем-то спросил. Она не слышала.
Нужно позвонить. Очень страшно, но это нужно сделать! И она опять нажала кнопку вызова.
Долго не отвечали. Она считала гудки.
…Три. Четыре. Пять. Шесть.
– Да, – голос нетерпеливый, почти сердитый.
– Марк Анатольевич, извините, что так поздно, – выпалила Варя второй раз за этот бесконечный вечер. Вадим вытаращил глаза. Машина вильнула.
– Да, – повторил Волошин. В глубине, за его голосом в трубке, царила мертвая тишина, как будто он разговаривал из склепа.
Не из склепа. Всего лишь из ночного офиса!..
– Мне сейчас кто-то позвонил, – отчеканила Варя. – Этот человек не назвался, он сказал…
Тут она вдруг споткнулась. Выговорить это, оказывается, было непросто.
– Что? – раздраженно спросили в трубке.
– Марк, вы знали, что Разлогова убили?
– Что?!
– Так сказал этот человек, – объяснила Варя, глядя перед собой.
Дождь все лил. «Дворники» мотались по стеклу.
Сон был такой легкий и прекрасный, что она, кажется, даже засмеялась.
Как будто все на месте – и Разлогов, и его собака. И даже мясо собираются жарить на знаменитом разлоговском мангале. Хотя, шут его знает, наверное, это и не мангал вовсе!.. Целая печь, сложенная очень искусно – углубление для казана, если кому взбредет в голову плов готовить, специальные решетки для сковородок, если корюшку жарить, и отдельное место для мяса. Разлогов от печника не отходил, когда тот сооружал свой шедевр. Даже на работу не ездил, вот уж на него не похоже!.. Печник был непростой. Специально выписанный то ли из Магадана, то ли из Анадыря – Разлогов уверял, что нигде так не умеют класть печи, как на русском Севере! Удивительный печник, бородатый, веселый, руки лопатами, жил в доме на положении гостя. Работал по двенадцать часов – выкладывал печь, – а по вечерам покуривал трубочку, посиживал с Разлоговым у камина, вел долгие разговоры. Каждый вечер они пили водку, запивали ее пивом, утверждая, что «пиво без водки – деньги на ветер!», заедали строганиной. Печник выволакивал из морозильника твердую, как камень, замороженную рыбину, похожую на обрубок бревна, и здоровенным острым, как бритва, ножом состругивал тоненькие скручивающиеся полосочки. Эти полосочки потом макали в перец и соль и заедали ими пиво с водкой.
Утром пораньше вставали – и за дело, печь класть. Они и одеты были как близнецы – в брезентовые штаны, толстые свитера, тяжелые ботинки. Разлогов в этой одежде терял весь свой московский офисный лоск и становился похожим на старателя – не какими их показывают по НТВ в кинокартине «Золото-2», а какими их снимал Юрий Рост, знаменитый фотохудожник, знаток жизни и человеческих душ.
Ну вот, сон. И как будто костер горит в середине каменного круга – печник тогда соорудил еще и костровище, сказав что-то вроде: «Негоже в доме да без живого огня, дух огня обидится, не ровен час, а огню особое место потребно, почетное!»
И соорудил. Рядом с печью засыпали круглым речным камнем площадку, в центре выложили углубление, кругом поставили березовые лавки, и Разлогов теперь все время жег костер, подолгу смотрел в огонь. Что он там видел?..
Так вот, сон. И как будто гости приехали. Приятные, легкие. И день приятный и легкий – осенний, свежий, терпкий и солнечный. И как будто на подносе вносят какую-то красоту и радость, одно предвкушение которой доставляет удовольствие: толстодонные стаканы, виски в высокой бутылке, свежий хлеб толстыми ломтями, буженина, крепенькие, холодненькие соленые огурчики, розовое сало и – отдельно! – горка жгучего хрена. Все очень по-русски и называется – «закусить до мяса». И само мясо, гвоздь программы, маринованное в травах, лимоне и вине, такой красоты, что хоть сырым его ешь!..
И все гости в ярких горнолыжных куртках, джинсах и свитерах – любимый разлоговский вариант, – и никто не спешит, и всем весело смотреть в огонь, прихлебывать виски, нюхать дым, бесконечно осведомляясь, скоро ли будет готово.
И пес Димка, грозный страж, ничего нынче не сторожит, и запирать его не надо, потому что приехали «все свои», и Димка всех отлично знает!..
Глафира вдруг подскочила так резко, что ей показалось, будто голова у нее оторвалась. Она придержала голову рукой.
Собака! Собака всех отлично знает! Тем, кого она не знает, лучше держаться подальше. Кто не спрятался – я не виноват.
Собака-телохранитель, бесконечно преданная хозяину и его семье. Очень опасная для чужих. Умный, расчетливый, хладнокровный зверь. Семидесятикилограммовая литая торпеда.
Когда мастиф спал перед камином – все лапы вверх, хвост в сторону, беззащитное розовое пузо мирно и спокойно дышит, – подходил Разлогов и садился на него сверху, как на диван. Пес покряхтывал, конечно, но нельзя сказать, чтоб здоровенный Разлогов, усевшийся сверху, очень ему мешал.
Если бы в дом тогда явился чужой, Димка не оставил бы от него мокрого места. Значит, был кто-то свой! Настолько свой, что Димка не только впустил его в дом, но и позволил остаться с хозяином! Настолько свой, что дал себя увести, – Димки не было в доме, когда Глафира приехала и… нашла Разлогова! Если бы убийца застрелил собаку, была бы кровь, а крови не было, не было!..
Значит, или увел, или разделался с псом так же, как с Разлоговым, аккуратно, бесшумно, бескровно.
Очень умный, очень близкий человек. Настолько свой, что даже пес ничего не заподозрил!
Глафира замычала тихонько – от бессилия и оттого, что голове было больно, то ли от мыслей, то ли от давешнего удара. Помычав немного, она спустила ноги со своего ложа – непривычно высокого, как в царской опочивальне, непривычно широкого и слишком пухлявого – и поплелась в ванную.
В квартире Прохорова она все время путалась, открывала ненужные двери, зажигала свет не там и поворачивала не туда.
Где-то что-то то ли пело, то ли разговаривало, и Глафира, пооткрывав не те двери, позвала хрипло:
– Андрей! Ты дома?..
Никто не отозвался, и Глафира, послушав немного, сказала сама себе:
– Нету тебя дома!
…А кто тогда поет и разговаривает? Впрочем, вряд ли Прохоров стал бы разговаривать сам с собой, а уж запел бы тем более вряд ли!
Наконец нужная дверь была найдена – Сезам, откройся! – и Глафира попала в ванную.
Зеркала, зеркала, мрамор, мрамор, хром, сталь, титан. Кадмий, литий, бериллий, ванадий – как в таблице Менделеева, – и посреди всего этого торчит она, Глафира, желтая, с синяками под глазами, с шишкой на голове, с облупившимся лаком на ногтях и в его пижаме.
Потыкав пальцами в ненужные кнопки, повертев ненужные ручки – хром, сталь, литий и кадмий, платина и палладий, – включая попеременно то подсветку пола, то стереосистему, из которой моментально грянул оркестр, то видеопроектор, то освещение гигантского аквариума с пираньями, Глафира в конце концов пустила воду и через некоторое время даже добилась того, чтобы она стала горячей. Похвалив себя за упорство и труд, Глафира вылезла из пижамы и, предвкушая счастье от сидения в горячей воде, принялась чистить зубы и рассматривать себя в зеркало.
Ничего общего с красотками в духе Разлогова. Зад широковат, груди тяжеловаты, ноги так себе – длинные, но… «тумбообразные», так сформулировал ее фитнес-тренер, производя «обмеры». Никаких аристократических тонких щиколоток. Продавщицы в обувных магазинах были снисходительней и называли это «высокий подъем».
Глафира остервенело чистила зубы.
Пошел он на фиг, этот фитнес-тренер!.. Собственно, он и пошел. После «обмеров» и первого занятия, в ходе которого выяснилось, что у Глафиры слабовата стенка живота, поэтому кожа отвисает так неэстетично, колени несколько дистрофичны, и носить короткое ей категорически нельзя, а руки такие полные, что обычная программа укрепления мышц ей не подойдет, Глафира подарила свою золотую клубную карту какой-то молодой мамаше с коляской, обретавшейся возле клуба.
Фитнес-тренер пару раз звонил, осведомлялся, когда Глафира придет на тренировку, а потом, к счастью, у нее украли телефон, и передняя стенка живота осталась в прежнем виде.
Впрочем, все это не имеет никакого значения!..
Глафира долго лежала в ванне, а потом с наслаждением мылила голову, осторожно обходя пальцами огромную шишку. Прикасаться к ней до сих пор было больно.
Напялив халат, расходившийся на груди, она слегка подула феном на короткие растрепанные волосы и отправилась искать кухню.
Она живет здесь уже несколько дней и все время путается! Интересно, можно в такой квартире прожить жизнь? Нет, в качестве арт-объекта квартира прекрасна. А жить?!
Раньше Глафира никогда не жила с Прохоровым… подолгу. Иногда они вместе спали, в основном в отелях, в основном за границей, где их никто не знал, и дома у него она была всего пару раз! И ей никогда не приходили в голову такие приземленные, неромантические мысли – как здесь жить-то?! Не попивать коктейльчик перед тем, как «все должно случиться», не принимать вместе ванну после того, как «все уже случилось», не прихлебывать кофе из одной чашки, сидя голыми за барной стойкой в гостиной, а… жить!
А Прохоров, в которого она была вроде влюблена?.. С ним можно жить?
Наверняка, бодро утешила себя Глафира. Вот они живут уже несколько дней, и все у них просто прекрасно! Правда, никакого интима, она все время лежит – болеет, открывает не те двери и так и не научилась пользоваться кофеваркой – иридий, палладий, ванадий и ряды кнопок, как в центре управления полетами.
И очень хочется домой. Так хочется, что, закрывая глаза, она все время видит одно и то же – широкие лиственничные доски, камин с закопченной задней стенкой, темные балки на потолке, яблоки в корзине у высоких дверей, распахнутых в сад. Гамак между соснами.
Надо было снять гамак. Что он висит, мокнет?..
– Мне нельзя раскисать, – громко сказала Глафира. – Ни в коем случае! Я все выясню и поеду домой. И сниму гамак!
Разлогов любил иногда посидеть в гамаке. Черт бы его побрал!..
В так называемой кухне – кадмий, литий, бериллий – Глафира разыскала турку, початую пачку кофе и какую-то колбасу за неприступной холодильной дверью.
Телевизор работал – вот, оказывается, откуда песни и разговоры!
Жуя колбасу и запахивая то и дело открывающийся на груди халат, Глафира с трудом взгромоздила себя на длинноногий, высоченный, элегантный стульчик и потянула к себе журнал.
Это был тот самый журнал, открытый на той самой странице.
Глафира глубоко вдохнула и выдохнула. Зачем Андрей принес его сюда, да еще забыл на самом видном месте?! Он же знает, что ей… неприятно.
Куда там «неприятно»! Она эти фотографии видеть не может! И не хочет! И не будет на них смотреть!
Она швырнула журнал, он поехал по стойке и шлепнулся с другой стороны, распластав страницы, как разноцветная бабочка, с лету вляпавшаяся во что-то липкое.
Глафира сварила кофе, дожевала колбасу. Распластанный на полу журнал не давал ей покоя. Прихлебывая кофе, она сползла с элегантного стульчика, подошла и двумя пальцами подняла журнал.
Я все понимаю, брезгливо подумала она про Прохорова. Работа такая. Обыкновенная работа за деньги, ничего особенного. Тебе платят. Ты ставишь материал в номер. Но ведь это не чья-нибудь чужая жизнь, до которой нам дела нету. Это моя жизнь. А следовательно, и твоя, если ты меня любишь!.. Хоть бы ты раз в жизни отказался! Ну отказался бы, и все тут!..
Впрочем, отказался бы Прохоров, поставил бы Сидоров или Петров. Какая разница!..
Только одна фотография ее интересовала – только одна из всего цветистого глянцевого множества! И, превозмогая себя, Глафира вернулась за стойку, неся журнал на отлете, шлепнула его на полированную поверхность и еще раз посмотрела.
Ну да. Белый пляж, загорелое тело в двух полосочках почти несуществующего купальника, совершенное, правильно припорошенное правильным песочком, и на заднем плане Разлогов.
Очень раздраженный. Вовсе не Аполлон. Решительно не красавец-мужчина. В плавках лучше не фотографироваться. Никогда. Даже после прохождения «обмеров» у фитнес-тренера.
Глафира еще раз взглянула в прищуренные от злости глаза Разлогова.
Погибель, а не глаза.
Скажи мне, откуда могла взяться эта фотография?! Подскажи мне хоть что-нибудь, иначе я никогда не найду убийцу! А «никогда» – очень плохое слово. Гораздо хуже многих других плохих слов.
В недрах квартиры что-то тонко пропищало. Глафира подняла голову и настороженно прислушалась. Загремело железо, лязгнули цепи, снова запищало. И Прохоров сказал откуда-то издалека:
– Ты моя хорошая. Ты моя красавица. Ждешь меня, да?
Глафира пожала плечами и запахнула халат. Любовь Прохорова к кошке Дженнифер не знает никаких границ. Впрочем, любовь вообще границ не знает.
– Ты красавица. Красавица, да? Королева красоты! Ну вот так, вот так… Глаша! Глаша, ты встала?..
Глафира опять пожала плечами, словно сомневалась – шут его знает, встала или не встала!..
– Глаша?
Прохоров показался на пороге кухни – голубая рубаха, клетчатый пиджак, ладные джинсы. С одной руки свешивается Дженнифер, с другой – офисная сумка из мягкой черной кожи.
Очень стильно.
– Ты чего не отзываешься? – подошел и поцеловал. Пахло от него упоительно, и все бы хорошо, только во время поцелуя Дженнифер болталась у него на локте, попадая хвостом в вырез Глафириного халата.
– Я решил, что с меня хватит, – объявил Прохоров, отрываясь от Глафиры. – Я пресс-конференцию в Кремле отсидел и в офис не поеду! Давай кофе пить, а потом по Москве шататься. Давай, а?
И сгрузил анемичную Дженнифер Глафире на колени.
Кошка была тяжелая и очень пушистая. Громадная, как гиппопотам. Она сразу вцепилась Глафире в ноги через халат.
– Ой, да отцепись ты!
Прохоров оглянулся и засмеялся:
– Девочки, не ссорьтесь!
Дженнифер смотрела на Глафиру презрительно.
Ты-то уйдешь, говорила ее недовольная физиономия, а я останусь! Еще посмотрим, кто кого.
– Она меня ненавидит.
– Не выдумывай.
Прохоров поставил перед Глафирой бутылку какого-то мудреного йогурта и чистый стакан.
– День надо начинать с натурального продукта.
– Я уже начала день с колбасы.
– Очень плохо. И зачем ты это рассматриваешь?! Нервы себе портишь!
Глафира попыталась спихнуть тяжелую и горячую Дженнифер, но та уперлась и не уходила ни в какую.
Кремень-кошка. Скала.
– Андрей, а зачем ты этот материал поставил?
– Прости.
– Да я не для того, чтоб ты извинялся, – вдруг вспылила Глафира. – Но неужели нельзя было… меня пожалеть?
Прохоров налил йогурт в стакан, отхлебнул и поморщился, словно хватил коньяку.
– Глаш, в нашем мире никто никого никогда не жалеет. Тебе это известно лучше других! Я не мог его не поставить.
– Мог, – возразила Глафира убежденно. – Ты прекрасно знаешь, что мы с Разлоговым…
– Вы?! – поразился Прохоров. – Вы с Разлоговым?! Это что-то новенькое. Доселе не бывалое.
– Хорошо, – помолчав, поправилась Глафира. – Разлогов и я всегда старались друг друга… щадить. И ему вовсе не нужна слава такого рода! То есть была. Не нужна была.
– Я понял, понял.
– И ты… со мной, – это она едва выговорила. – Ты все про меня знаешь, но эта гадость все-таки вышла, и именно у тебя!
Прохоров налил себе еще немного заветного йогурта и так же залпом выпил.
– Глаша, – сказал он совершенно спокойно. – Я тебя люблю. Ты это отлично знаешь.
– Я тебя тоже люблю, – сообщила в ответ Глафира.
– А Разлогов… ему же было наплевать на людей! На тебя, на меня, на собственную бабушку! Ему нужно было потешить самолюбие этой девицы, – Прохоров кивнул на фотографию. – Он заплатил за публикацию, и все! Дело сделано, Глаша! Что мы при этом чувствуем – наплевать!
Глафира молчала. Дженнифер навалилась ей на бедро, вытянула ногу почти к самому ее носу и принялась урча вылизывать бок.
– Ну хорошо, – сказала Глафира, – ладно. Ты ничего не мог поделать. А фотографии эти!..
– Что фотографии? – Прохоров повернул журнал к себе. – Обычные фотографии! Джентльменский набор.
Она хотела спросить про одну-единственную фотографию, ту самую, странную и загадочную. Она была уверена, что, разгадав тайну этого снимка, она освободит хоть одну ниточку из скрученного намертво клубка. Хоть бы одну – и то неплохо!
Спросить или не спросить? Можно или нельзя?
– Я хотел его снять, этот материал, – вдруг признался Прохоров. – Честное слово! Я же ничего не знал, Глаша!
– Чего ты не знал?
– Ничего. Я его даже не видел. Я дал добро на него и улетел в Венесуэлу. А Разлогов умер. Но я этого не знал! Ты же мне так и не позвонила! Я узнал только из новостей! – Он помолчал и добавил: – Да и не смог бы я вернуться! Нас так долго не допускали к Уво Сандэрсу, ну к их президенту, а мы ради него, собственно, и летали! Да-да, это ужасно, но я прежде всего журналист, Глаша! И интервью у него я все-таки взял! И хорошее интервью!
Глафира смотрела мимо него в окно на знаменитый храм, сначала построенный на народные деньги, потом взорванный для постройки бассейна, а потом построенный заново на месте бассейна. Дженнифер ожесточенно и громко вылизывалась у нее на коленях, шерсть лезла ей в рот, и она брезгливо дергала головой.
– Потом я прилетел, стал тебе звонить, ты сначала не брала трубку, потом взяла, и поговорили мы как-то странно…
– Это потому, что мне как раз в тот момент дали по голове, – напомнила Глафира.
– Глаша, перестань. Ты хочешь, чтобы я чувствовал себя виноватым еще больше? Или чтобы я сразу повесился?
Она не отвечала, смотрела на храм, и ее молчание Прохорову не нравилось.
– Что?
Она перевела на него взгляд и пожала плечами.
– Ничего.
Прохоров отошел к плите, стал возиться и заговорил, не поворачиваясь:
– Вот ты говоришь, ему не нужна была такого рода слава! Но ведь это он сам заказал материал про Олесю!
– Олеся – это кто? – злобно спросила Глафира, как будто не знала кто.
Прохоров кивнул на журнал.
– А-а.
– Что такое-то, Глаша? Или я еще недостаточно раскаялся в своей мерзости?
– А ты вообще-то раскаялся?
Он вернулся к стойке, забрался на длинноногую, как девушка Олеся, табуретку и налил себе кофе.
– Я хотел снять материал, – повторил он устало. – И не успел! И я не знал, что тебя… – он поискал слово, – что на тебя нападут! Мне тогда показалось, что ты бросила трубку, и потом, когда я перезванивал, ты не отвечала!
– Я без сознания была.
– Да, да! Что ты мне все время пытаешься объяснить?! Что я подлец?! Ну так я не подлец! И не мог я просто так, без твоего разрешения нагрянуть в дом Разлогова! Вдруг бы там какие-нибудь родственники оказались?! Или друзья! Все же знают, что мы с тобой…
– Спим, – подсказала Глафира, которую лукавый заставлял его злить. И у него получалось, у лукавого!..
Прохоров пробормотал что-то себе под нос. Глафира расслышала только «твою мать».
– Я звонил, ты не отвечала! Я поехал на работу, поскандалил там, хотел снять материал, а журнал уже из типографии вышел! Я там, в этой Венесуэле, счет дням совсем потерял, а уж когда из новостей узнал, что Разлогов умер!..
Кошка Дженнифер перевалилась на другой бок и теперь смачно вылизывала под хвостом. В неярком утреннем осеннем свете вокруг нее плавала шерсть и оседала на Глафирин халат.
– Девочка моя, – рассеянно сказал Прохоров то ли Глафире, то ли кошке Дженнифер.
– А фотографии? – вдруг спросила Глафира, и Прохоров насторожился. С фотографиями как раз вышла история, но Глафира не должна об этом узнать.
Еще не хватает!..
– Что… фотографии? – осторожно спросил он.
– Откуда они? Нет, вот эти, – и она стукнула в журнал кофейной ложечкой, – я понимаю откуда! Это вам сама звезда выдала…
– Не нам, а корреспонденту. Меня там не было.
– Ну пусть корреспонденту. А остальные?
…Почему она спрашивает, промелькнуло в голове у Прохорова. Что ей может быть известно про эти фотографии?!
– Фотосессия была у нее дома, – четко, как на летучке, сказал Прохоров. – А что? Обычная, нормальная практика. Ты же все это знаешь! Приезжают корреспондент и фотограф. Корреспондент берет интервью. Фотограф снимает.
Она смотрела на него очень внимательно, как будто он открывал бог весть какие истины.
…Почему она так смотрит?.. Что она знает? Она ничего не может знать о том, что произошло… с фотографиями! Не должна знать!
Нужно как-то ее отвлечь. Заставить забыть об этих дурацких фотографиях! В конце концов, Разлогов умер, и публикация их потеряла всякий смысл.
– Глаш, – сказал Прохоров немного неуклюже, – пойдем лучше на улицу, а? Ты же почти неделю тут сидишь! Пойдем?
– Значит, отчасти фотографировали на месте, а отчасти – материал «из личного архива звезды». Так это называется?
– Глаш, пойдем на улицу, а?
Она вдруг спихнула с коленей Дженнифер, которая уверенно приземлилась на пол и тут же ринулась к Прохорову, жаловаться.
– Вам всем на меня наплевать, – выговорила Глафира, и губы у нее скривились. – И тебе, и Разлогову, и всем на свете! Зачем ты подсунул мне этот проклятый журнал! Опять! Я ведь уже все это пережила, и ты зачем-то решил показать мне это снова!
– Я ничего не подсовывал, – пробормотал перепуганный Прохоров. – Честно, Глаша! Он был у меня в портфеле, я его выложил, а ты нашла…
– Тебе наплевать! – крикнула Глафира и зарыдала. – И Разлогову было наплевать тоже! Всегда! Всю жизнь!
Она закрыла лицо руками. Кошка Дженнифер смотрела на нее с брезгливым удивлением – не умеешь себя в руках держать, матушка! Что это у тебя за бурные проявления чувств, как у собачки-дворняжки? Мы здесь дворняжек не держим, пошла вон отсюда!
Только Глафира никуда не шла, рыдала еще пуще. Ей было стыдно, но остановиться она не могла. Как будто маховик внутри раскручивался, быстрее, быстрее!..
Когда она начала икать и задыхаться, Прохоров подал ей воды.
– Ничего, – сказал он негромко и погладил ее по голове. – Ничего, Глаша.
Глафира икала и хрюкала, и думала с ужасом: что это со мной?! Почему я не могу остановиться?! Зачем я вообще рыдаю?! Даже… из-за Разлогова я не рыдала, и когда получила по голове, не рыдала, и когда приехавший Марк демонстрировал мне свою ненависть, не рыдала тоже! Так что со мной?!
Прохоров, бестолково пооткрывав блескучие двери стенных шкафчиков, выудил какой-то пузырек и стал капать в склянку.
– Ни… че… че… го… м-мне н-не на… до!
– Надо! – и он сунул склянку ей ко рту.
Стыдоба какая, подумала Глафира с ужасом, проглотив гадость, хорошо, что Разлогов не видит. Он терпеть не мог истерик и был уверен, что она ни на что такое не способна.
Он любил за вечерней пение, белых павлинов и стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети, чая с малиной и женской истерики.
А я была его женой.
Глафира зубами вцепилась в обшлаг халата, чтобы икать и хрюкать не так громко, и постепенно буря стала затихать.
– Господи… что… со… мной… бы-ло?
Прохоров пожал плечами, подошел и обнял ее за голову.
– Ничего страшного не было. Истерика, и больше ничего.
– У… меня… не бывает… ис… истерик.
– Сегодня первая. Загадывай желание!
Кошка Дженнифер презрительно дернула хвостом. «Он еще с ней возится! Она шумит, булькает и производит нарушения в нашем с тобой прохладном, спокойном и уравновешенном мирке! Она нам не подходит. Гони ее в шею, милый».