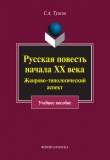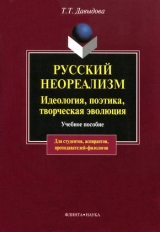
Текст книги "Русский неореализм. Идеология, поэтика, творческая эволюция"
Автор книги: Татьяна Давыдова
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
И еще одно существенное различие Лермонтова и Сергеева-Ценского. В лирическом шедевре Лермонтова «И скучно и грустно» чувства лирического героя раскрываются по законам романтического психологизма, а Сергеев-Ценский описывает переживания Бабаева по-модернистски. Вот как изображено возникшее у Бабаева разочарование в Римме Николаевне: «Пусто стало. Какая-то темная, отброшенная было в сторону пустота медленно вползала в него и начинала занимать свое место. Показалось, что и у этой пустоты, как у угара, насыщенно-синие, густые кольца и что выползает она отовсюду <…>.
Тогда, чтобы заслониться, он начал усиленно искать в себе и в этой женщине рядом чего-то общего, совпадающего во всех точках в прошлом, в будущем, в настоящем, и не мог найти». Экспрессионистически выразительным здесь является почти физически ощутимый образ пустоты. Бабаев, мотивируя свой уход от удерживающей его Риммы Николаевны, уверяет ее, что они никогда не поймут друг друга, что «у каждого – свой язык, и таких слов, чтобы другой их понял, – нет!» [171]171
Там же. С. 363, 364.
[Закрыть].
Художественным открытием Сергеева-Ценского явилось то, что он наряду с Ремизовым заговорил об экзистенциальном одиночестве человека в мире, в самом бытии.Реалистический детерминизм в раскрытии внутренних пружин человеческого поведения сплавлен в данном и следующем эпизодах (Бабаев и проститутка) с ощущением того, что впоследствии будет философски осмыслено и наиболее полно изображено писателями-экзистенциалистами – одиночества человека в мире, невозможности понять другого и быть понятым другим и, вследствие этого, абсурдности бытия.
Подобно Печорину, Бабаев интеллектуален и проницателен, что видно в главе «Ожидание», где повествуется о помощи Бабаева двум женщинам, которые попросили его посторожить их дом от воров. В старшей из них Бабаев подмечает пошлость и бездуховность. Бабаев увлекся было дочерью хозяйки, Надеждой Львовной. Но она, как и ее мать, гордящаяся тем, что может есть варенье из собственной клубники (явная отсылка к чеховскому «Крыжовнику»), начисто лишена поэтичности. Поэтому Бабаев вдруг увидел в ней мать-старуху, тем самым предвидя деградацию дочери в будущем. Так с помощью модернистского портрета писатель раскрыл проницательность, присущую его герою.
Но при этом у Бабаева есть и то, что отсутствует у Печорина, – садизм и политическая консервативность. Бабаевка-ратель жестоко расправляется с восставшими крестьянами и убивает во время еврейского погрома старика, оскорбляет раненного им Селенгинского и ломает его костыль. Почти во всех обстоятельствах, в которых действует этот «антигерой», в нем побеждает звериное начало. Так вновь реализуется у Сергеева-Ценского тип человека-зверя,близкий пришвинскому «первобытному» и замятинскому «органическому» человеку, но наделенный преимущественно отрицательными качествами. Кроме того, эта «звериность» на сей раз детерминирована прежде всего социально-исторически и обусловлена тем, по какую сторону революционных баррикад находится персонаж.
В письме от 16 янв<аря> <19>14 г<ода> критику Е.А. Колтоновской Сергеев-Ценский, рассказав о рождении у него замысла романа, назвал своего героя типичным реакционером: «Я задумался над тем, почему так легко справились с революцией, и пришел к "бабаевщине" как явлению и Бабаеву как типу ("Бабай" – татарское слово, значит "старик")» [172]172
Сергеев-Ценский С.Н. Письма к B.C. Миролюбову и Е.А. Колтоновской (1904–1916). С. 158.
[Закрыть].
Сложность и противоречивость Бабаева объясняется следующим: он имеет, в силу своих духовных и интеллектуальных запросов, неприятия пошлости и жажды новой жизни, стихийно либеральную позицию, но из-за житейских обстоятельств (он сын разорившегося помещика) вынужден воевать на стороне консервативных сил. «Маленькая душа, занятая великими исканиями – в этом <…> все содержание романа Сергеева-Ценского. Романа тут, впрочем, никакого нет <…>. Роман там, где описывается рост человеческой души, – но никакого роста героя нет в этом произведении Сергеева-Ценского» [173]173
Иванов-Разумник Р.В. Жизнь надо заслужить: (Сергеев-Ценский. Собрание сочинений) // Заветы. 1913. № 9. С. 145.
[Закрыть], – считал Иванов-Разумник. Критик верно охарактеризовал своеобразие содержания «Бабаева», но предъявил к произведению слишком жесткие требования. Романическая проблематика как раз и состоит в «великих исканиях» главного персонажа, находящегося в центре произведения. Бабаев искал свое место в жизни, но, в отличие от купринского Ромашова, не нашел его, хотя тоже погиб в финале произведения, так и не осуществив внезапное желание примкнуть к революционерам.
В поисках града Китежа и Бога (легенда о Китеже и житийная традиция). В творчестве неореалистов первой половины 1910-х гг. значительное место занимала религиозная тема. Возможно, импульсом к обращению К.А. Тренева, А.П. Чапыгина, М.М. Пришвина и В.Я. Шишкова к вопросам веры и религии явились напряженные духовные искания А. Белого, переосмысление Л.Н. Андреевым библейских мотивов и образов, «богостроительство» М. Горького.
М.М. Пришвин разработал тему религиозной веры в повести «У стен града невидимого (Светлое озеро)» (1909) и примыкающем к ней рассказе «Астраль. (Возле процесса «Охтенской богородицы»)» (1914, опубликован в № 4 журнала «Заветы» за этот же год). В повести Пришвин обратился к имевшей большое духовно-религиозное значение, популярной в начале XX в. древнерусской легенде о граде Китеже.
Обработав эту легенду, Пришвин показал духовные искания старообрядцев и проповедовавших неохристианство петербургских символистов Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус, Д.Ф. Философова. В рассказе писатель воссоздал «другой конец староверства» – религиозные представления сектантов-хлыстов. Жанровое целое повести-путешествия выросло из ряда очерков о поездке повествователя, образ которого автобиографичен, в места, где было распространено старообрядчество.
Показывая в повести разные аспекты народного богоискательства – социальный, национальный, нравственный, писатель продолжал демократические традиции народнической беллетристики, но нашел еще один, близкий неореалистам с их интересом к духовно-философской сфере бытия угол зрения. Об этом он свидетельствовал в своей дневниковой записи от 3 сентября 1926 г.: «<…> Русский крестьянин <…> взят мною sub specie aeternitatis <…>» [174]174
Пришвин М.М. Записи о творчестве // Контекст—1974: Литературнотеоретические исследования. М., 1975. С. 331.
[Закрыть]. Естественно, что при такой творческой установке писатель руководствовался законами модернистской эстетики, в которой ведущими являются символистские художественные принципы.
Образ града Китежа связан в повести с символом круга, обладающим конкретно-историческим и обобщенно-духовным значением. Легендарный метафизический град, имеющий круглую форму (он расположен на берегу озера) и населенный праведниками («колдунья Манефа устроила город невидимый, поселила там черных праведников» [175]175
Пришвин М.М. У стен града невидимого (Светлое озеро) // Пришвин М.М. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1982. Т. 1. С. 396.
[Закрыть]), вызывает ассоциации со святыми городами, круглыми или квадратными. Как показал С.С. Аверинцев, они отражают своим геометрическим регулярным планом устроение вселенной [176]176
См.: Аверинцев С.С. Рай // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., 1992. Т. 2. С. 363–366.
[Закрыть]. При этом образ Китежа, отраженный в сознании летописца, «древней старухи» Татьяны Горней и автобиографического интеллигента-повествователя, отражается еще и в образе Нового, Небесного Иерусалима, града Божьего, воплощающего рай. Прибегая к подобной цепи отражений, Пришвин раскрывает внутреннюю, духовную сущность легендарного Китежа.
Вместе с тем в повести есть и иное, не связанное с Китежем значение символа «круг». Представление повествователя о значениях этого символа в произведении развивается, обогащается новыми смыслами, движется по спирали – таков закон художественной логики Пришвина. В главе «Година Варнавы» образ круга (или временного цикла) раскрыт применительно к духовной стороне жизни Древней Руси и современной России на примере эпизода с чтением жития св. Варнавы: «Чтение на всю ночь. Так когда-то давно-давно по всей древней Руси читали такие жития во всех церквах. Одни творили, другие благочестиво слушали и учились. Так воспитывалась древняя Русь» [177]177
Пришвин М.М. У стен града невидимого… С. 401.
[Закрыть]. В третьей главе «Крест в лесу» частная история христолюбца Петрушки, просидевшего двадцать семь лет в яме, наполняется философским обобщением, касающимся смысла бытия и направления движения истории. По мысли автобиографического героя Пришвина, вечным духовным двигателем истории является народная вера, поэтому он высказывает следующее, далекое от представлений и верований русских раскольников, предположение: «…может быть, мир вовсе не идет следом за Богом вперед и вперед. Может быть, он вертится вокруг одной точки, вокруг этого огонька в лесной яме» [178]178
Там же. С. 410.
[Закрыть].
Идеологическая точка зрения повествователя отделяется в этой главе от идеологической точки зрения старухи, прорицавшей в главе «Година Варнавы» конец света. Описанное в этой главе движение верующих вокруг церкви, т. е. по кругу, в свете нового витка мысли автобиографического героя воспринимается как символ пути всего человечества, пути, не имеющего конца и, следовательно, лишенного трагизма. Пессимизму апокалиптических пророчеств, приведенных во второй главе, противопоставлен в третьей оптимизм идеи вечного духовного вращения мира вокруг огня веры.
Мотив духовного подвижничества как нельзя лучше соответствует идее невидимого града Китежа: образы Китежа и его двойника Небесного Иерусалима смыкаются в повести в едином круге понятий и способов их художественного выражения. И все же эти города находятся на периферии хронотопа повести. Один соотнесен с историческим прошлым, другой – с неопределенным будущим, со вторым пришествием Христа. В этом оба являют одинаковую ущербность – они не связаны с современностью, изолированы от мира живых людей. Граница здесь проходит по линии «книжное, бумажное, мертвое» и «природное, живое».
Образ невидимого Китежа, ассоциирующийся с потерянным раем, входит в первый понятийный ряд. Существенная сторона пребывания праведников в раю, по христианским представлениям, – постоянное общение с Богом: человек там «соединяется с Богом, созерцает его лицом к лицу (то, что на латыни схоластов называется «видение, дарующее блаженство»)» [179]179
Аверинцев С.С. Рай. С. 363–366.
[Закрыть]. В местах же, где находится невидимый град Китеж, нет Бога. Мотивы ухода Бога от современных людей и безрезультатных поисков ими Бога и предметов, символизирующих Его присутствие в мире, – устойчивые, повторяющиеся в повестях Пришвина и Чапыгина. В главе «Крест в лесу» пришвинский повествователь приходит к следующим выводам: «Из деревни в деревню все то же: священные остатки скита и неустанные просьбы помочь староверческому делу. В лесу иногда большие восьмиконечные кресты свешиваются над повозкой. Это все мне кажется книгой про старину… Много настоящих цветов и особенно ландышей украшает страницы. Но нет самого главного: книга мертва. Бог ушел из нее», «Бог теперь не живет по пустыням» [180]180
Пришвин М.М. У стен града невидимого… С. 409.
[Закрыть]. И, что характерно для стиля Пришвина, в конце главы «Крест в лесу» есть эпизод, символически обобщающий данное явление. Повествователь и сопровождающие его староверы напрасно искали в лесу крест с часовни Красноярского скита: «Мы запоздали. Сильно темнело. И креста мы в лесу не нашли» [181]181
Там же. С. 415.
[Закрыть]. Мир, покинутый Богом (явно ницшеанский мотив), лишен и света, о чем свидетельствует пейзаж – сгущающиеся сумерки.
Основанные на вере в букву, а не в суть православия религиозные искания староверов характеризуются Пришвиным как бесперспективные еще и потому, что они ведут к расколу в русском обществе. Такой вывод – художественный итог философско-этнографического путешествия. «Обессиленная душа протопопа Аввакума, – думал я, – не соединяет, а разъединяет земных людей» [182]182
Там же. С. 474.
[Закрыть]. Эта мысль выражается и опосредованно, с помощью символических образов утраченного рая и заброшенного храма. Они находятся в подтексте повести. Символично и само название произведения, намекающее на то, что ищущий истинной веры пришвинский повествователь остановился у стен градарая, но так и не вошел в него.
Похожие мотивы есть в повести А.П. Чапыгина «Белый скит» (1913). Герой из народа Афонька Крень, напоминающий сказочно-былинного богатыря, уверен: Бог обитал в бедной деревенской церковке, а когда построили новую, большую, «бога моего не стало – он в лес перешел. В лесу, в господней тишине я молюсь» [183]183
Чапыгин А.П. Белый скит // Чапыгин А.П. Собрание сочинений: В 5 т.
Л., 1976. Т. 1. С. 207.
[Закрыть]. Афонька любит родственной любовью природу, защищает лес от хищнического уничтожения, подкупает читателя бескомпромиссностью, исканиями правды и веры. Однако и Афонька, подобно герою-интеллигенту Пришвина, знает минуты сомнений и колебаний, даже у него, человека с цельной «первобытной» натурой, нет прежней безусловной веры в Бога. С тревогой за судьбы крестьянской России Чапыгин раскрывает причины трагедии Афоньки, необузданные страсти и жестокость которого в конечном счете приводят его к гибели, и тем самым, подобно Пришвину, рисует кризис народной религиозности и нравственности, захвативший и среду северян-старообрядцев.
Как и Замятин, автор повести «У стен града невидимого…» не принимал религиозно-философские идеи старших символистов, так как Пришвину, хотя он с уважением относился к исканию Д.С. Мережковским Невидимого Града, было чуждо неохристианство книжников Серебряного века. Вера самого писателя и автобиографического повествователя из «У стен града невидимого…», включающая в себя черты пантеистического и православного мироощущения, наиболее полно раскрывается в образе укорененного в современной России рая. В первой главе повести и в дневниковых записях Пришвина 1909 г. образ рая связывается с садом и с неким местом на границе между небом и землей. Этот рай освящен божественным присутствием, понимаемым Пришвиным своеобразно. Его Бог «родится на черте, отделяющей природу от человека. Тут он вечно рождается» [184]184
Пришвин М.М. У стен града невидимого… С. 459.
[Закрыть].
При этом пришвинский образ рая-сада лишен благостности, так как включает в себя черты рая до и после грехопадения первых людей: «В саду маркизы, мне кажется, соловьи поют о том, что все люди прекрасны, невинны, но кто-то один за всех совершил тяжкий грех» [185]185
Там же. С. 390.
[Закрыть]. Так входит в повесть понятие греха, по-разному спроецированное в сознании героев из народа и интеллигента-повествователя. Здесь вновь расходятся их идеологические точки зрения. По мнению мужиков, современные люди грешны, потому что они «Бога забыли». По мысли Пришвина, высказанной им в дневниках, грех интеллигентов, пророков и поэтов состоит в отрыве от народной почвы, погружении в личные проблемы [186]186
См.: Пришвин М. М. Дневники. М., 1990. С. 110–111, 54.
[Закрыть]. Глубинная суть пришвинского рая-сада передана с помощью красочных эпитетов.
Преобладает в повестях Пришвина и Чапыгина эпитет «белый», в основном символизирующий праведность, сакральность. Такое значение данного красочного эпитета восходит к символическому образу белых одежд, многократно упоминаемому в «Откровении апостола Иоанна».
В «У стен града невидимого…» эпитет «белый» относится к двум праведным старикам – староверу и Л. Толстому. Близкое значение имеет у Пришвина эпитет «светлый», этимологически связанный с понятием «свет». Он передает в произведении признак божества («светлые боги зеленые», озеро, на берегу которого находится Китеж, «спокойное светлое око с длинными зелеными ресницами» [187]187
Пришвин М.М. У стен града невидимого. . С. 391, 448.
[Закрыть]).
Не столь однозначен смысл эпитета «белый» в повести Чапыгина. Образ белого скита, символизирующий нравственную чистоту и духовность главного героя Афоньки Креня, – ключ к живописно-образному ряду повести, в акварельнопрозрачных пейзажах которой преобладают серебристо-светлые, белые и пастельные тона, передающие краски природы русского Севера.
Но, в отличие от героев-староверов Пришвина и замятинского Селиверста, Афонька не показан в состоянии молитвенного экстаза и не претендует на совершение чуда. Его вера более аморфна, что раскрывается с помощью такой портретной детали, как «бесформенное очертание Афоньки Креня». Причем в контексте повести этот эпитет становится символическим обобщением, так как и село, где живет герой, характеризуется Чапыгиным как «побелевшее и бесформенное». Тем самым писатель указывает на сложность, противоречивость жизненных процессов в русской провинции, сочетающей чистоту и высокую нравственность (истории любви Ивашки Креня и Усти Уханихиной), но при этом в ней нет внутреннего стержня – знаний, трудолюбия, социальной активности.
Нетрадиционное значение имеет в повести «У стен града невидимого…» и в дневниках Пришвина эпитет «черный». В «Откровении апостола Иоанна» черный цвет и близкие к нему тона символизируют конец света, гнев Господень, небытие. А у Пришвина данный эпитет связан с образами иного порядка: рай определяется как черный сад, Китеж населяют «черные» праведники. В дневниковой записи 1914 г. писатель, сравнивая свою мать с Богородицей, рисует ее в черном, а не светлом одеянии. Такая символика черного цвета определяется тем, что вера Пришвина и его автобиографического героя отражает религиозные представления большей части русского народа, образ которого неизменно связывается у прозаика с почвой. «Народ – это земля» [188]188
Пришвин М.М. Дневники. М., 1990. С. 52.
[Закрыть], —записал Пришвин 2 декабря 1909 г. в дневнике.
Несмотря на то что религиозные представления Пришвина, отразившиеся в повести, были полемичны по отношению к теориям участников Религиозно-философского общества и вере старообрядцев, его образ черного рая-сада обладает важной религиозно-философской и национальной символикой:он намекает на то, что праведники находятся не в Небесном Иерусалиме, а на русской земле, и раскрывает патриотическую и демократическую позицию писателя, которому были близки «заветы» народничества. Но ключевым в «У стен града невидимого…» является многозначный символ Китежа, несущего в себе черты Небесного Иерусалима, града Божьего, и великой народной духовной утопии. Создавая этот образ, Пришвин использовал разные художественные приемы – от цитирования древнерусской «Легенды о граде Китеже» до ее передачи в сказовой форме. В произведении Пришвина важная философско-религиозная проблема раскрыта с помощью чисто неореалистических художественных средств («органическая» образность, символика) и присущих раннему Пришвину автобиографизма и очерковости.
Размышления о религии и богоискательстве в России 1910-х гг. есть и в повестях Замятина 1914 г. Но этого прозаика больше всего интересовала проблема русского менталитета, «смысл любви», перспективы будущего.
Во второй повести Замятина «На куличках» (1914) предпринята дальнейшая разработка проблемы русского национального характера и развитие философичности в его творчестве.
Русский национальный характер раскрывается здесь в антиномиях – в творчестве и пассивности, в любви, жестокости и ненависти. Замятин убежден, что творчество возможно в любой сфере жизни (музыкант-любитель Половец, генерал-кулинар Азанчеев), в чем проявляется тенденция к демократизации литературы. Замятинское понимание причин русской пассивности близко идеям Н.А. Бердяева, автора работ «О власти пространств над русской душой» и «Душа России», и М. Горького «Две души» (1915).
Именно в этой повести зарождается замятинская трактовка любви как жалости-жертвы (Половец, Маруся Шмит), чувственного влечения (супруги Шмит), ненависти (Шмит), восходящая к пониманию любви у Достоевского. Понимание перспектив России, показанной в замятинской повести менее культурной, нежели Франция, страной, обладающей тем не менее какой-то загадкой, близко задаче, поставленной Бердяевым перед русской интеллигенцией: отказавшись от крайностей западничества и славянофильства, преодолеть отсталость России с помощью творческой активности [189]189
Бердяев Н.А. Азиатская и европейская душа // Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 64.
[Закрыть]. Вместе с тем замятинская позиция, в отличие от бердяевской, не религиозна. «В голосе молодого художника прежде всего и громче всего слышится боль за Россию. Это – основной мотив его творчества <…>» [190]190
Григорьев Р.Г. Новый талант // Ежемесячный журн. СПб., 1914. № 12. С. 83.
[Закрыть]– верно писал в статье «Новый талант» критик Р. Григорьев. Замятин показал в своей второй повести кризисное состояние России накануне Первой мировой войны [191]191
Подробнее о «На куличках» см.: Давыдова Т.Т. Творческая эволюция Евгения Замятина в контексте русской литературы первой трети XX века. М., 2000. С. 90—106.
[Закрыть].
«Алатырь» (1914, опубл. в № 9 «Русской мысли» за 1915 г.) – самое сложное замятинское произведение 1910-х гг. На содержащуюся в повести критику жизни русской провинции обратил внимание уже Иванов-Разумник: «Подлинный кошмар этот город Алатырь <…>» [192]192
Иванов-Разумник Р.В. Земля и железо: (Лит. отклики) // Рус. ведомости. 1916. 6 апр. С. 2.
[Закрыть]– писал он. Однако сегодня нужна более глубокая, герменевтическая, интерпретация этого произведения, которая помогла бы раскрыть содержащуюся в «Алатыре» рецепцию философских идей «Легенды о Великом инквизиторе» Достоевского, положений соловьевского учения о Софии и конце света, а также розановской «религии пола».
Как известно, работы Соловьева, оказавшие значительное воздействие на русских символистов, имели широкую популярность на рубеже XIX–XX вв. в России. Соловьевские идеи, воссозданные в повести, Замятин испытывает с точки зрения их жизнеспособности и проверяет возможность с их помощью изменить к лучшему кризисное положение России. Сонный провинциальный городок Алатырь, наряду с уездным и Дальним Востоком в предыдущих произведениях писателя, – синекдохический образ всей страны. Об этом, в частности, можно судить по написанному в 1921 г. «Посланию смиренного Замутия, епископа Обезьянского», в котором Россия названа землей алатырской.
В «Алатыре» положения соловьевской философии по-своему, наивно и искаженно, усваивают князь-почтмейстер Вадбольский и чиновник Костя Едыткин. Да и связь отца Петра с нечистой силой символизирует одну из разновидностей духовных исканий Серебряного века. Наиболее идеологически значимым является образ князя, героя-утописта, мечтающего о переустройстве жизни всего человечества с помощью общего языка.
Данная идея восходит к утопиям Ш. Фурье и Вейтлинга, полагавших, что одной из главнейших задач нового общества будет введение всеобщего языка, какого-нибудь из древних или новоизобретенного. Мечтало создании всемирного языка на чисто теоретической научной основе и оказавший влияние на Замятина ведущий представитель энергетизма немецкий химик и физик В. Оствальд [193]193
Оствальд В. Энергетический императив / Пер. с нем. В.М. Познера. СПб., 1913. С. 48.
[Закрыть].
Призыв замятинского героя объединить народы с помощью общего языка близок стремлению антихриста из работы Вл. С. Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе» соединить государства одной части света – Европы и разновидности одной религии – христианства. Но, в отличие от соловьевского героя, Вадбольский мыслит более глобально и, на первый взгляд, по-светски.
Его цель – объединить все народы с помощью всемирного языка, который поможет человечеству отказаться от вражды, научиться взаимопониманию, братской любви и радостному приятию бытия. Князь, по всей видимости, невольно хочет тем самым отменить созданное Богом в библейской истории строительства Вавилонской башни смешение языков. Именно эта библейская история, находящаяся в подтексте замятинского произведения, является важным элементом его содержания.
В подтексте «Алатыря» этот библейский образ объединен с образом новой Вавилонской башни из «Легенды о Великом инквизиторе», символизирующим замену христианского учения каким-то иным. «На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня <…>» – говорит Великий инквизитор Христу [194]194
Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Д., 1972–1990.
Т. 14. С. 230.
[Закрыть]. В данном случае образ Вавилонской башни означает некий утопический проект. И идея замятинского героя, считавшего себя новым Христом, который призван спасти людей, объединив их под одной властью и дав им один язык, из такого же рода замыслов.
При этом Замятин почти не исследует в «Алатыре» лингвистический аспект утопии князя, а сосредоточивается на духовно-нравственной стороне утопии, проверяя этот проект на совместимость с реальной жизнью и соответствие человеческой природе.
Герой открывает свою тайну в самый светлый для православных день – праздник Пасхи, что указывает на скрытую религиозную окрашенность проекта князя. «По Евангелию <…> несть ни эллин, ни иудей, ни кто там. Все – одно стадо. А что же мы, господа? <…> В стаде – разве по-разному блеют? А мы – кто по-каковскому, всяк по-своему. Отсюда и война, и всякая такая дрянь, а ежели бы как стадо… На одном на великом языке эсперанте весь мир – то настала бы жизнь прекрасная и всеобщая любовь… До последнего окончания мира…» – утверждает Вадбольский [195]195
Замятин Е.И. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. С. 147–148.
[Закрыть]. Здесь-то и возникает характерная для Замятина игра смыслами, поддержанная глаголом «блеять» и повторением существительного «стадо», что выявляет комическое несоответствие между грандиозной гуманной идеей князя и примитивностью языковых средств, с помощью которых она выражена. Данное место вызывает ассоциации с «Легендой о Великом инквизиторе», где образ стада символизирует людей, покорных священноначалию, отрекшемуся от Христа. «Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете, – признается Великий инквизитор Христу.
– И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо <…>» [196]196
Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 14. С. 234.
[Закрыть]. Князь в своей речи мечтает именно о возвращении человечества к единению в не разделенной на ветви христианской вере.
В программе князя Вадбольского в опосредованном виде преломилась проповедь братства и концепция любви Соловьева, в частности, следующие положения из работы «Россия и Вселенская Церковь»: «Истинная вера не может быть уделом индивидуального человека в его обособленности, но лишь всего человечества в его единстве <…>. Грани конечной индивидуальности <…> должны быть разбиты любовью, дабы человек мог стать сообразным Богу, который есть любовь» [197]197
Соловьев Вл. С. Россия и Вселенская Церковь // Соловьев Вл. С. О христианском единстве. М., 1994. С. 238.
[Закрыть]. Однако в утопических намерениях Вадбольского немало сходства и с размышлениями соловьевского антихриста.
«Христос, проповедуя и в жизни своей проявляя нравственное добро, был исправителем человечества, я же призван быть благодетелем этого отчасти исправленного, отчасти неисправимого человечества. Я дам всем людям все, что нужно. Христос, как моралист, разделяллюдей добром и злом, я соединю их благами, которые одинаково нужны и добрым и злым. <…> Христос принес меч, я принесу мир-» [198]198
Соловьев Вл. С. Смысл любви: Избр. произв. М., 1991. С. 404–405.
[Закрыть] , – рассуждает антихрист, автор сочинения «Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию». Подобно соловьевскому сверхчеловеку, князь, учащий алатырцев эсперанто, мнит себя благодетелем человечества и, мечтая соединитьлюдей с помощью общего языка, невольно противопоставляет себя Христу, разделившемулюдей бременем выбора между добром и злом: «После уроков усталый расхаживал князь по почте. Трудно, ох, как трудно! Но все-таки на один день ближе к тому празднику, к той светлой Пасхе, когда кликнут все на одном языке, запоют и обымут друг друга, и кончится старая жизнь» [199]199
Замятин Е.И. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. С. 157–158.
[Закрыть]. Особенно важно здесь упоминание Пасхи, связывающейся у христиан с образом воскресшего Христа. Но Его Вадбольский ни разу не называет, ибо, мня себя первосвященником, как Великий инквизитор и соловьевский антихрист, собой подменяет Христа, ведь подлинный первосвященник для православных христиан – Сам Христос. Здесь впервые у Замятина изображен феномен человекобожия.
Не удивительно поэтому, что последователи князя руководствовались отнюдь не любовью к великому языку, а земными матримониальными намерениями, о которых не догадывается только сам учитель. Такая же слепота князя обнаруживается и в его отношениях с дочерью исправника Глафирой, история любви к которой – подлинная художественная удача Замятина. В отношениях этих героев раскрывается один из этапов духовно-нравственного созидания новой Вавилонской башни.
В чувстве князя к Глафире отражены символистские представления о любви, проявившиеся, в частности, в отношении А. А. Блока и А. Белого к Л. Д. Менделеевой, в которой они увидели земное воплощение соловьевской вечной женственности, а также во влюбленности М.М. Пришвина в В. Измалкову.
Двойственность чувства князя – результат борьбы в его душе «земного» и «неземного». В этой схватке побеждает платоническое начало: «Ее – никогда не называл князь: Глафира <…>, а всегда говорил она. <… > По-прежнему все записки от нее написаны были на эсперанто <…>. Помалу связал ее князь с великим языком воедино.
Всякое эсперантское слово – теперь вдвойне сладко князю: ведь это – ее слова. В ее синих, глубочайших глазах – пленен весь мир. И равно – всем миром владеет язык эсперанто…
«…Да что – всем миром, всей вселенной. На Венере какой-нибудь, венерические тамошние жители – тоже, поди, эсперанто знают. А как же? Обязательно знают».
Так мечталось князю. Так все дальше в серебряные леса уходил князь от скучной правды» [200]200
Замятин Е.И. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. С. 159–160.
[Закрыть]. В данном фрагменте многое напоминает образность «Стихов о Прекрасной Даме»
А. Блока. Не случайно здесь появляется и почти стихотворный ритм. Но во внутреннем монологе князя вновь раскрывается его необразованность: так, словосочетание «венерические <…> жители» производит комический эффект, снижающий самую идею жизнетворчества. Она неприемлема для Замятина – ведь его князь уходит тем самым от земной действительности и находит забвение в утопической мечте об установлении глобального вселенского счастья, реальную же Глафиру познать не хочет. Именно поэтому его мистически-платоническая любовь, являющаяся частью проекта всемирного распространения эсперанто, так же несостоятельна, как и весь план в целом.
Необходимость физического соединения любящих без соединения в Богеведет, по Замятину, вовсе не к духовной смерти, как писал Соловьев в работе «Смысллюбви», а к продолжению жизни, т. е. к своеобразному бессмертию на уровне рода. Такой стороной своего мировидения Замятин отчасти близок В.В. Розанову, осуждавшему аскетизм, вдохновляемый христианской церковью.
По мнению философа, высказанному им в работе «Люди лунного света: Метафизика христианства», продолжению жизни угрожает традиция, выросшая из зерна «бессеменности». «<…> Странна и необычайна будет психология, вытекающая из этого вечного и неразрушимого девства Какова будет она? Никогда не будет детей. <…> Племени, народа, рода – нет. Будущего – нет. Прогресс – не нужен» [201]201
Розанов В.В. Люди лунного света. М., 1990. С. 197–198.
[Закрыть]. Итак, у Замятина и Розанова поклонение полу – это поклонение естественным закономерностям жизни. Данная сторона мировидения писателя близка идейной позиции Р.В. Иванова-Разумника, заявлявшего неоднократно о своей вере «в жизнь, в ее победу, в ее торжество» [202]202
Иванов-Разумник Р.В. Русская литература в 1913 году // Заветы. 1914.
№ 1. С. 98 (паг. 2-я).
[Закрыть].
По-своему участвует во внутреннем сюжете повести отец Петр, чьи поступки и строй мыслей не соответствуют его сану. Замятинский протопоп похож на попа, искушаемого бесом, из цикла сказок Ремизова « Посолонь» (1907). Правда, в отличие от ремизовского попа Ивана, отец Петр имеет пристрастие к спиртному. В таком «необычном» состоянии духа и общается служитель Церкви с веселой козьей мордой, надеясь обратить бесов в «истинную веру». Рассказывая о подобных многократных беседах, Замятин иронически отображает присущее некоторым писателям Серебряного века (3. Гиппиус) сочувственное отношение к нечистой силе. Замятину ближе всего такой стиль разговора о религиозных вопросах.
В последней, восьмой главе «Святочные происшествия» общение отца Петра с бесами достигает кульминации, заканчиваясь позорно для него: отец Петр убегает от дьявола-искусителя. В союзе с замятинскими веселыми и коварными чертями также и силы природы, человеческого естества. Эти силы иносказательно изображены в повести в виде легендарного алатыря-камня, который в народных заговорах символизирует разные виды любви, а у Замятина связывается с темой плотской любви и греха.