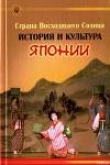Текст книги "Япония: путь сердца"
Автор книги: Татьяна Григорьева
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Ностальгия («хризантема и меч»)
Душу Японии, историю японцев помогает понять их национальный символ – «хризантема и меч». Японский вариант единого Пути: «Одно Инь, одно Ян – и есть Путь. Следуя ему, идут к Добру» [183]183
Ицзин // Сочинения китайской классики. – Т. 1. – Токио, 1966. – С. 489.
[Закрыть]. Тот, кто нарушает Путь, правильное отношение «хризантемы» – Инь и «меча» – Ян, идет в обратном направлении. Символ «хризантема и меч» означает уравновешенность воли мягкосердечием, непримиримости – состраданием к малому. Обе ипостаси Пути присутствуют у богов, небесных и земных, души которых бывают благостными, умиротворяющими (ниги-митама), а бывают свирепыми, буйными (арамитама). Но для понимания национального характера японцев важно иметь в виду первичность светлого начала, «нежность японской души», а суровость, порой беспощадность к себе и другим – как бы ее защита [184]184
О нежности японской души говорил Мотоори Норинага. А Кавабата в своей Нобелевской речи вспоминает поэта Мёз: «Я потому люблю записывать его стихи, что они преисполнены доброты, теплого, проникновенного чувства к природе и человеку, воплощая глубокую нежность японской души». И, может быть, неслучайно они ставят «хризантему» на первое место, тогда как наше предубежденное сознание меняет их местами: «меч и хризантема».
[Закрыть]. Извечное мужское начало призвано оберегать вечно женское, заповеданное Богиней Солнца Аматэрасу.
Роль этого символа нельзя понять, не принимая во внимание нёдуальную модёль мира. Соединение того и другого образует новое качество: и не только мужество и не только мягкосердечие; когда то и другое согласуется, образуется Третье – та самая Уравновешенность, Ва, без которой «хризантема и меч» обречены на гибель. Таков закон высшей Справедливости или Пути: когда одно начинает существовать за счет другого, погибает и то и другое – саморазрушается, как саморазрушается всякая односторонность.
Бывали времена, когда в Японии преобладала то «хризантема», как в эпоху Хэйан (794-1185), то «меч», как в эпоху Камакура (1185–1333), Но со временем они уравновешивались: одно находило себя в другом, и это вело культуру к расцвету. В эпоху Муромати (1333–1573) – театр Но, поэзия рэнга; в эпоху Момояма (1573–1614) – расцвет живописи и дзэнских искусств (хайку, чайная церемония, икэбана). Наконец, в эпоху Эдо (1614–1868) – театр Кабуки, гравюра Укие-э, покорившая Европу.

Илл. 64. Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещенский собор в Киото. Японская православная церковь
Следуя Пути, по логике вещей, Япония должна была справиться и с издержками «вестернизации», после «открытия дверей» в эпоху Мэйдзи (1868–1911). Но здесь Японию подстерегало нетрадиционное испытание: у японцев не было иммунитета против «мамонизма» – потребительского духа, который идет по пятам механической цивилизации, обслуживая то самое эго, которое японская традиция отвергала как иллюзорное Я, мешающее человеку найти себя. Многие писатели трагически воспринимали этот разлад, утрату Срединного Пути. «Но что и дух традиций, и дух современности делают меня несчастным, – сокрушался Акутагава Рюноскэ (1892–1927), – этого я вынести не мог… Я вдруг вспомнил слова „Юноши из Шоулина“, когда-то взятые мною в качестве литературного псевдонима. Этот юноша из рассказа Хань Фэй-цзы, не выучившись ходить, как ходят в Ганьдане, забыл, как ходят в Шоулине, и ползком вернулся домой». Но японцы не утратили исконно японское чувство, хотя и позаимствовали у китайцев письменность: «ведь не иероглифы подчинили нас, а мы подчинили себе иероглифы». И так во всем, потому что их защищает – божественная Природа: «Мы живем в деревьях, мы живем в мелких речонках. Мы живем в ветерке, пролетающем над розами. В вечернем свете, упавшем на стену храма» («Усмешка богов»).

Илл. 65. Аматэрасу – богиня Солнца
И все же, соблазнившись техническими успехами Запада, в стремлении самоутвердиться, не дать закабалить себя, Япония отступила от Пути (по крайней мере, ее активный слой). Голову японцам вскружил девиз: «Сильная армия – богатое государство», нарушивший равновесие начал. В результате – удвоенная воля (Ян), утратившая опору в чувстве (Инь). После трагического для Японии исхода Второй мировой войны нация долго не могла прийти в себя, очиститься от воинственного духа. Потеряв равновесие, на какое-то время вовсе отшатнулась от «меча», утратив волю к действию. Это вызвало тревогу у писателей, верных национальной традиции, которую они выражали по-разному: Кавабата более уповал на «хризантему» – извечную Красоту, Мисима Юкио (1925–1970) – на «меч», дух Бусидо. Но их объединяла ностальгия по прошлому.

Илл. 66. Японский пейзаж
Мисима Юкио в России «не повезло»: его замалчивали долгие годы или представляли маньяком. Но он выступил в защиту Культуры, без которой погибает нация, и призывал не только к возрождению мужественности, но и к почитанию сокровенной Красоты (югэн), которая одухотворяла японское искусство во все времена. Если европейская культура более материальна, воплощена в камне, то японская – в дереве, бумаге: она не сосредоточена на себе, не стремится продлить свою жизнь. И потому рождает чувство запредельной Красоты, ради которой жертвуют собой в земной жизни, чтобы приобщиться к вечной. Отсюда идеал непривязанности, «красоты непостоянства» (мудзё-но би), которую олицетворяет, с точки зрения Мисима, синтоистское святилище Исэ дзингу, обновляющееся каждые 20 лет [185]185
Известный архитектор Кэндзо Тангэ видит в Исэ дзингу прототип японской культуры, находя в этом святилище порвозданную мощь, «вневременную эстетическую ценность». Сравнивая с Парфеноном, находит сущностное различие японской и западной культур, «а именно: контраст между анимистическим подходом, добровольным подчинением природе, растворением в ней и героическим противостоянием природе, стремлением приневолить, завоевать ее» (Кэндзо Тангэ. Архитектура Японии. – М., 1976. – С. 22, 23).
[Закрыть].
Когда же распадается единство «хризантемы и меча», культура погибает, а вместе с ней и народ. Так произошло во время войны, когда «меч» решил, что может обойтись без «хризантемы». Тогда, уверен Мисима, возобладали ложь, псевдодобродетель. Теперь же, напротив, устрашенные поражением в войне, японцы отшатнулись от «меча» и утратили волю. В результате нарушилось то самое Равновесие, которое являло Красоту и помогало японцам выстоять в самые трудные времена. Не уравновешенная волей, поблекла и «хризантема»: культура впала в «эмоциональную распущенность», а жертвой стал человек. Искусство потеряло человека, убежден Мисима, от него остались осколки, и искусство бессильно с помощью этих осколков выразить подлинную драму целого человека. Лишь возродив равновесие «хризантемы и меча», можно возродить культуру и нацию [186]186
Мисима Юкио. В защиту культуры // Тюокорон. – 1968. – № 7.
[Закрыть].
Этой теме посвящен переведенный в России роман Мисима «Золотой павильон» («Кинкакудзи», 1956). Нынешний мир недостоин нетленной Красоты, явленной в гармонии «Кинкакудзи», и потому Храм должен исчезнуть в огне, чтобы не унижала его толпа потребителей Красоты, вездесущих туристов. Храм действительно поджег послушник храма – сказалась не только неприемлемость для японской души даже невольного осквернения Красоты, но и вера в то, что Красота нетленна, не исчезает, а лишь уходит на время. Японцы не могли смириться с потерей святыни, и на собранные деньги Храм был вскоре восстановлен в прежнем виде.
Нужно исчезнуть, чтобы сохраниться, нужно умереть, чтобы жить, – подобное мироощущение, непривязанность к миру вещей таит в себе символ «хризантемы и меча». Мисима напоминает, что эта традиция, унаследованная японцами от древних, продолжается от «Гэндзи моногатари» до современных повестей, от поэзии «Манъесю» до авангардных танка наших дней. У японцев традиционно слово не расходится с делом: Мисима совершил ритуальное харакири в надежде вернуть доверие «мечу», доказать, что цветок, воплощающий дух Японии, не цепляется за жизнь. Принцип выше жизни – эта идея уходит в глубину веков. «Не отступайте от Пути даже под угрозой смерти», – Конфуций (Луньюй, 8, 13). А Мэн-цзы: «Я ценю жизнь, но еще больше ценю Справедливость. Если не могу иметь то и другое, то предпочту Справедливость» [187]187
Можно вспомнить Ф. М. Достоевского: «Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак величайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли» (Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. – Т. 4. – Л., 1989. – С. 427).
[Закрыть].

Илл. 67. Кинкаку-дзи («Золотой Павильон»), Киото
Не удивительно, что самые известные писатели послевоенной Японии болезненно переживали утрату культурной Основы, «оторванность от корней» (uprooted – по выражению Оэ Кэндзабуро). Отсюда мотив раздвоенной личности, потери памяти, анемии чувств – утраты национальной и личной идентичности. Не потому ли, что цель и средство поменялись местами? Механическая цивилизация сделала технику целью, а человека – средством, что противоречило идеалам японцев. Именно поэтому в 70-е годы ХХ века вспыхнул «бум японизма» – потребность вспомнить себя, увидеть причину кризиса. Отсюда ретроспективный взгляд в свое сознание, в свою историю. Об этом свидетельствуют и публицистика, и произведения известных у нас писателей: Абэ Кобо, Оэ Кэндзабуро. Отсюда гротескная манера их письма: стремление к высшей Искренности, без которой недостижима Истина.

Илл. 68. Мисима Юкио
Более всего волнует японских писателей «паралич чувства». И эта тема пронизывает японскую литературу. О «параличе сердца, или способности к чувству, анемии чувств» говорит герой Абэ «человек-ящик». И у Оэ в «Потопе» («Объяли меня воды до души моей») подростки взбунтовались против разлагающегося общества в надежде на «новое чувство и новую мысль»: «Мы вступили в союз из-за „нового чувства" и, утвердившись в нем, придем к „новой мысли“» [188]188
Они повторяют слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского: «Юноша, не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренна, мелькнет новое чувство, а в нем новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя». Слова апостола Петра из 2-го послания: «… мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новую землю, на которой обитает правда» (2 Петр 3:13). Вот этой «правды» им не доставало, хотя и понимали они молитву по-своему.
[Закрыть]. Инстинкт им подсказывал, что первично чувство, а не мысль и что без обновленного чувства не обновится душа.
Человек-маска, человек-робот, жизнь напоминает театр абсурда, – вот что беспокоит писателей. И об этом – роман Абэ «Тайное свидание». Клиника, описанная в его произведении, оборудована по последнему слову техники: приборы, аппаратура, четкая организация труда. Но здесь не лечат – здесь следят друг за другом. И чем активнее эти маски действуют, тем хуже всем, тем хуже живому еще человеку. Это антимир, все здесь чужие друг другу: люди не могут чувствовать, со-чувствовать, не знают угрызений совести. Куда только ни пытаются скрыться антигерои Абэ: за стену, в яму, готовы жить в ящике – все напрасно. От себя не уйдешь. Жизнь непредсказуема, как стихия песка, который не имеет «своей собственной формы, кроме среднего диаметра в одну восьмую миллиметра… Но ничто не может противостоять этой сокрушительной силе, лишенной формы», – пишет Абэ в романе «Женщина в песках». Человек выпал из мира естественных связей и попал в антимир, где все происходит не по человеческим, а по каким-то другим законам, обрекая человека на отчаяние и одиночество. И он потерял ориентацию, попал в лабиринт, из которого нет выхода, потому что лабиринт и вовне, и внутри него – расплата за измену самому себе. Образуется мертвая зона, сжимается пространство, время идет вспять. Это ощущение преследует и Абэ, и Оэ. Человек выпал из Бытия и оттого сокращается, пока не сколлапсирует, как Короткий из романа Оэ «Объяли меня воды до души моей»: «Я первый оповещу мир о том, что человечество начало движение вспять и в теле каждого человека появились гены, направляющие его развитие и рост в обратную сторону».

Илл. 69. Сад Кинкаку. Старая сосна
Человек, утративший себя, способность видеть другого, распадается на части: «Я сознаю, что опускаюсь физически и духовно, и уклон, по которому я качусь вниз, явно ведет меня туда, где обитает нечто еще более ужасное, чем дух смерти». Но человек бессилен что-либо предпринять. «Ты, видимо, умерев, сможешь снова соединить себя, разрывающегося на части, в единое целое» (Оэ, «Футбол 1860 года»). И если не одумается, не опомнится человек, то лучше ему совсем исчезнуть, чтобы не губить землю – такова тема «Потопа» Оэ: «Я жаждал обличать людей в жестокостях, причиняемых деревьям и китам… Сопротивляясь, я прибегну к насилию, и мое тело и душа, принадлежащие последнему человеку на земле, взорвутся и, оставив все без ответа, превратятся в ничто. Вот тогда-то киты, обращаясь к своим неизменным друзьям – деревьям, вы пошлете сигнал: ВСЕ ХОРОШО! Каждый листочек, каждая травинка присоединит свой голос к могучему хору: ВСЕ ХОРОШО!». Больше нет тех, кто уничтожал вас во имя свое! Это – бунт против урбанизации тела и духа, которая противоречила исконному представлению японцев о должном, о Природе и божественной сущности самого человека. Разрушая Природу, человек разрушает себя, ибо Природа во всем, и в нем самом, дана ему во Спасение.
Чему нас научил XX век?
Почему так важно понять, чему нас научил ХХ век? Потому что речь идет о жизни и смерти человеческого рода, сделавшего все возможное, чтобы Земля отвергла его. Теряя со-чувствие, теряют Основу, ибо одно с другим соединяется через Чувство. Потому и страшны распад, «эмоциональная распущенность»: падшее чувство поворачивает человеческое развитие вспять. Все связано между собой: безумные оргии заглушают голоса Природы, от металлического рока сохнут не только цветы, но и человеческая душа! От глупости, вульгарности, пошлости иных передач по ТВ исходит отрицательная энергия, способная разрушить живую ткань души человека.
Ученые давно почувствовали опасность, угрожающую человеку, и стали бить в набат, призывая мир к новому мышлению. Для всего человечества прозвучал «Манифест Рассела-Эйнштейна». А 20 лет спустя (к двадцатилетию Пагуошского движения) на вопрос: «Научились ли мы мыслить по-новому?» – академик М. А. Марков дал неутешительный ответ: «Стало общепризнанным фактом, что цивилизованное общество пока интенсивно „работает" над превращением нашей планеты, где прежде самой природой были созданы условия для возникновения жизни, в пустыню, уничтожающую жизнь» [189]189
Марков М. А. Научились ли мы мыслить по-новому? // Вопросы философии. – 1977. – № 8. – С. 39.
[Закрыть]. (Опять «пустыня»!) Можно сказать, в наше время оправдались наихудшие прогнозы: сработал «злой умысел гангстерских групп».
То, что упущено человеком, начиная с инстинкта самосохранения, он должен вернуть себе сам. Теперь кое-кто начинает понимать, что «сенсорный голод» страшнее физического, но мало кто видит его причину, разве что неортодоксально мыслящие ученые – такие, как В. В. Налимов: «Многие психологи сейчас обращают внимание на роль эмоций в мышлении. Некоторые склонны даже видеть в этом отличие мышления человека от мышления ЭВМ. Не являются ли эмоции тем первым звеном естественного триггерного устройства у человека, которое затем с помощью механизма биохимического воздействия приоткрывает доступ к континуальным потокам сознания?» [190]190
Налимов В. В. Непрерывность против дискретности в языке и мышлении. – Тбилиси, 1978. – С. 38.
[Закрыть]
Папа Иоанн Павел II уже в первой энциклике призывал к «преобразованию разума и души». Но мысль, утратившая опору в чувстве, неспособна к благим переменам. «Усеченное сознание», «одномерный человек» не чувствует боль другого, не со-страдает, не терзается муками совести [191]191
О «кризисе мировой совести» говорил Фазиль Искандер, прощаясь с Виктором Астафьевым.
[Закрыть]. Одномерный человек признает что-то одно: или индивидуальную свободу (от всего святого), или всеобщую свободу – глобализацию, не видя особенного; и лишь загоняет болезнь вовнутрь. Если нет ничего святого – значит, все дозволено. Потому и глобализация, выросшая из прекрасных ростков Всеединства, у многих вызывает отторжение – протест против «тирании общего», грозящей обезличить человека (те же причины породили и движение контркультуры).
Значит, есть какие-то изъяны, что-то неладное в сознании тех, кто изо всех сил старается выстроить новый порядок. И не в том ли причина, что за общим не видят особенного, индивидуального, идет ли речь о человеке или о народе с его неповторимым, богоданным языком? «Универсальное не есть общее» (Бердяев). Естественная самозащита перед унификацией. (Рим старался все унифицировать, и чем это кончилось?!) Унификация сама по себе создает замкнутую систему, а замкнутая система обречена на вымирание. Тем более это актуально сейчас, когда Время требует разомкнутости, открытости, прозрачности. Однако унаследованная Западом форма сознания тормозит этот процесс, сообщая всему зависимость от мнимостей.
Но и в Японии, унаследовавшей совсем другую традицию, все обстоит не просто. Потому Оэ Кэндзабуро и назвал свою Нобелевскую речь 1994 года «Многосмысленностью Японии рожденный» [192]192
Пер. Н. Старосельской // Иностранная литература. – 1995. – № 5. – С. 176–183.
[Закрыть]. Как ни стремится Оэ привнести в японскую литературу лучшее из того, что он находит в европейской, все же делает он это чисто по-японски: не договаривая, намекая, подводит к мысли о самоидентичности личности. Но личности именно «достойной», «человечной» (французы называют такую личность humaniste) – «ведь оба эти слова включают в себя такие понятия, как толерантность и гуманизм». Оэ напоминает: профессор Кадзуо Ватанабэ «в атмосфере до безумия накаленных патриотических чувств в разгар и в конце Второй мировой войны, оставаясь одиночкой, лелеял мечту соединить гуманистический взгляд на человека с традиционным японским восприятием красоты и Природы, которое, к счастью, не было до конца истреблено». Японская традиция выдержала испытание той цивилизацией, которая скорее ассоциируется с «огнем и мечом», чем с «мечом и хризантемой». Однако в словах самого Оэ чувствуется ностальгия: «спустя сто двадцать лет после открытия страны и начала модернизации сегодняшняя Япония находится как бы между двумя полюсами многосмысленности. И я как писатель живу, чувствуя, что эти полюса отпечатались во мне, словно глубокие рубцы». Заканчивает речь словами об «изъянах и пороках» ХХ столетия, появившихся в результате «чудовищного развития техники и коммуникации» – в ущерб человеческим качествам, и мечтает «что-нибудь сделать для излечения и примирения человечества». Для этого и пишет свои романы.
В интервью критику Ватанабэ Хироси Оэ говорит о том, что побудило его написать роман «Объяли меня воды до души моей»: Великий потоп, означающий конец мира, подошел уже к самой груди, или душе, человека и вот-вот покроет его с головой, если люди не опомнятся и не перестанут разрушать Дом бытия. Он признает неизбежность встречного потока культур. Говоря словами поэта-романтика Китамура Тококу (1868–1994): «Поток стремится с Востока на Запад и с Запада на Восток. Страны света являют собой лишь разные стороны единого мира идей… Все высшие проявления человеческой мысли сообщаются между собой». Причастное Истине не исчезает, но что-то мешает их встрече.
И на Востоке, и на Западе рождаются одни и те же идеи, потому что исходят они из одного источника. Буддисты называют его «единым сердцем – сознанием» (иссин), христианские философы – «вселенским сознанием» (Е. Трубецкой). Об этом говорят и философы, и ученые, и писатели, такие, как Герман Гессе: «Возвратиться к вселенной, отказаться от мучительной обособленности; стать богом – это значит так расширить свою душу, чтобы она могла объять вселенную… Этим путем шел Будда, им шел каждый великий человек» [193]193
Гессе Г. Избранное. – М., 1977. – С. 258.
[Закрыть]. Только на этом Пути осуществится «человек гуманный», к которому направлен «человек разумный» в силу нравственной природы сущего. Не случайно сейчас и на Востоке, и на Западе начинают говорить о наступлении нового эона, о смене цивилизаций, о рождении «духовно-экологической цивилизации», несовместимой с существованием отношения господства – подчинения, вопреки Божьему Промыслу любви и свободы [194]194
Во всем, по Аристотелю, «сказывается властное начало и начало подчиненное. Это общий закон природы, и, как таковому, ему подчинены одушевленные существа. Правда, и в предметах неодушевленных, например в музыкальной гармонии, можно подметить некий принцип властвования» (Политика, 11, 2).
[Закрыть].

Илл. 70. Вид современного Токио
Идея «борьбы» и «власти» (архе) структурировала сознание. Признание «власти» атрибутом самой материи и «борьбы» – средством ее реализации узаконило отношение господства-подчинения, привело к тотальному раздвоению, объективации всех сущностей и самого человека. Началась эпоха «двоицы», которую характеризует девиз римлян «Разделяй и властвуй». Плотин считал пифагорейскую «двоицу» первым различием и «дерзостью», послужившей причиной распадения Единого на множество. А вследствие того, что ум отпал от Единого, отпала от ума и душа. Сознание оказалось в тисках «двоицы», необратимого процесса раздвоения, что и побудило крупнейших ученых, от Эйнштейна и Бора до Вернадского и Курдюмова, обратиться к восточным учениям, провозгласившим Срединный Путь. Но ничто не меняется с таким трудом, как образ мышления, структура сознания.
Скажем, уже позитивист Огюст Конт («Общий обзор позитивизма») верил в неизбежность смены эгоизма альтруизмом, в движение духа через теологическую, метафизическую к позитивистской фазе, когда утвердятся «любовь как принцип, порядок как основание и прогресс как цель». Но ни того, ни другого, ни третьего не произошло, ибо не изменился, в сущности, образ мышления. Лишь после катаклизмов ХХ века, взрывов вселенской энергии потрясенное человечество задумалось о причине катастроф. Николай Бердяев посвятил этому почти все свои работы. Он, в частности, писал: «Сознание есть „несчастное сознание“. Сознание подчинено закону, который знает общее и не знает индивидуального. Самая структура сознания легко создает рабство» [195]195
Бердяев Н. О рабстве и свободе человека. – Париж, 1939. – С. 38. А на другом конце света Николаю Бердяеву вторит Судзуки: «Современная болезнь указывает на то, что мы потеряли свое духовное равновесие… Люди не знают, что такое высшее Я, и склонны принимать свое мелкое эгоистическое „я“ за высшее… Там, где нет высшего Я, спонтанность становится распущенностью, а распущенность есть рабство». (Дайсэцу Судзуки. Основы Дзэн-буддизма. – Бишкек, 1993. – С. 360–361.)
[Закрыть]. Рабство «есть прежде всего структура сознания… „сознание" попадает в рабство к „бытию“… Человек – раб окружающего внешнего мира, потому что он раб самого себя, своего эгоцентризма» [196]196
Бердяев Н. О рабстве и свободе человека. – С. 38, 110–111.
[Закрыть].
Раздор и войны не исчезнут, пока не изменится сознание, запрограммированное на борьбу, пока не изменится угол зрения человека на мир. Эрих Фромм попал в точку, поставив человека перед необходимостью выбора: «быть, чтобы иметь» или «иметь, чтобы быть». Это напоминает дзэнский коан «Му», Ничто или «ни то, ни это»: в вопросе уже содержится ответ. Впрочем, об этом знал и Холстомер Льва Толстого. Лишь преодолев свое эго, освободившись от его тирании, человек найдет себя истинного, подлинную, а не мнимую свободу. Подлинно же свободный не посягает на свободу другого.

Илл. 71. Вход в храм Тодай-дзи, Нара
Известны слова Достоевского: «Без чистого сердца – полного, правильного сознания не будет». Можно заглянуть еще дальше, в глубину веков, в проповедь апостола Павла: «Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (Тит 1:15). И в буддийской сутре «Вималакирти» сказано: «Если сердце чисто, то и все чисто; если сердце нечисто, то и все нечисто». На языке Конфуция: «Истинный человек (цзюнъцзы) идет вверх. Мелкий человек (сяожэнъ) идет вниз» (Луньюй, 14, 23). Это значит, что энергия цзюньцзы все более утончается, одухотворяется по мере приближения к Небу, что позволяет осуществить назначенное человеку: стать Срединным между Небом и Землей, Триединым, осуществить небесный замысел на Земле [197]197
Об этом и у Владимира Эрна: «Человек может и должен явиться действительным посредником между двумя мирами, той точкой, в которой оба мира реально соприкасаются… а без этого, без признания именно за человеком назначения утвердить царство свободы в царстве необходимости не может быть осмыслен процесс вселенского освобождения, ибо это освобождение совершается и должно совершаться через людей» (Эрн В. Ф. Борьба за Логос. – М., 1911. – С. 200).
[Закрыть]. Сяожэнь, наоборот, сосредоточен на себе: «цзюньцзы думает о Справедливости, сяожэнь – о выгоде» (Луньюй, 4, 16). Истинный человек, «утвердившись в Основе, следует Пути» – укоренен в Бытии. Мелкий человек не укоренен в Бытии, создавая мнимости, круговращаясь в обратном порядке, попадает в воронку. Он выпадает из Бытия, утратив свою неповторимость, индивидуальную душу, через которую человек сообщается с высшим Духом (Шэнъ). «Сяожэнь подобен другим, но не гармоничен; цзюньцзы не подобен другим, но гармоничен» (Луньюй, 13, 23). Увлекаемый эгоцентризмом сяожэнь движется вниз, теряя себя и распадаясь, превращается в космическую пыль.

Илл. 72. Благовония у храма Тодай-дзи
Мысли, которые рождались на Востоке и на Западе, похожи, ибо исходили они из одного – Вселенского сознания. Только претворялись по-разному – в зависимости от угла зрения. Если одни следовали принципу «или то, или это» – третьего не дано, то другие верили: «то и это» суть одно; когда следуешь Срединному Пути, спасаешь себя и других. Лев Толстой увидел в этом правоту мудрецов Востока: «Внутреннее равновесие есть тот корень, из которого вытекают все добрые человеческие деяния… Путь неба и земли может быть выражен в одном изречении: „В них нет двойственности, и потому они производят вещи непостижимым образом“» [198]198
Цит. по: Буланже П. А. Жизнь и учение Конфуция. – М., 1903. – С. 36–38.
[Закрыть].
Когда у Конфуция спросили: можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом, он ответил: «Это слово – отзывчивость (шу). Не делай другому того, чего не желаешь себе» [199]199
Луньюй, 15, 23. Цит. по: Сочинения китайской классики. – Т. 3. – Ч. 2. – Токио, 1965. – С. 10. Иероглиф шу (япон. дзе) имеет еще значение «со-чувствие, терпимость, великодушие».
[Закрыть]. А Ван Гог скажет: «Нет ничего более художественного, чем любить людей». В наше время Герман Гессе призывает «возвратиться к вселенной, отказаться от мучительной обособленности; стать богом…».
Новое мышление есть осознание того, что Единое невозможно без единичного («Одно во всем, и все в Одном» или что нет того, что не было бы свято). Когда соединится ум с сердцем, тогда соединится и все остальное – все, что было разрознено веками, и прежде всего разум и чувство, ибо не освященный чувством разум рано или поздно погубит человечество. Применительно же к глобализации единение людей во имя их спасения невозможно без индивидуализации, по закону двуединства сущего, или Срединного, Пути – Пути мудрости (в традициях русского богословия и философии – Софии).
Тогда и осуществится «человек гуманный», к которому должен прийти «человек разумный» (homo sapiens et humanius) в силу нравственной природы, имманентной сущему. Потому и говорят о «потребительской цивилизации», обслуживающей эго, о ее неизбежной смене цивилизацией «духовно-экологической». Сознание, которое на протяжении ХХ века боролось с духом, в то же время (само не ведая того) пробуждалось к Истине. Определились Верх и Низ, и легче стало различать Свет и Тьму. Все само по себе становится на свои места (с головы на ноги), и труднее стало подменять цель и средство. «Цивилизация возникла как средство, но была превращена в цель. Культура есть средство для духовного восхождения человека, но она превратилась в самоцель, подавляющую творческую свободу человека» [200]200
Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. – С. 109.
[Закрыть]. В конечном счете, все упирается в человека – «меру вещей», но каков человек, такова и мера. Конфуций говорил: «Если инстинкты побеждают образованность (культуру, вэнь), то получается дикарь. Если образованность побеждает инстинкты, то получается книжник. У истинного человека – то и другое в равновесии» (Луньюй, 6, 16).

Илл. 73. «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи
По закону Целого, чем больше сгущается тьма в одном месте, тем больше света в другом, и тьме уже некуда скрыться. Волей-неволей человек начинает открываться Доброму – той Истине, которая притягивает современников к традиционному японскому искусству. Традиция теряет силу, если обрывается ее связь с жизнью, но и жизнь теряет силу, если теряет опору в традиции. Японское искусство таит в себе нечто такое, что помогает обрести устойчивость в неустойчивом мире, – спокойствие души. Не удивительно, что во многих городах мира, и в России в том числе, появляются общества любителей хайку. Не потому ли, что хайку учат думать сердцем? Они отвечают на зов современности, которая, по убеждению Т. Роззака, должна восстановить способность непосредственно обращаться к Природе, «возродить трансцендентную энергию сознания, чтобы спасти урбанистско-индустриальное общество от полного самоуничтожения».
Дайсэцу Судзуки в «Очерках о Дзэн» сравнивает стихи Мацуо Басе и английского поэта XIX века Теннисона:
Внимательно вглядись!
Цветы пастушьей сумки
Увидишь под плетнем!
Это, конечно, Басе (в переводе Веры Марковой): «забыв себя», увидишь цветок, «как есть» – коно мама [201]201
Судзуки рассказывает: это мелкий, незаметный, дикорастущий цветок. Даже во время цветения незаметна его красота, и, тем не менее, он выполняет все, что предназначено живому существу Духом Творения. Его скромная красота не от человеческой намеренности, в ней нет ничего искусственного. Когда же Теннисон заметил цветок в трещине стены, он сорвал его и, держа в руке, предался размышлениям о смысле жизни. В этом вся разница между восточным и западным восприятием вещей: для Басе цветок – не объект анализа, он просто восторгается им – коно мама.
[Закрыть]. Век назад вряд ли так остро ощущали разницу между отношением к Природе японца и европейца:
Возросший средь руин цветок,
Тебя из трещин древних извлекаю.
Ты предо мною весь – вот корень, стебелек,
Здесь, на моей ладони.
Теннисон

Илл. 74. Иероглифы Тю-До – «Срединным Путь»
Эрих Фромм, считавший своими Учителями Христа, Будду, Майстера Экхарта, комментирует: «Отношение Теннисона к цветку является выражением принципа обладания, или владения, но обладания не чем-то материальным, а знанием. Отношение же Басе и Гете к цветку выражает принцип бытия. Под бытием я понимаю такой способ существования, при котором человек и не имеет ничего, и не жаждет иметь что-либо, но счастлив, пребывает в единении со всем миром» [202]202
Фромм Э. Иметь или быть? – М. 1995. – С. 24–25.
[Закрыть].
Собственно, обе позиции (знание – наука и чистое созерцание) взаимодополнительны и возникли, видимо, в силу высшей Необходимости, устремляющей сущее к Единому. Неощущение Великого Предела привело к раздвоению вселенской энергии, к переизбытку Огня (сдвоенное низшее Ян), что ставит под угрозу жизнь во Вселенной. Отсюда и тревога проницательного ума, устремленного к Срединному Пути или «предустановленной Гармонии», которая пред-определена человеку независимо от него [203]203
Н. Бердяев говорил о «заболевании бытия»: отпадение от Абсолютного Разума «разделяет субъект и объект и делает восприятие мира смутным и нездоровым. Но отпадение не есть полная потеря связи с Абсолютным Разумом, с Логосом; связь эта остается, и в ней дан выход к бытию и познанию бытия в его абсолютной реальности» (Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. – С. 132).
[Закрыть]. Это Путь, а цель – Добро, Благо. В древнекитайском «Учении о Середине» сказано: «Середина (Центр – чжун) – Великий Корень (Основа – бэнь) Поднебесной. Гармония (Хэ, япон. ва) – совершенный Путь Поднебесной»; «Великая Основа – это то, откуда все произрастает, – изначальная Природа, Веление Неба, Закон Поднебесной (Ли)… Если следуют Середине и Гармонии, на Земле воцаряется счастье, и все процветает». «Цзюньцзы пребывает в Центре, сяожэнь – напротив» [204]204
Чжун-юн. Сочинения китайской классики. – Т. 4. – Токио, 1967. – С. 176, 178, 181.
[Закрыть].
Для японцев этот Корень или Основа – Красота. И Кавабата напоминает миру в Нобелевской речи, что есть преходящие ценности и есть вечные: «Созерцание Красоты пробуждает сильнейшее чувство сострадания и любви, и слово „человек“ начинает звучать как слово „друг“.
„Снег“, „луна“, „цветы“ – о красоте сменяющих друг друга четырех времен года – по японской традиции олицетворяют Красоту вообще: гор, рек, трав, деревьев, бесконечных явлений Природы и красоту человеческих чувств».
В одном из своих последних эссе («Нетленная Красота») Кавабата по-своему воспроизвел «Истину» Утимура Кандзо, сказав, что будущее страны зависит не от мощи государства, не от материального богатства, а от духовной красоты народа [205]205
Утимура Кандзо напоминал: «Истина исходит от Бога, не от государства. Страну можно спасти лишь делами Истины. Если сохранить верность Истине, то и поверженное государство воспрянет. Отречемся от Истины, и процветающее государство погибнет. Кто радеет о человечестве, ставит Истину выше верности государству».
[Закрыть]. То есть от того самого «чистого, светлого, правдивого сердца», вера в которое уже не может исчезнуть, пока жива Япония. И разве не удивительно, что примерно в то же время почти теми же словами говорит Николай Бердяев: «…раскрытие истины абсолютной и вечной выше всего в мире, выше счастья людей; выше всякого знания для человечества, выше спокойствия, выше хлеба земного, выше государства, выше самой жизни в этом мире. Миру должно быть поведано слово истины, объективная правда должна раскрыться, чего бы это ни стоило, и тогда человечество не погибнет, а спасется для вечности… Люди – дети Божьи, им уготовано божественное назначение, они в силах вынести тяжесть свободы и могут вместить мировой смысл» [206]206
Бердяев Н.А. О Великом Инквизиторе. – М., 1991. – С. 234.
[Закрыть].

Илл. 75. Сэссю Тое (1420–1506). Осенне-зимний пейзаж
Здесь «все берега сходятся», по прозрению Достоевского: «Красота спасет мир», потому что она присуща ему, потому что она есть Целое или Истина [207]207
Можно вспомнить и слова Сергея Булгакова: «Не художник творит красоту, но красота творит художника, делая своего избранника своим орудием или органом. Искусство не создает, но лишь являет красоту» (Булгаков С. Н. Свет Невечерний: Созерцания и умозрения. – М., 1994. – С. 330).
[Закрыть]. Там, где нет полноты и единства (Плотин), нет и прекрасного: «Душа никогда не увидит красоты, если сама раньше не станет прекрасной, и каждый человек, желающий увидеть прекрасное и божественное, должен начать с того, чтобы самому сделаться прекрасным и божественным».
Удивительно, насколько точно и полно все уже сказано провидцами Востока и Запада – имеющий уши да услышит. «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14:6). Значит, вне Пути нет Истины, а вне Истины – нет Жизни.
И у современной японской молодежи появилась тенденция переворачивать все с ног на голову. Но эта тенденция временная, своего рода «болезнь роста» перед «трудными родами». В этой ситуации опасно спешить не туда, в неверном направлении. Опасно поощрять дух отрицания, нигилизма, как это произошло, скажем, в русской литературе век назад – до сих пор она не может оправиться от нанесенного самой себе удара.
Собственно, и современные классики Японии: Кавабата, Танидзаки – начинали с отрицания национальной традиции, но вовремя остановились. Японские писатели с годами возвращаются к истокам. Да и молодые писатели вряд ли смогут долго продержаться в этой «невесомости», когда «…все на свете проносится мимо, – по ощущению Мураками Харуки. – Вот и нас несет неведомо куда». Для японцев, прошедших школу самурайской самодисциплины, самообладания, без которых вряд ли были бы возможны успехи современной Японии, это в целом не характерно. И все же именно Мураками, представитель молодого поколения японских писателей, наиболее известен и на Западе, и у нас в России. Его роман «Охота на овец» ошеломляет непривычным для японца взглядом на вещи, хотя писатель следует коно мама. Что-то, действительно, произошло с человеком, и Овца уже не хочет быть жертвенной, а хочет властвовать над человеком, почувствовав его немощь, бессилие сопротивляться [208]208
Произведение Мураками Харуки талантливо переведено Дмитрием Ковалениным (СПб., 2000), но перевод названия романа – «Охота на овец» не точен. Сказалась, видимо, наша привычка придавать всему множественный характер (о чем я уже писала в связи с переводом повести Кавабата «Тысячекрылый журавль»). Речь, видимо, идет об одной Овце, захотевшей свести счеты с человеком, не оправдавшим Его Жертвы. Но «Охоту на овец» можно, наверное, понимать и как охоту на людей, уподобившихся овцам (в духе американского фильма «Планета обезьян»).
[Закрыть]. Так или иначе, это вызов той действительности, где человек потерял себя, хотя внешне все вроде бы в порядке. Человек уже не может преодолеть притяжения жуткого, «параллельного» или теневого мира, где угасла Жизнь. Но он не может и убежать от него или от себя, от своей внутренней опустошенности, утратив ту Основу, которую хранили его предки, умевшие восторгаться временами года и причащаться Красотой Небытия (Му-но би).