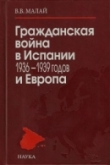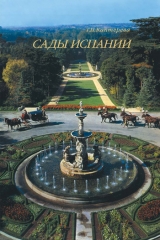
Текст книги "Сады Испании"
Автор книги: Татьяна Каптерева
Жанры:
Сад и Огород
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Содержащиеся в описании райского сада словно приземленные, близкие к действительности мотивы восходят к древневосточной традиции представлений о загробном мире. По росписям гробниц, «Текстам пирамид» и рисункам «Книги мертвых» можно судить, что в древнеегипетской мифологии иару – поля блаженных, окруженные стеной из бронзы, представляли собой плодородные поля, прорезанные каналами, по которым плавают лодки, а на берегу теснятся сикоморы, финиковые и кокосовые пальмы, злаки вызревают выше людей, собирающих урожай. Коранические картины райских наслаждений трактовались многими богословами как иносказания, другие же допускали их плотский характер. «В Коране живо ощущается представление о высшем наслаждении, свойственное неприхотливым и живущим в суровых условиях жителям пустыни и изолированных оазисов. В целом мусульманский образ рая можно считать аравийским развитием народных представлений о рае, бытовавших среди последователей разных ближневосточных религий»(Ислам. Энциклопедический словарь. ЧМ., 1991. С. 59.).
Образ райского сада оказал огромное влияние на поэзию и искусство мусульманского мира, отразился в произведениях архитектуры и художественного ремесла, определил изобразительный строй миниатюры.
В искусство миниатюры XIV–XVI столетий значительный вклад внесли порожденные творческим воображением и вековыми культурными традициями многих народов мусульманского Востока живописные школы миниатюры Ирана, Азербайджана, Афганистана, Бухары, Самарканда XIV–XVI веков; они были целостным стилевым явлением, в котором отношение к миру, круг образов, изобразительные особенности воплощали эстетические идеалы средневековой эпохи.
Искусство миниатюры было глубоко созвучно цветистой и изощренной поэзии Востока. Живописцы запечатлевали подвиги легендарных героев, битвы, торжественные пиры, лирические сцены, воспевавшие высокие чувства любви и верности. Искусство миниатюры условно и декоративно, оно не знает светотени и перспективы. Изображение строится на основе тончайшего линейного рисунка и сочетании чистых и звучных цветовых пятен, фигуры и предметы расположены без сокращений вверх на плоскости листа, подобно красочному узору. Условные приемы ограничивают изображение человека: его позы, жесты, передача чувств подчинены канону. Как и в поэзии, в миниатюре господствовал обычай повторения широко известных, признанных сюжетов и художественных приемов. Вновь созданное произведение ценилось прежде всего за свое единство с уже известным, ранее существовавшим.
Мир восточной миниатюры – слияние реальности, вымысла и символики. Образы праздничны, полны радости жизни. Чаще всего представлен роскошный сказочный сад. Розовые, голубые, сиреневые, золотые, покрытые пестрым ковром лужайки окружают громоздящиеся скалы, подобные кускам драгоценной лавы. Небо золотое или ярко-синее с затейливыми бегущими белыми облачками. Украшенные изразцами здания открывают взору внутренние дворики и парадные покои. Люди в богатых одеждах, звери и птицы с их любовно переданными повадками, отмеченные тонким вкусом предметы утвари – все это, связанное единым композиционным, линейным и цветовым ритмом, создает образ пленительной красоты.
Представление средневековых поэтов и живописцев о чудесном райском саде вдохновлялось благодатной и благоуханной природой Востока. Райский сад – это символ цветения, весны, выявления внутренних животворных сил природы. Красота пейзажа не только в богатстве красок, природа подобна сказочному ларцу, полному сияющих драгоценностей. По словам поэта, все сезоны превосходит лучезарная весна, которая приносит цветы и свет; «Тогда земля – яхонт, воздух – жемчуг, растения – бирюза и вода – хрусталь». Эти строки принадлежат сирийскому поэту Х века Ахмаду абу Бакру, по прозвищу ас-Санаубари, придворному библиотекарю города Халеба (Алеппо). Одним из первых он, оставивший последователей, воспел красоту сада; отойдя от традиционных формул, искал смелые, сводимые к зрительному образу, сравнения, стремился наполнить окружающий мир воздухом, светом, игрой красок. Вместе с тем в арабской поэзии поэтические описания природы по-своему декоративны, статичны, орнаментальны. Лик земли открывается взору поэта как лента, или узор, как роскошная ткань, рощи расписаны золотом, деревья, плоды, птицы уподоблены драгоценным изделиям, изображения дворца, сада, рек и ручьев, а также могучего правителя и прекрасных женщин наделены светозарностью.
Внутренней близости поэзии и искусства сопутствовала связанность слова с музыкой, а музыки с архитектурой и орнаментом. Если представить себе художественное наследие арабского мира как цельную художественную систему, в состав которой входили искусство слова, архитектура, музыка, орнамент, каллиграфия, то необходимо признать, что все эти виды творчества объединялись общим характером поэтики, тяготеющей к формам условной выразительности. В тех же видах творчества, которые, как, например, миниатюра, оказались ближе всего к воспроизведению реальности, особый изобразительный язык с его арсеналом пересоздающих изобразительных средств обнаружил стилевую близость к архитектуре и орнаменту. Важная роль, которую прикладная математика играла в искусстве арабских народов, основывалась не только на выдающихся достижениях точных наук, но и вытекала из самой природы архитектуры, музыки и орнамента, где строгая логика чисел и ритмических построений обрела особую эстетическую ценность.
Сад – одно из совершенных созданий художественной культуры средневекового мусульманского Востока. Сад – детище придворной культуры, место приемов и празднеств, развлечений и отдыха правителя и его семьи, был неразрывно связан с дворцовым строительством.
Огромный размах средневекового дворцового строительства, о котором в настоящее время можно судить лишь на основании архитектурных фрагментов и литературных источников, кажется чем-то эфемерным. Почти все знаменитые, воспетые современниками постройки и их великолепные сады бесследно исчезли. Особое место в истории дворцовых сооружений арабского средневековья занимает такой сравнительно поздний памятник, уникальный по степени сохранности, полноте выражения стиля и художественной ценности, как ансамбль Альгамбра в Гранаде. Образ андалусского сада здесь усложняется, словно поднимаясь на более высокий уровень выразительности, становится одним из слагаемых художественного синтеза прославленного ансамбля.
Множество впечатлений и проблем, которые дарит путешествие по Альгамбре, ограничено пределами предложенной темы.
Гранада, расположенная в предгорьях Сьерры-Невады, на склоне холмов, спускающихся в долины рек Хениль и Дарро, обладает исключительными природными условиями. Здесь горячий зной южного солнца смягчается близостью снежных гор – источником прохлады и обильной массы воды, дающей жизнь вечнозеленым садам и рощам. На одном из холмов, у подножия которого течет река Дарро, расположена самая древняя часть Гранады – Альбайсин, самостоятельный, густозаселенный городок с множеством церквей и домов, карабкающихся в гору и окруженных садами; тип гранадского дома с внутренним цветущим садом получил местное название «кармен».
Подобно белой лавине Альбайсин спускается к Дарро, где река течет в глубоком овраге. По другую сторону оврага, заросшего вязами, дубами и буками, поднимается высокий холм ал-Сабика, на котором стоит Альгамбра в окружении крепостных стен и многочисленных разномасштабных башен.
Дворцовые постройки составляют часть комплекса, который включал дворцы, сады, крепость, мечети, жилые дома, бани, склады и кладбище. На западном склоне холма расположена самая старая часть Алькасаба (от арабского «касба» – крепость), которая входит в общую оборонительную систему, плотным кольцом длиной 1400 м замыкающую холм ал-Сабика.
Вплоть до конца XIX века Алькасабу окружало множество поздних ничтожного вида построек. Археологические и реставрационные работы, начатые с 1920 года, в известной мере вернули крепости ее первоначальный облик. Заключенная в кольцо мощных стен крепость с ее башнями, казармами, складами, конюшнями, подвалами, проходами и бастионами предстала как превосходный образец фортификационной средневековой архитектуры. Вместе с тем время, следы разрушений, разросшаяся зелень придали Алькасабе романтически-живописный вид.
Если выйти на западную сторону крепости, то взору неожиданно предстанет удивительное зрелище: на редкость привлекательный уютный сад, разбитый в XVII веке на месте орудийных площадок Лос Адарвес и сохранивший это название. Узкая полоса высоко вознесенного сада, засаженного розами и миртами, с редкими деревьями, круглым фонтаном и каменными скамьями тянется вдоль увитых плющом стен и принадлежит к числу тех чудес, которые хранит Альгамбра. Сад Лос Адарвес выходит на площадь Цистерн (Пласа де лас Алхибес), возникшую в 1494 году на месте засыпанного оврага, отделявшего Алькасабу от дворцовых построек. На восточной стороне площади расположен обращенный к ней западным фасадом, словно безучастный ко всему окружающему, квадратный массив дворца Карла V.

Альгамбра в Гранаде. Слева на переднем плане – Алькасаба
В руках испанцев взаимосвязанные и вместе с тем самостоятельные памятники Альгамбры были объединены под общим названием «Casa Real Vieja» (Старый Королевский дворец, или дом); Фердинанд Арагонский отдал в 1515 году специальный приказ о сохранении Альгамбры – «столь исключительно великолепного сооружения». Но уже в 1525 году Карл V Габсбург начал возводить внутри Альгамбры колоссальный дворец в стиле итальянского Возрождения. Окончательно завершенное только столетиями позже, тяжеловесное и чужеродное здание все же не смогло нарушить единство ансамбля.
Основание Альгамбры принадлежит времени правления первого эмира Гранады Ибн ал-Ахмара (1238–1273), однако дошедшие до нас дворцовые и административные сооружения относятся в основном к XIV веку. Названия построек или частей Альгамбры, условные и случайные, в большинстве своем утвердились уже после испанского завоевания, они связаны с множеством легенд или имеют фольклорную основу.
Парадной резиденцией гранадских правителей считается дворец Комарес, центральную часть которого занимает двор с прямоугольным водоемом, обсаженным по длинным сторонам подстриженными миртовыми деревьями. На восточной и западной стороне двора, называемого Миртовым или Альберкой (бассейн), тянутся гладкие плоскости побеленных стен с двойными окнами и нишами, а по торцам расположены изящные аркады на стройных тонких невысоких колонках. С севера возвышается мощная золотисто-розовая башня Комарес, внутри которой помещается великолепный Зал послов, где находился трон эмира. Зодчий сумел органично объединить башню с легкими, насыщенными светом формами открытого двора. Огромная роль здесь принадлежит зеркальной, поднятой до уровня пола поверхности водоема. Отражая в изменчивом преломлении башню Комарес, ажурные тимпаны арок, темную зелень мирт, синеву неба и сам воздух, водоем создает ощущение простора, расширяет пространство, вводит в образ временное начало. В архитектуре Миртового двора преобладают прямые линии, большие гладкие плоскости; объединяющим началом всей композиции служит строгая горизонталь деревянного карниза – алеро. Все полно гармонии, благородства и ясного покоя.

Миртовый двор дворца Комарес в Альгамбре

Двор Львов в Альгамбре. Фрагмент
С дворцом Комарес тесно соседствует Дворец Львов, расположенный к нему под прямым углом. Дворец Львов – это более интимный тип дворцового жилища-сада, где протекала частная жизнь монарха, своего рода царственный вариант гранадских домов кармен. Так же как и дворец Комарес, здание построено по симметричному осевому плану. В центре Дворца открытый небольшой двор с четырехчастной композицией и фонтаном, круглую известковую чашу которого поддерживают двенадцать каменных изваяний львов XI века, давшие всему сооружению его позднее название. Вдоль двора идет арочная галерея из подковообразных тонких мраморных колонн. По коротким сторонам расположены павильоны, увенчанные куполами, которые скрыты под шапками четырехскатных черепичных крыш. Двор Львов пленяет строгой соразмерностью частей, совершенством композиции и вместе с тем изысканной причудливостью. За кажущейся произвольностью расстановки колонн можно проследить их четкую ритмическую организацию. Заняв словно по волшебной команде свои места, они стоят под тяжестью деревянного карниза, крепкие и сильные, как натянутые струны. Помещения, которые окружают Двор Львов, – это поистине сказочные чертоги. Зал двух сестер после взятия Гранады служил королевской столовой и получил свое название из-за двух одинаковых гладких мраморных плит у основания круглого фонтана. Звездчатый купол зала, составленный из пяти тысяч сталактитовых ячеек на основе тончайшего расчета, создает совершенно фантастическое впечатление. В его ячеистой и слоистой структуре есть что-то зыбкое, неуловимое, не поддающееся описанию. Эффект парения, странной подвижности усилен освещением из окон, расположенных в нижней зоне восьмиугольной обрамляющей звезды. Космическая символика изменчивого и в то же время вечного небесного свода находит здесь поразительное зримое воплощение. Вдоль изразцовой панели стен Зала помещены вписанные в медальоны стихи придворного поэта Ибн Зумрака. За пышной вычурностью стихов угадывается восхищение поэта красотой дворца, портиков, аркад, капителей колонн, узоров, покрывающих стены, как драгоценные ткани, и купола – образа небесного свода. Надписи воспевают божественное совершенство дворцового сада: «Я – сад, который украсила красота, ты познаешь мое существо, если вглядишься в мою красоту» (касыда Ибн Зумрака), «Это – сад, в нем постройки так прекрасны, что Богом не разрешена существовать другая красота, могущая с ним сравниться» (одна из надписей на чаше фонтана во Дворце Львов). Включение поэтических строк в убранство Альгамбры наполняет ее покои жизнью звучащего слова.
По оси Зала двух сестер открывается вход в Зал двойных окон и в маленькое помещение, называемое мирадором Линдарахи (искаженное арабское «глаза дворца султанши»). Чудесный, в драгоценном уборе тончайшей, словно невесомой стуковой резьбы, зал-балкон с арочными окнами на три стороны (центральное окно – двойное) предназначен для созерцания простирающихся внизу дворцовых садов. Низко расположенные окна рассчитаны на мусульманский обычай сидеть на полу, на подушках.
Дараха не принадлежала к сказочным персонажам Альгамбры, дочь правителя Малаги, подданного гранадского государя, она имела собственные покои во дворце, где была отпразднована ее свадьба с одним из андалусских принцев. Сад Дарахи, лежащий у подножия мирадора трапециевидной формы – на редкость поэтичный уголок ухоженной природы с арочной галереей по боковым сторонам, кипарисами, апельсиновыми и лимонными деревьями и круглым фонтаном 1626 года, воздвигнутым на месте более старого и сохранившего арабскую надпись: «Как прекрасен сад, где земные цветы соперничают со звездами небесными! Что может сравниться с чашей этого алебастрового фонтана, наполненного хрустальной водой? Ничто, кроме полной луны, сияющей на безоблачном небе!» Сад Дарахи и, по-видимому, совсем крошечный Сад решетки или Сад кипарисов в юго-западном углу представляют собой часть обширной системы дворцовых садов, уничтоженных во время возведения на их месте парадных апартаментов Карла V в ренессансном стиле, в одной из комнат которых жил американский писатель Вашингтон Ирвинг. За пределами садов, в лесном массиве долины Дарро находился зверинец. К дворцам примыкали полуподземные дворцовые бани, следовавшие опыту римских терм и состоявшие из четырех помещений, украшенных изразцами, резьбой по дереву и стуку.
К востоку от основных дворцовых зданий и под защитой крепостных стен Альгамбры располагались исчезнувшие дворцы представителей царствующего дома, приближенных султана и придворной знати. Некоторые сооружения частично сохранились, главным образом потому, что были включены в объемы крепостных башен. К числу самых старых, восходящих, возможно, к XIII веку построек принадлежит Дворец Портика, Дворец Парталь, с XVIII века получивший название Башня дам. Дворцовый портик из пяти арок на колоннах с прекрасным наборным потолком отражается в водах прямоугольного водоема, украшенного двумя каменными фигурами сидящих львов (1365), перенесенными сюда из разрушенного арабского госпиталя в Альбайсине. То, что называется сейчас Башней дам, представляло собой торцовую сторону большого открытого двора с водоемом; архитектура, замыкающая остальные стены, не сохранилась. В настоящее время Башня дам производит впечатление изящного садового павильона с двумя фасадами, одним, обращенным к Альбайсину, и другим – в сторону водоема и садовых партеров. Вся эта местность получила название Парталя, где в 1928 году были разбиты сады, заменив те, которые существовали во времена эмирата и окружали многочисленные постройки. Просторная, открытая композиция садов с несколькими водоемами и невысокими посадками преимущественно розовых кустов следует повышающемуся рельефу местности. Составляющее часть Альгамбры пространство, которое развивается в северо-восточном направлении, называется Секано (засушливая местность) потому, что в XVI веке была разрушена система водопровода, орошавшая эти земли, застроенные мусульманскими и христианскими зданиями (раскопки их начаты в 1930 году).

Сады Парталь в Альгамбре
За пределами стен Альгамбры находится летняя резиденция гранадских государей – Хенералифе, завершенная в 1396 году. Ее арабское название звучало как Джаннат ал-Ариф и означало Верхний сад. Через овраг шел когда-то крытый переход, сейчас же в Хенералифе добираются по длинной аллее, обсаженной вековыми кипарисами, настоящими исполинами со смыкающимися в высоте темными верхушками; в кипарисовых аллеях, как и повсюду, поют соловьи.
Система садов с включением в них легких построек павильонного типа – уникальный для Испании образец ансамбля такого рода. Несмотря на сильные изменения в христианское время в планировке, архитектуре и декоративном убранстве, Хенералифе сохранил неповторимый мавританский характер в чувстве природы и красоты культивированного сада.
Подобно другим сооружениям средневекового арабского мира, сад, обведенный глухой каменной стеной, представлял собой как бы скрытое сокровище. Вход в него открывался через небольшой, украшенный зеленью двор, где прибывшие гости – всадники привязывали своих коней. Рельеф местности, расположенной на холме выше Альгамбры, обусловил планировку сада на двух террасных уровнях. Нижний сад, вытянутый вдоль внутренней стены, состоит из нескольких дворов и главного из них – Патио де Асекья (Двор водоема, 48,7 х 12,8 м), засаженного кипарисами, цветущими кустарниками и розами. Всю длину двора занимает узкий бассейн (40 м), заключенный в каменную гладкую раму. По сторонам бассейна серебристые струи высоких фонтанов перекидывают непрерывную сеть тонких арок. Бассейн пересечен переходом, образующим в плане традиционное крестообразное членение всего двора, в центре которого находится фонтан в виде каменной круглой чаши с гранеными бортами; два таких же фонтана размещены по концам водоема. Торцовые стороны двора на севере и юге занимают дворцовые здания с изящными арочными портиками. Боковые стороны ограничены поздними закрытыми галереями. Из северного дворцового павильона можно пройти в Кипарисовый двор (Патио де лос Сипресес) с очень старыми кипарисовыми деревьями, давшими ему название. Здесь начинается Верхний сад, главная достопримечательность которого – Эскалера дель Агуа – Лестница Воды, редкий в мавританской традиции пример каскада, состоящего из трех проемов. Ручей бежит вниз через цепочку маленьких бассейнов, струи воды стекают и по парапету лестницы, ветви лавра и орешника образуют над каскадом естественный свод. Венецианский посол Андреа Наваджеро, находившийся в Испании в середине XVI века, посетив Хенералифе, высоко оценил мастерство водоснабжения садов и красоту Эскалеры. На склоне холма когда-то находились другие, окруженные садами, дворцовые постройки, но они не дошли до нашего времени.

Сады Хенералифе в Альгамбре. Двор Асекья и северный павильон
Архитектуру зданий Альгамбры и дворцовых садов сближают многие общие черты, обусловленные сложной взаимосвязанностью различных эстетических категорий в культуре ислама, отличающихся сочетанием эффектов умозрительного, интеллектуального и эмоционального порядка, богатством зрительных впечатлений, развивавшихся в пределах строго организованной системы.
Практическая и функциональная целесообразность многих принципов альгамбрского комплекса в использовании природных особенностей и эстетических возможностей разных материалов, в умелом освоении климатических и ландшафтных условий, в организации системы водоснабжения – все это обратило внимание испанских архитекторов, авторов «Манифеста Альгамбры» 1952 года к прославленному памятнику средневекового зодчества. Исканиям современной архитектуры особенно импонировало естественное и художественно выразительное включение элементов природы в архитектурно-пространственную среду. Вместе с тем природа в стенах Альгамбры возведена в ранг искусства, находит сценическое применение, мир конкретных живых реалий преображается в мир условно-иллюзорный, символ небесного рая сливается с образом человеческого жилища, предстающее взору зрелище содержит как бы его второй изменчивый план. В создании подобного впечатления огромную роль играют цвет и свет, свет и тень, эффекты отражения сотворенных и природных форм в воде, игра пространственных планов, приемы образных уподоблений – реальной материальной форме вторит ее тень, ее отражение; арки уподоблены кружевным завесам, колонны – пальмам, водоемы – зеркалам, фонтаны – колоннам.
Дворцы покоряют изощренной красотой декоративного убранства. Образ мавританского сада более прост и сдержан, ограничен в своем декоративном репертуаре, в формах цветников, газонов, водоемов, арочных галерей. Его главная привлекательность – в создании чарующего зрелища вечно цветущей природы.

Сады Хенералифе
Сады Хенералифе, как и дворцы Альгамбры, отличаются подчеркнутой картинностью, рассчитаны либо на определенную, либо на разные точки зрения, которые требуют остановки и созерцания. Как и дворцы Альгамбры, сады Хенералифе составляют систему замкнутых и вместе с тем связанных друг с другом живописно-пластических единств. Статический момент созерцания сада сменяется его динамическим прохождением. Пределы этого пути ограниченны. Особая роль здесь принадлежит стенам, которые не только изолируют пространство сада от его окружения, но и делят его на несколько участков, переходы между которыми (как и между дворцами Альгамбры) четко не акцентированы и расположены обычно не в центральных, а в угловых частях плана. Далевые точки зрения, даже на главных участках, сравнительно не глубоки, сооруженные на них легкие нарядные постройки играют роль замыкающих кулис. Только прекрасные кипарисовые и самшитовые аллеи создают более внушительные перспективы. Все это придает садам Хенералифе – истинно райскому приюту – оттенок камерности, затейливой изящной игры. Вместе с тем одна из особенностей ансамбля Хенералифе состоит в том, что созданный в андалусской традиции изолированных внутренних пространств, высоко лежащий сад допускает выход за пределы своей замкнутой среды. Здесь отовсюду открываются чарующие виды на всю Альгамбру и окружающую ее природу.
Изысканная полихромия дворцовых покоев Альгамбры, потушенная временем, но сохраняющая удивительное благородство красочной гаммы, в открытых дворах и окружающих ее садах обогащена великолепием цветовой палитры живой природы.
Зеленые разных оттенков массивы цветущих кустарников разрежены группами невысоких апельсиновых и лимонных деревьев и строгими темными иглами кипарисов. На этом густом фоне яркими пятнами и бесконечно прихотливым рисунком выделяются сезонные посадки цветов разнообразных пород, краски которых тонко согласованы друг с другом. Выигрышным фоном служат и гладкие беленые плоскости стен, вдоль которых растут деревья и кусты, стоят цветы в широких кадках и горшках. На поверхности водоемов плавают огромные, похожие на округлые подносы листья лотоса, увенчанные роскошными чашечками цветов, растения, глубоко почитаемого с древности народами Востока. Обилие растительного мира мавританского сада, лишенное хаотичности, случайности и пестроты, следовало вековым традициям, древней символике образов, эстетическим идеалам времени. Его насыщенную красочность усиливают полихромные изразцы, которыми оформляли водоемы и фонтаны. Строгостью цвета по контрасту отличается замощение земли двухцветной и серой морской галькой, образующей простые, четкие, геометрические узоры. Характерное для культуры ислама гармоничное, созерцательное, бесконфликтное начало придает саду впечатление разлитой вокруг благоухающей тишины, исключающей элементы драматизации, преувеличенной эмоциональности природной среды. «Голос воды» приглушен, ласкает слух, высота тонких струй фонтанов невелика и точно выверена, само время словно замедляет свой бег. Гармония рационального и чувственного, рукотворного и естественного создает пленительный образ покорной высшей силе, но благосклонной и щедрой природы. Альгамбра – вершина мавританского искусства, памятник художественного синтеза архитектуры, декоративных форм скульптуры и живописи, каллиграфии, орнамента, элементов природы, садового искусства, поэтического слова, созданий художественного ремесла. Содружество столь разнородных слагаемых синтеза ведет его к смыканию с синтетичностью театрального зрелища.

Дворец Виана в Кордове. Дворик
Традиции мавританской, арабо-андалусской художественной цивилизации, оказавшие огромное влияние на развитие искусства стран Магриба, продолжали жить там в условиях турецкого господства и европейской колониальной экспансии, и вошли в формирование национальных культур Марокко, Туниса и Алжира. Перенесенное в чистом виде на землю Магриба садовое искусство андалусской Испании навсегда включилось в культуру североафриканских народов. Оно неизменно обогащалось и усложнялось новыми чертами и типами, особенно в эпоху господства в Марокко в XVI–XVII веках крупных феодальных государств.
В христианской Испании традиция мусульманского садово-паркового искусства развивалась по разным направлениям. Она нашла яркое претворение в жилой архитектуре Южной Испании, в мире народных представлений и бытового уклада, и по сей день живет в знаменитых старых городах Андалусии: в Гранаде, почти не знавшей христианского средневековья и сохранившей крепкие мавританские корни, в Севилье, принадлежащей к особому типу городов, где преобладает ярко выраженное зрелищное театрализованное начало, в Кордове, в которой чувство безвозвратно минувшего прошлого отодвигает вдаль все то, что связано с более поздними эпохами.
В кварталах старой Кордовы, сжатые стенами двухэтажных домов узкие улочки выплескиваются на небольшие, иногда совсем крошечные площади, также тесно окруженные зданиями. Жизнь их обитателей замкнута внутренними помещениями и группируется вокруг открытого дворика – патио. Прелестные кордовские патио – одна из достопримечательностей города, наделенная вековыми традициями декоративного убранства, которая восходит к античности и связана с мавританским прошлым. В период нестерпимого кордовского зноя с мелеющим Гвадалквивиром, каменистой пыльной землей, замирающей жизнью, дворы, до предела заполненные цветами и растениями, – истинно райские убежища вечно благоухающей весны.
Сквозь узорчатые чугунные решетки входных порталов богатых жилищ видны цветущие сады, затененные пальмами, кипарисами, акациями и апельсиновыми деревьями, украшенные фонтанами.
Патио, замощенные плитами белого мрамора, с панелями из разноцветных изразцов, аркадами на колоннах, фрагментами римских и арабских капителей, вазами, керамическими тарелками на стенах, представляют собой маленькие музеи. Они пленяют изысканным вкусом, умением создать атмосферу покоя, наслаждения жизнью и произведениями искусства. Прославленный ансамбль дворца маркизов де Вильена состоит из четырнадцати разнообразных патио, самые старые из которых созданы в XVII веке. Прекрасны дворики Епископского дворца и Ассоциации друзей кордовских патио, которая заботится об их состоянии в городе. Однако трудно передать словами очарование двориков простых жилищ, где нередко обитает более десятка семей. Далеко не столь изысканные по своему убранству, чаще всего очень скромные по архитектуре и предметам быта, эти создания народного вкуса и фантазии захватывают невиданной красотой. Патио украшают сотни цветущих и вьющихся растений в ярко раскрашенных голубых и оранжевых горшках, подвешенных на веревках вдоль стен, иногда они крепятся к ним коваными железными кольцами. В пространственной и живописной композиции этой прозрачной завесы из цветов особая роль принадлежит фону, который создает белоснежная известковая побелка стен. Преобладают оттенки красного от темного и густого пурпурного и малинового до бледно-розового и киноварно-огненного, самые любимые цветы – герань, гвоздика, розы. Часто патио замощены камнем. Древняя техника римской напольной мозаики видоизменилась здесь под воздействием местной традиции. Земля выложена галькой на ребро, так, что, когда ее поливают, вода высыхает не сразу, а задерживается в узких промежутках между камнями. Естественно, что в каждом дворике существует источник воды – фонтан, колодец, бассейн. Вокруг них, вдоль стен, повсюду теснятся цветы. Их поразительное обилие подчинено сложившимся правилам.
Иногда нарядное убранство дворов выходит на внешние стены домов, на маленькие улочки. Здания обвиты растениями, вдоль стен совсем по-домашнему стоят горшки с цветами. Все эти чудесные живописные уголки с белыми домами, тускло-красными черепичными крышами, старыми фамильными гербами, черными коваными решетками и обилием цветов на балконах, стенах, в тенистых садиках – составляют как бы узорчатый, легкий наряд Кордовы. Каждый год на второй или третьей неделе мая город отмечает фестиваль кордовских патио с конкурсом на самый лучший. Жители открывают вход для всех желающих посетить их сказочные цветущие чертоги. Фестиваль сопровождается различными музыкальными фольклорными празднествами, охватывающими весь город.