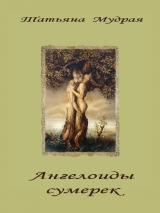
Текст книги "Ангелоиды сумерек (СИ)"
Автор книги: Татьяна Мудрая
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Ну а если я соглашусь? – спросил я. – Это правильный вопрос?
– Да, – ответил Иоганн, – притом риторический. Для шутки он слишком ответствен.
– Но ты выдержишь это куда легче нас, – проговорила Беттина. – Вот только надо подумать, какую личину потом примешь. Первое время без того никак невозможно. Века два, пожалуй…
– И прикинуть, откуда мы стащим для него действительно классный дафлкот, – закончил Гарри. – Чтобы, Люцифер меня забери, выдержал такой долгий срок.
…Пятеро в бежевых верблюжьих куртках с капюшоном вышли из подвальной двери Политехнического Музея и деловито зашагали по улице вверх.
– Сегодня надо, наконец, разобраться с этими… источниками даровой электроэнергии, – сказал Амадей. – И с кулинарными фабриками. Раньше стоило бы, только остатних человечков жалко было питания лишать. Двух ментальщиков, я думаю, на это хватит. А ты как считаешь, Пабло?
II
Всё хорошее или безнравственно, или вредно, или незаконно.
П. Г. Вудхауз. Девушка в голубом
Когда ждёшь, часы и дни тянутся, будто жвачка. Даже если тебя успели научить, что времени как такового и вовсе нет. Хотя для нашего народа сама жизнь означает ожидание – это говорю вам я, Андрей Первенцев, который вспомнил свою девичью фамилию совершенно некстати. В самый раз перед тем, как отбросить свою человеческую плоть, суть или вообще копыта.
Ибо я уже не человек и ещё не ангелоид.
Тут необходимо слегка уточнить: человек, только с иной кровью в жилах (и, по здешней логике, с частично измененным геномом), который может пребывать в относительном благополучии лет тридцать-сорок. Не стареть, не болеть, очень быстро восстанавливать повреждённые ткани. И если не хочет по истечении срока загнуться от какой-нибудь вредоносной и тягомотной хвори или тотального одряхления, имеет право попросить друзей о вторичном вливании жизненного эликсира.
Как уж не раз делал мой приятель, благородный мейстер Хельмут. Вообще-то сам он ничего подобного не хотел, хотя считал прямым своим долгом.
– Скучно мне тянуть лямку. Я бы с охотой посмотрел, что там за радужным занавесом, Анди, – говорил он не однажды. – Только наследника моему искусству никак не отыщу.
– Знаю. Кстати, как бы ты его сформулировал этак в двух словах, это твоё искусство?
– В двух, скажешь тоже.
– Тогда коротко и веско.
– Изволь. Умение причинять телу страдания, которые не убивают, а лишь помогают его душе освободиться от власти демонов. Именно – лжи, греха, болезни, уныния, стадности и прочих иллюзий. А также всяких пещерных теней, кумиров и идолов рынка. Через всё это я тебя провёл.
– С успехом.
– Рад, – он шутовски поклонился. – Ты точно не хотел бы стать моим цехмейстером? Учеником и подмастерьем?
Это значило… Нет, ничего такого ужасного. Просто я догадывался, что через заботливые руки Хельмута, его коллег и предтеч прошли все Тёмные и Сумеречные Ангелы, кроме разве что самых древних. По нынешнему определению, Диких. Он ставил их на грань их непонятного существования, чтобы сотворить из них бессмертных и видящих истину без покровов.
Я был всего-навсего человеком – и оттого Первая Ступень моего личного ритуала придала мне лишь немного душевной стойкости и плотской неуязвимости. А в качестве приятного добавления чуток архаизировала мою лексику. К сожалению, молодежный слэнг и не подумал никуда деваться, и теперь два речевых слоя мирно сосуществовали у меня на языке.
Жил я теперь не в проходном зале с девятью порталами, одним из которых была простая дверь наружу, а в одной из крошечных служебных комнатушек бывшего музея, как и все мои новые знакомцы. Причем делил ее с Хельмом. Нет, не по принципу «жертва от палача недалеко катится», а потому, что трое Волков и Беттина занимали апартаменты по обеим нашим сторонам: Иоганн и Амадей – комнату направо от входа, Гарри и Бет – налево. А в тугом животике нашей общей подружки зрело и наливалось соком моё собственное семя.
Хотя ее движения стали чуть менее резкими, а взгляд – более глубоким и как бы обращенным внутрь, видно этого почти не было.
– И не будет, – пояснил Хельм. – Они такие. Держат дитя в себе невесть сколько времени, удобного случая ждут. В точности как иные звери. Плавает внутри в вольных материнских водах, не прикрепляясь к берегу. Вот станет полноправной Волчицей, тогда…
Я попросил объяснить – до того как-то не удосуживался.
– Волки – это не только из-за имен. Это вроде семьи или небольшого клана со своим тотемом или типа того. А Бет к ним прибилась, но полных прав не имеет, оттого что никого не посвящала. У Сумеречных принято, чтобы от новичка пили двое-трое опытных и хотя бы один невинный.
– В данном случае – от меня. По старой дружбе.
Юмор его не пронял.
– Главное – потому, что она вынашивает твой плод, – объяснил Хельмут на полном серьёзе. – Вышло это легко, потому что ты не настоящий Сумеречник, или сумр : так, ты слышал, здесь иногда говорят. Но кто там родится – непонятно. Бастард, полукровка… Сечёшь?
– А? – спросил я.
– Понимаешь, имею в виду? Каким бы ты важным ни стал, отец ты был в своё время сомнительный. Ни рыба, ни мясо, ни человек, ни ангел. Так что для равновесия Бетти просто жуть как требуется стать суперэлитой.
Из чего я заключил, что претерпеть метаморфозу мне придётся не из-за меня одного.
И существует некий долг благодарности. Если на тебя потратились, ты при первой возможности платишь долг со всеми процентами. Я давно уразумел, что возмещают потерю и качество крови они небыстро – куда медленнее простых людей. Наверное, почти незаметно от себя подслушивал разговоры ангелоидов, что шли отчасти на вербальном, частью на ментальном уровне. Ими полнилось всё пространство сот, как называли Сумеречники свою спальную резиденцию. «Соты» или попросту «Сотейник».
Отчего такое странное словцо, это ведь означает глубокую сковороду или жаровню?
– Оттого, что наши неженки внутри пекутся, – ухмылялся мой сокамерник. – Это и тебе предстоит, не беспокойся.
Чувствительность к теплу у моих будущих коллег была как раз небольшая, оттого они слегка удивляли своими куртками тех людей, кто еще пребывал на ногах и на открытом воздухе. Я имею в виду – ментов, труповозов и мусорщиков.
Разумеется, моё жертвоприношение было неизбежно. И, естественно, никто из моих братьев-Волков и прочих членов небольшой (десятка четыре) вампирской общины меня не торопил. Решение должно вызреть, состояние души – дойти до кондиции. Кто это определит лучше тебя самого?
Разве что сосед по камере.
Камера была совсем неплохой, но тесноватой: в нее с трудом влезли две двуспальные кровати на резной дубовой раме и с резными спинками, два приземистых кресла той же архитектурной школы, квадратный стол с табуретками, мраморный стоячий умывальник типа «Мойдодыр» и зеркало в полный вампирский рост. Самовыражался в меблировке один Хельмут, единственным моим вкладом было резкое возражение против ковра во весь пол. Ограничились толстыми камышовыми циновками.
За кружкой и кувшином – я присоединялся для компании – Хельмут любил предаваться философским изысканиям.
– Вот ты, Анди, думаешь, что это доброе пиво нужно телу, потому что тебя так приучили. На самом деле оно давно уже необходимо одной твоей душе, – так начинались беседы, варьируясь в зависимости от потребляемой жидкости. – А почему так?
– По закону, который сформулировал некий инопланетный ангелоид, – шутил я. – Вода бывает нужна и сердцу. Ты в ответе за тех, кого приручил, а они в ответе за тебя.
Правда, мои приручители и поручители не очень торопились ни брать, ни отдавать. Видел я их редко. Впрочем, это касалось вообще всех. Как объяснял тот же Хельм, необходимости прятаться и «вырубаться» днём, что считается традиционной для вампира, у них не было. Делились, как и все люди, на сов и жаворонков. Питались чем бы то ни было они от случая к случаю. А поскольку отходы производства у них, как и у меня в последнее время перед главосечением, выходили через кожу, были они полными фанатами мытья. В тот судьбоносный день Волкам пришлось заранее расчистить передо мной дорогу.
И вот, наконец, всё совпало. После наступления темноты четверо моих добрых соседей собрались обсудить что-то своё в большой зале, я был чисто вымыт и пребывал в самом возвышенном настроении, Хельмут отчаянно скучал, и…
– Давай рискнём, – сказал я, отодвинув от себя еле початую кружку с яблочным сидром. – Как здесь положено – я сам должен заявить или ты? Или третий кто-то?
– Они уже узнали, – кивнул Хельм. – За секунду до того, как это дошло до твоих губ.
– А когда можно?
– Да хотя бы и сейчас. Завещание писать будешь?
– Бессеребреник вроде, – я принял его слова за шутку.
– Ну, вообще-то во время обряда не всегда память отшибает, – сказал он. – А саму жизнь – и того реже. Опять-таки барахлишка у тебя было немного, разве что квартира, и та по договору найма. Но ты не думай, Сумры вообще всю юридическую и прочую судейскую подноготную в машинку заправили. Для порядка.
– Чтобы информация пережила своего владельца?
– Да нет, скорее по принципу «кабы чего не вышло», – Хельм снова усмехнулся. – Зачем обижать тех, кто изволил выжить после процедуры?
Он поднялся.
– Ты как, пустой, Анди? – спросил он. – Я видел, сегодня ты даже ради показухи не пил, нюхал только.
Потом он привёл меня к Волкам и коротко сказал:
– Он дозрел. Мне вести или вы одни справитесь?
– Ждём пятого или случаю оставим, как решите? – вместо ответа спросил всех Вольф Иоганн.
– Случай пристойнее, – отозвался Гарри, и мы, включая Хельмута и отчего-то меня самого, согласно закивали.
– Тогда идём как есть. Кнехта потом удалим.
Я давно убедился, что архивом для лепестков информации служили все семь «магических» комнат, которые по сей причине и умели превращаться и подстраиваться под ситуацию, пряча свое содержимое. Поэтому немного удивился, когда меня препроводили в пыточную, что с того первого раза никак не изменилась.
– Не тревожься о пустяках. Волчатки всё предусмотрели, – негромко предупредил Хельм. – Раздевайся и ложись на станок. Хм, плавки можешь и оставить, однако. Дамы.
– Друг, я боюсь быть навязчивым, – проговорил я, карабкаясь на лежачую дыбу. – Не объяснишь? Как-то не так я всё представлял.
– Уж это ясно, – сказал он, распяливая меня, как лягушку, меж двух пар браслетов, ручных и ножных, и вращая покрытые шпеньками валики вверху и внизу одра, отчего мои жилы слегка натянулись. Заодно он что-то такое сотворил с моими косами, поэтому я никак не мог повернуть голову. – Иоганн говорит, что люди весь свой мир истолковывают наперекосяк, а уж кому знать, как не ему.
– Тошно вроде как.
– Это для того, чтобы ты хоть немного отвлекся от предстоящего, – объяснил он. – И не потерял окончательной связи с этой вселенной.
Ободряюще кивнул, подхватил мою одежку, дафлы удалой четверки. И удалился, туго захлопнув за собой дверь.
Волки подошли ко мне – чёрные свитера, чёрные брюки. Молча стали рядом: Иоганн в головах, Гарри и Амадей по бокам, Беттина в ногах. Нет, никаких клыков и никаких погрызов. Только поцелуи: в основание шеи, во впадины с обратной стороны локтя и в пах. Но прежде чем меня конкретно приплюснуло к дереву и приковало покрепче всяких цепей, я успел увидеть, как из каждого рта выступает широкое жало или хоботок наподобие пчелиного.
Сразу стало горячо и немного щекотно. Потом чуть отпустило, и начались видения…
Исток реки, что пробивается через камни и мох, бурливый ручей среди скал, что принимает в себя и сплетается с десятками других таких же, неторопливая полноводная река, Гольфстрим в мировом океане. Мириады ярко-алых и бледно-золотых рыбок зарождались и играли во мне, стремясь к устью, к слиянию с иными водами, к растворению….
Тут оно меня настигло и раздёрнуло на нитки.
Метафизическая грязь и запредельная боль стоящего на краю.
Меня не стало. Верней, от меня сохранилась лишь кроха, что осознавала своё грядущее небытие и в отчаянии вопила от этого.
А насмешливый голос, знакомый мне по прежним авантюрам, всё наговаривал в несуществующее ухо:
– Человеку не дают воспринять мир как он есть, с первых дней надевая на него шоры чужого восприятия, а потом еще и наращивая их. Это необходимо, иначе знакомство со средой обитания обернется шоком. Хотя отчего это? Грудные дети не знают, чего в мире надо бояться. Они попросту и тотально им возмущены.
Культура строится как система отношений, и неважно, правда они или ложь. Совершенно так же обстоят дела со словами. Границы определены, пути проложены. Хаос организуется в порядок.
Совершенно так же человек поступает с собой. Определяет, кем бы он хотел казаться, а не быть, что такое «быть» для его личного «я», а не что такое само это «я».
А что сие убивает саму жизнь…
Это ему без разницы.
Оттого человек до усрачки боится увидеть мир истинный – для него это ужас в самом чистом виде, вызывающий тотальное неприятие. Ужас и мерзость…
– Резонерствовать на пустом месте – нехитрая штука, – отвечал ему мелодичный басок. – А если жучок никак не может без экзоскелета? Слизняк – без ракушки? Человек – без идеалов?
– Коллективных и общественно признанных, – добавил первый собеседник самым стёбным тоном. – Всяк пророк знай свой шесток. Каждый из них послан к своему народу и строит для него келейную утопию – эталоном коей служит он сам. Но ведь любой человек и любая конфессия стремится к универсальности и космичности! А потому сия зараза накрывает и тех, кто воспитан в иной культуре и оттого неспособен понять урок правильно.
Я хотел сказать, чтобы они перестали и не мешали мне мучиться… Но тут же в меня острым кинжалом вошла глобальная истина: то, что стоит за всеми уроками – Великая Пустота – как раз и воспринимается как мучение. И им безусловно является.
В этот миг я понял всё и навсегда. Это как раз и было первородным грехом и первобытной болью – создание двуногой тварью своего ви́дения, отделённого от видения и мыслей природы. Своей сладчайшей лжи, из которой пышно произрастают все другие: непомерная трусость и неизмеримая гордыня. Ложь. Предательство. Убийство. Похоть.
И осознание этой истины пронзило меня навылет.
– Мир генерируется неким Вселенским Компьютером в знаках да-нет, чёрное-белое, – наговаривал мне прямо в мозг очередной колючий глас свыше. Человек упирается в это и не идет далее. Но каждый цвет – это радуга, светлая или тёмная, и скрещение даёт четырнадцать цветов вместо семи. Или даже семь в энной степени. Просекаешь, ничтожный червяк?
От голосов было некуда уйти. Они теснили меня со всех сторон и выдавливали хрупкой скорлупки. Раскаленные стены, сдвигаясь, толкали меня в колодец…
И когда хомо сапиенс во мне сдался и до последней частицы распылил себя в Вечности, дверь в небе распахнулась.
В мандорле из дымного света стояла женщина, и многоцветная двойная радуга одевала ее светло-рыжие волосы покрывалом.
Знамение победы.
– Мария, звезда над пучиной морскою, – произнесло нечто внутри высохшего колодца, и колодец понял, что это и есть его самость и суть. – Подруга утреннего света.
– Долго вам еще колдовать? – сказала она. – Может быть, ему пора возвращаться?
Села рядом с бывшим мной и легко разомкнула кандалы. Кажется, волосы не поддавались, и эта новая Далила отхватила их чем-то вроде бритвы.
– Над ним сейчас твоё право, – сказали ей Волки, – но прежде чем настоять на нём, скажи ему новое имя.
– Павел… Пауль. Пабло. Да, вот так будет хорошо, – кивнула она.
А потом вывела – нет, почти вынесла моё бывшее тело из ритуального помещения. Волки окружали нас как почетный конвой, большая зала была полна Сумеречного Народа, и даже Хельм…
Он набросил на меня что-то яркое и пушистое и перенял из девичьих рук.
Когда я-Пабло примирился со своей новой узостью (по правде говоря, стесняла она гораздо меньше прежней, что была до дыбы и кровопития), мне разъяснили этот случай, а заодно – слегка загадочные слова про пятого участника.
Оказывается, финал посвящения специально делают неожиданным и непредсказуемым. Хитрость заключалась в том, что на вход в Залу Испытаний налагался строжайший запрет. Все знали, что это как раз тот случай, когда запрет положено нарушить. Но поскольку знали и то, что преступивший его смельчак определит собой всю дальнейшую жизнь неофита, что процесс обращения длится невесть сколько и, оборванный грубой силой, вполне может кончиться смертью или увечьем, никто не спешил выступить вперёд.
– Шутим с предопределением, – добавил к этому Гарри.
– И часто такое кончалось плохо? – спросил я-Пабло.
– Да нет. Причем случаи, висящие на волоске, легко распознать заранее.
Девушка – или нет, скорей девчонка лет двадцати, не более, – к тому времени убедилась в моей целости и сохранности и скромно удалилась, потупив глазки. Похоже, это был тот безбашенный подросток, что перед моим якобы последним помывом приставал ко мне с интимными услугами.
Я чувствовал приятную слабость, которая весьма располагала к любовному философствованию, и оттого пытался воссоздать перед внутренним взором ее черты: короткие стриженые волосы осеннего оттенка, чуть выступающие скулы, ровненький носик и карие глаза. Она как-то незаметно вытянулась и стала со мной почти вровень – прямые плечи, крошечные груди, узкие бедра. Волки обиняком трунили друг над другом – сейчас я их понял. Здесь считалось, что если тебя «выводит» мужчина, то всё ладно, а если женщина – твоя андрогинность даёт сильный крен на мужскую сторону. Было бы ради чего…
– Кстати, я всё не удосуживался поинтересоваться: как мы, законченные ангелы, умираем?
– Да вообще-то никак, – вздохнул Амадей.
– Вот попал… Раньше нельзя было просветить?
Тогда Иоганн со своей обычной философской миной пояснил:
– Ничто земное нас не берёт, хотя множество вещей причиняет страдания. Пламя, например. Ты сам видел, как легко твоя плоть тому поддалась, хотя это последствие скорей болезни, чем обращения. Сильный холод – мы, в общем, теплокровные и можем заснуть до полусмерти. Но когда ты насытишься здешними играми и сам захочешь уйти, а наверху будут согласны тебя принять – тогда получится. Только не в горе и отчаянии, не посреди возложенных забот и когда твои кровь и плоть успокоятся.
– Ангелоиды умеют страдать?
– Люди считают, что боль и страх смерти делают человечными. Мы их не разочаровываем, – ответил он кратко.
– Человечность из-под палки, – ответил я. – В них, я имею в виду.
– На то и люди, чтобы ходить битыми, – промурлыкал Амадей. – Рабы всего, вплоть до обстоятельств. И так до самого финала.
Это слово вызвало во мне ассоциации.
– Други, вы, собственно, что – со мной закончили? В литературе говорится, что меня обратно напоить надо.
– Ну, при первом знакомстве мы как раз это и сделали. С избытком.
Амадей был прав – это я знал еще до вопроса.
– И еще научить охотиться. Так?
– Уж это теперь лежит всецело на Марии.
Я почувствовал, что моя слабость выросла раз в сто, а, может быть, и в двести.
– Она же этот… эскуайе. Оруженосец рыцаря. Вы меня еще до удаления прежней головы так именовали.
Разумеется, я перепутал ступени, взяв тоном выше. Эсквайром назвала меня моя прекрасная леди, которой нынче присвоили именно первый титул. И означал он всемерную помощь избранному ей кавалеру.
Что делать, что делать…
И эта малявка будет учить меня кровопийству?
Вначале, однако, она преподала мне урок моды.
– Весна, без большой нужды тёплые дафлы не надо носить, – сказала она. – Только если как форму и знак отличия. Вот тренчи, плащи такие с поясом, накладными карманами и погончиками – то, что нам надо. Нуар, чёрный стиль. Никакой высоколобости.
– Ага. Шляпа, очки, кольт, – подхватил я.
– В чернолаковой сумочке, – подхватила она. – И рядом – патрончик с ярко-красной губной помадой…
– … надорванная пачка сигарет и зажигалка.
– Ты разве красишь губы?
– А ты… вы разве курите?
– Ты. А насчет курева…
Она была права. Все мои дурные привычки отшибло напрочь.
Одежду нам приволок незаменимый Хельм. Брюки и водолазки. Габардиновые тренчи, мужской и женский. Серые, слегка обмятые по фигуре и – ужасно! – с пластиковыми пряжками и пуговицами. Мягкие до бесформенности береты. Туфли со шнурками. И никакого оружия.
– Оружие – мы сами, – сказала она.
– Чудесно звучит. Сущий дохляк и подросток.
– Туда, где есть люди, мы сегодня не пойдем, гер… Пабло, – ответила она. – Хотя пока всё равно будем под надзором старших.
Когда мы поднырнули под низкий пролет выхода, первое, что я увидел, – низкие холмы. Потом до меня дошло, что это развалины домов и крепостей. Они обратились в щебень и песок, их затянуло бурьяном, кустарником, хилыми березками и осинками – такие деревца обыкновенно вылупляются на балконах старых домов. Однако в глубине их я угадывал осколки руин, из руин же в моём воображении вставали горделивые очертания былых зданий.
А за холмами сияла озерная гладь. Та самая, в которую опускалось тогда вечернее солнце.
Озеро холодное и беззвёздное, как и небо, где еле был виден кружевной призрак месяца и одна-единственная звезда. Геспер, охраняющий сад Гесперид. Или то была его аватара по имени Фосфор?
– Весь исторический центр города обрушился, – кивнула Мария, прижавшись к моему локтю. – Давно. Ты не знал?
– Никто из людей не знал. Военные оцепили место и поставили бетонный забор в три метра вышиной. Говорили, старинная бомба грохнула.
– Там всё было источено как червем – ходы, подземелья, тайники… Диггеры предупреждали лет двадцать подряд. Кажется, и в самом деле что-то взорвалось, меня не очень это волновало.
– Меня тоже. Доходили одни сплетни, знаешь. А потом начались проблемы. Что в столице не однажды побывала чума, все знали. Но с той, которая вышла из развалин вместе с рукописями, уже невозможно было справиться.
Мария печально кивнула. Всё вокруг было пронизано этой печалью. Оттого мне показалось, будто неподалеку от миража зубчатых крепостных стен, поросшего синими ёлками, снова возник печатный и узорный пряник Академии Исторических Архивов, куда эмчеэсники с торжеством затащили сундук с легендарной библиотекой. Разумеется, любовно пропущенной через жёсткое излучение, смертельное для всякой жизни.
Всё-таки интересно, мою Эли удалось похоронить вместе с остальными приёмщиками? Приятель обещал поспособствовать, но потом я его не встречал, как и всех из нашей компании.
– Твоя жена была эмпат, хотя не понимала того сама, – кивнула Мария. – Опасность чувствовала однозначно, а когда попыталась хотя бы слегка притормозить работу над заражёнными текстами…
– Судили за вредительство и расстреляли в двенадцать часов. Режим уже был практически военный. Тела казнённых родичам не выдают, – прибавил я сухо. – Хотя как знать, может, оттого я так долго и протянул на своей нежно любимой дури. Мор тогда вспыхнул вообще до небес. Против всех ожиданий. Мы же, суеверные дебилы, думали, оно как чудотворная икона подействует. Библиотека святой византийской царицы. А вышло как всегда и даже хуже. Я, по счастью, оказался как в футляре: домашний арест и всеобщее презрение в качестве прибавочного бонуса.
Говоря это, я не испытывал никакой горечи. Собственно, всё произошло не со мной, а с тем Андреем, что оставил свое тело на дыбе. На всех пыточных снарядах мира, который был насквозь пропитан страданием и тщетой.
Экий я стал философ!
– С голоду, – мигом откликнулась девочка. – Ты же добавил в ментале: «Не в коня корм», верно?
Я рассмеялся – слегка сардонически.
– Давным-давно, ещё когда был, Андрей понял, что скорбим мы всегда и везде – лишь о себе. Где бы ни была Элька, ей там куда лучше здешнего, а на земле ей без затей пустили пулю в затылок еще в коридоре суда. Никаких мук и совершенно никакого страха. Мне об этом сказала наша общая подружка Марикита. И не говори мне, что такая слабая наркота не пробивает и не способствует ясновидению.
– Да что ты, я в этом вообще не смыслю. Только, пожалуйста, не криви так губы и не думай плохо. Испугать можешь.
– Кого, тебя?
– Нет. Смотри.
Мария вынула из кармана свисток и подула в него. Прежде бы мне было даже тона не разобрать, но своими новыми ушами я безошибочно уловил простенькую ультразвуковую мелодию.
На ее зов из какой-то пещеры вышла собачья стая и уселась вокруг в порядке четкой субординации. Отборные дворняги: желтовато-серого, иногда чепрачного окраса, широкая грудь, мощные лапы с длинными когтями, морда обыкновенно тёмная в тон пятнам или чепраку, вокруг больших глаз – светлые обводы. Я так подробно описываю, потому что это было в листках, наклеенных на двери: вторая по величине опасность после ВИЧа. Дикие или, верней, одичавшие псы-людоеды.
Однако тут я даже не отпрянул.
– Говорили, что на них половину пропавших тел списывают.
– На деле дай им бог хотя бы десятину, – отозвалась она. – К заразе, особенно принятой внутрь, они едва чувствительны, это люди верно понимают.
– И что дальше, Мари?
– Зови. Думай внутри себя. Проси помочь.
Я не знал, как делать, но вышло само.
Откуда-то из укрытия появился вожак: огромный лохматый самец абсолютно неразборчивого оттенка. Он прихрамывал то на одну, то на другую переднюю лапу, но держался боевито.
– Саркома. Начальная стадия, – пояснила Мария. – Как решишь?
На этих словах псиная образина подошла ко мне, встала дыбом, уперев обе распухших конечности в мой тренч, и приветливо махнула хвостом.
– Ему лет шестнадцать, и молодые сильно теснят его с места. Опять же боль: не такая сильная, как у человека, но всё-таки. Вылечить его ты не можешь – пока нечем. Убить – убьёшь легче легкого, он сам не против. Но если удержишься, обеспечишь анестезией до конца его дней.
– Как вообще это делают?
Мария тихо рассмеялась:
– Сверни язык, как в детстве. Не поперек, а вдоль. Мама говорит, стоило бы людям начать гонение на тех, у кого язык в трубочку скатывается. И на трубкозубов… Факт ведь кровососы.
На последних словах во рту у меня стало щекотно, и когда я приоткрыл рот, это было уже то самое, что у Волков.
А дальше всё происходило без участия ума. Кажется, я пригнулся, и жало само нашло под шерстью набухшую вену.
На вкус жидкость не была ни приятной, ни особо противной: так, неочищенная водопроводная муть. Но внутри меня аж заклокотало от весёлой ярости, от резкого наплыва незнакомых ароматов, шелестов, плеска.
Я выпрямился, а он как мешок сполз на землю.
– Убил?
– Нет, я думаю. Отойдет – будет собачьим… как это? Шестёркой. Но кормить его не перестанут. Обещали мне, – сказала Мария.
– Что дальше?
На сердце у меня было тяжко, но я хотя бы его в себе почувствовал. Тем более что моя оруженосица крепко к нему прижалась.
– Дальше? Ну, как я захочу. Животную душу ты узнал. Можно было бы и травную, и древесную. Ой, знаешь, меня прямо с этого начали посвящать. Такое жёсткое! Но зато стихи нужно читать.
– Какие? – я удивился, но несильно.
– Лонгфелло в переводе Бунина. «Дай мне, Ель, смолы тягучей, дай смолы своей и соку…» Вообще-то что попало годится, лишь бы настроение создалось верное. А «Гайавату» я люблю.
– Седой таёжный кедр здесь тоже когда-то рос. Огромные, раскидистые сосны, от стены одни зубцы. Потом вождю что-то не так показалось – заменили на другие хвойники.
– Такой могучий ствол тебе пока не под силу.
Говоря так, Мария двинулась куда-то в обход большой воды. Ландшафт здесь был уже не таким аморфным – нередко попадались обломки стен с выведенными на них дугами и или поребриком, колонны без капителей и даже нечто вроде огромных волнистых раковин, какие любили рисовать ученики художественных училищ. Последние были вмурованы в плоскость и имели порядочный размер, вокруг иных густо плелись какие-то лианы с набухшими и во многих местах проклюнутыми почками.
– Вот. Это плющ тут прижился.
– Не холодно ему в наших местах?
– Нисколько. Южная стена и еще снизу греет. Там источник.
Мы стали рядом, и я увидел редкие зеленые побеги этого года. Мария сорвала один и приникла к ранке, а потом показала мне:
– Втягивай в себя – можешь просто губами. Этим ты ему не очень повредишь – хотя листья пошли в рост, соки еще бурно движутся по всей длине.
Я послушался – на вкус это было точно молодое, едва забродившее вино, что, как говорил поэт, не успело опомниться. И кипело внутри так же буйно.
– А стихи ему нужны, этому плющу? – спросил я глуховато. – «Я ошибся: кусты этих чащ…»
– «Не плющом перевиты, а хмелем», – отозвалась Мари.
Дальше было что-то про плащ, но эти слова оказались совсем не нужны.
– «Вкруг меня твои руки обвиты», так? – спросил я. И получил ответ.
Между нами и шероховатым камнем не было ничего, помимо впопыхах сброшенной одежды. Между нами и бледным небом простёрся широкий карниз в виде раковины, с карниза тянулись узловатые плети, все в юной листве. Ее тельце почти таяло в моих объятиях, ее руки жгли меня, как пламя. Рыжие волосы ласкали, как искусная любовница. Рты наши не сливались друг с другом, но впивались и отыскивали самые потаённые места в телах, которые причудливо и стройно изгибались в такт неслышной музыке. И когда мы оба не могли более терпеть, Мария гибко извернулась и подставила моему языку совсем другие свои губы.
– …пить друг друга… пей непентес, сок забвенья… – пробормотала она. Ее жальце скользило вдоль моего тайного члена, иногда поглаживая головку или дразняще проникая внутрь. Я робко раздвигал и перебирал ее лепестки – в глубине виднелось нечто выпуклое, затянутое плевой, как глаз дремлющей птицы, и ритмично пульсирующее.
– Ударь, – сказала она с какой-то внезапной отвагой.
В жаждущий рот мой хлынула ее девичья, ее первая женская кровь, что пахла тотчас изошедшим из меня семенем, и крик мой тотчас захлебнулся в этой терпкости.
Потом мы оба спустились к озеру, как есть нагие, и долго плескались в прохладной и чистой воде.
– Кто смотрит на нас сверху – Геспер или Фосфор? – спросил я внезапно.
– Венера, – счастливо рассмеялась Мария. – Но если говорить, как у нас принято, – Люцифер.
– Что это было? – спросил я немного спустя.
– Ты прошел полное посвящение в рыцари, – объяснила Мари сквозь ворот своего свитерка – она как раз его натягивала. – Зверем, Древом, Человеком, Сумраком и Девой. Зверь – ясно. Плющ обвивается вокруг дерева, пьёт его соки и оттого ему сродни. Я дева и дитя сумрака. Ко всему прочему, со мной поделился один человек, очень хороший и настоящий. Он знал, для чего мне нужна его кровь.
– А когда инициируют женщину?
– Формула меняется, конечно. Сумраком и Мужем.
Мари поглядела мне в глаза и улыбнулась:
– Да конечно, женская печать тогда не снимается. По большей части ее уже не бывает. И человека пьют самого́, а не через посредника. Просто мне в голову вступило. Разве так не лучше?
А дома, среди Волков, произошел разбор полётов.








