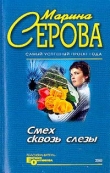Текст книги "День Святого Валентина"
Автор книги: Таня Воробей
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Воробей Таня
День Святого Валентина
Таня Воробей
День Святого Валентина
УТРО
Здравствуй, дорогой Бог!
Сама до этого я бы ни в жизнь не додумалась. И даже не потому, что все они считают меня дурочкой, а просто в голову бы никогда не пришло.
А дурочкой меня называют все кому не лень потому, что я немного от них отличаюсь, ну, самую малость, а ведь сами они, ясное дело, умные. Я, например, книжек не читаю. Не то, чтобы совсем, но если по правде сказать, не понимаю, зачем забивать голову всеми этими придуманными историями, когда в жизни и так полно всего интересного. И в городе всё время теряюсь. Когда иду куда-то в незнакомое место одна, всегда прошу нарисовать мне план, чтобы до места добраться. А они смеются и немного раздражаются, думают, нарочно прикидываюсь, делаю вид, что я вся такая не от мира сего. И ещё, конечно, из-за косы. Сейчас никто с косами не ходит, лицо от такой причёски ещё проще и глупее становится, но никак по-другому я волосы заплетать не умею. А отрезать косу рука не поднимается, это всё равно, что руку ампутировать или ногу. Даже хуже, потому что коса была со мной всегда – и в горе и в радости, – я ею слёзы утирала, когда платка под рукой не было, и жевала её, когда нервничала или думала о чём-нибудь волнительном.
Я знаю, другие считают меня некрасивой. Как-то случайно подслушала, как Вика Бойко про меня говорила в раздевалке перед физкультурой. "Я, говорит, конечно, не гений чистой красоты, но и не такая, как Шура". А Шура – это я. Захожу тогда в раздевалку как ни в чём не бывало, привет, говорю. А Бойко покраснела, улыбнулась неловко и глаза отводит. И я покраснела чуть не до слёз, так мне стыдно стало, вроде как я её за руку поймала. Захотелось подойти к ней и сказать: "Ничего страшного, я не обижаюсь. Я и сама всё про себя знаю". Ведь это правда, а на правду глупо обижаться. Если представить себе длинную-предлинную лестницу, на вершине которой стоит этот самый Гений Чистой Красоты, то Бойко займёт место где-то посередине, ближе к верхушке, а я... Даже говорить об этом не хочется.
Хотя иногда, когда я смотрюсь в зеркало по вечерам, я сама себе ужасно нравлюсь. Конечно, лучше, чтобы верхний свет был погашен, а горел только ночник, тогда вообще глаз не оторвать. У меня в лице нет никакой аномалии. Правильности, конечно, тоже маловато, но лицо – это же не чертёж, в нём и не должно быть прямых линий. Сижу так, иногда, часами, рожи себе строю, ситуации разные представляю. Как будто я кого-то не видела тысячу лет, и вдруг случайно встретила на улице. Ах, это ты, говорю. Господи, вот радость-то! Брови поднимаю и улыбаюсь во всю ширь. Или представляю, что прощаюсь с кем-то навсегда. Рукой откидываю волосы со лба, хотя они и так гладко лежат, и говорю так тихо, прощай, не поминай лихом. И такая я в эту минуту хорошенькая, как будто и не я вовсе. Знаю, что стыдно так вот собой любоваться, но любым, самым никудышным человеком должен хоть кто-то восхищаться. Вот я и стараюсь, изо всех сил.
А ба говорит, что если Бог не дал тебе красоты, нужно быть доброй. Нужно внимательно слушать других людей и стараться побольше про них запомнить, чтобы потом ввернуть в разговоре. И людям тогда становится приятно, что они такие значительные, и они начинают к тебе лучше относиться. Только мне это кажется странным и каким-то нечестным. Как будто твоя внимательность – это монета, на которую ты что-то хочешь купить.
Так вот, сама бы я ни за что не додумалась, чтобы эти письма начать писать. Это мне ба подсказала. То есть она даже не подсказывала и, уж конечно, не знала, к чему слова её приведут, но так уж получилось.
Это случилось в тот день, когда стало ясно, что маму с папой больше не будут искать. Мы с бабушкой зашли в кабинет, и этот милиционер, у него ещё усы смешно так топорщились, сказал, что прошло три года, и поиски теперь не имеют смысла. Ба заплакала, а я нет, потому что неловко было плакать в этом пыльном кабинете при постороннем человеке. И ещё он сказал, простите, но таковы правила, мы, говорит, пришлём вам извещение. Что ещё за извещение, спросила я бабушку, когда мы оказались на улице.
– Это такая бумажка, – ответила ба, вытирая щёки и нос клетчатым платком. – Документ.
Ясно, что документ, говорю. Только о чём он извещает?
– Он подтверждает, что их больше нет в живых, – говорит и опять плачет. – Что Бог забрал их к себе.
Вот тогда-то какие-то колёсики щёлкнули у меня в голове, сцепились и закрутились совсем в другую сторону. Я подумала: если Бог может посылать людям извещения, уверенный, что они дойдут до нужного адресата, выходит, и я могу писать ему письма. И я сразу же спросила об этом у ба, хотя мне и было всё равно, что она ответит.
– Конечно, можешь, – говорит она, а сама на меня не глядит. – А можешь и не писать, он и так всё про тебя знает, потому что он вездесущ.
Мне тогда было семь лет, и я не очень хорошо поняла, что это значит вездесущ. А если я чего-то не понимаю, никогда не стесняюсь спросить, вот все и думают, что я глупее других.
– Это значит, что он может быть везде, где только пожелает. И знать всё и про всех.
Я зажмурилась и попыталась представить каково это – знать все и про всех. И про меня, и про ба, и про Вику Бойко, и ещё про далёких африканцев, про рок-певцов и президентов, и про спасателей на водах, про почтальонов и антифашистов. С ума можно сойти, меня даже затошнило, когда я попыталась всё это представить. А всё потому, что я человек. Если бы меня не затошнило, могла бы стать Богом.
Только я тогда твёрдо решила, что письмо всё-таки надёжней. Можно, конечно, и так всё рассказать или в церковь сходить, но если напишешь совсем другое дело. Наболтать-то можно много лишнего, а когда пишешь, мысли становятся яснее, да и уважения в этом больше. Зачем тебе копаться у меня в голове, если я сама могу ему всё преподнести на блюдечке с голубой каёмочкой?
Тем более, нужно написать, если родители там неподалёку, подумала я. Может, ты им письма мои покажешь? Кто знает, какие у вас там порядки? Кто знает, тот молчит, словно в рот земли набрал, а мы – те, кто ещё не знает, теряемся в догадках.
И, как только вернулась домой, в комнате заперлась и села за письмо. Это было не письмо даже, а короткая записка, я потом её забыла вырвать из школьной тетради, поэтому так и не знаю, получил ты её или нет:
Дорогой Бог!
Вот, решила тебе написать, ты не против? Ба говорит, что мама и папа теперь у тебя. Если это так, передавай им привет, скажи, что у нас всё в порядке.
До свидания. Шура.
Я писала по письму каждую неделю и оставляла их на ночь на письменном столе. Ведь если ты вездесущ, что Тебе стоит проникнуть в мою комнату? Я уверена, что ты читал мои письма, потому что однажды на утро листок бумаги оказался перевёрнут, а я точно помню, что положила его наоборот. И ещё один раз я очень хотела заболеть, чтобы не ходить в школу, и на следующее утро у меня поднялась температура, хотя болезни никакой не было, и ба оставила меня дома. А когда мечтала о собаке и просила об этом, где-то через месяц всё почти сбылось. Ба сама приволокла домой этого кота Осю, хотя против собаки по-прежнему возражала категорически. Ну и ничего, кот даже лучше, особенно такой.
Это странно, но по своим родителям я почему-то совсем не убивалась. Вспоминать вспоминала, но почти не плакала. Я помню их так ясно, как будто вчера расстались, а мёртвыми я их не видела и никогда не представляла, поэтому они для меня так и остались – далёкими, но живыми. Как будто уехали за границу или завербовались на службу в первый отдел по борьбе с мировой преступностью. Это вполне в их духе. Вечно им на месте не сиделось. Штук двадцать альбомов осталось – вот они в Болгарии, вот в Египте, вот на Селегере, вот на Алтае. Там и пропали, хотя это был уже третий поход в горы. Ни следов не осталось, ничего.
Я знаю, что они меня любили, и ба говорит, что так. Но мне всегда казалось, что я им чуть-чуть мешаю. Мама любила повторять одну цитату из какой-то индийской книги, дескать, дитя – это гость в доме, нужно любить его и уважать, но ни в коем случае не властвовать и не понукать.
Но иногда мне хотелось, чтобы мной кто-нибудь властвовал. Потому что не больно-то здорово быть гостем в собственном доме. Гость, каким бы он желанным ни был, всё-таки всегда остаётся гостем. И когда он уходит, все испытывают невольное облегчение – можно убрать со стола и переодеться в домашнюю одежду.
Они были слишком влюблены друг в друга, чтобы замечать меня. Иногда мне казалось, что я сделана из стекла, – их ласковые взгляды всё время проходили как бы мимо меня в поисках друг друга. И только ба всегда была рядом, никогда не отмахивалась, ничего не требовала. Порой мне даже кажется, что это она – моя настоящая мать, а родители – вовсе не родители, а непоседливые брат и сестра, которые теперь путешествуют по Европе, вот только путешествие несколько затянулось.
Она были идеальной парой, всегда говорит ба, и я соглашаюсь. Они познакомились на трамвайной остановке. Папа подошёл к ней и спросил: "Вы не подскажете, как пройти на Блюмен штрассе?", тогда как раз показывали фильм про Штирлица. А мама подумала, господи, какая глупость, какая нелепость начинать знакомство с такого вопроса. Но ей всё равно стало смешно, и она ответила, что в этом городе любой ребёнок знает, как пройти на эту самую штрассе, на явочную квартиру. Нужно, говорит, сесть на седьмой трамвай и выйти на остановке "Галантерея", а там – рукой подать. Но главное внимательно смотреть на окно. Если увидишь на подоконнике цветок – проходи мимо, не замедляя шаг. Это значит, что явка провалена. Не забудете, спрашивает, ну-ка, повторите. И он повторил, а потом подошёл трамвай, и она помахала ему рукой, взлетая по ступенькам. Он тоже махнул рукой, а сам опрометью бросился к другой двери. И вышел вслед за ней. И больше они никогда не расставались.
Мама всегда говорила, что судьба тебя и на печке найдёт. Я долго не понимала – при чём тут печка? Но потом ба рассказала мне сказку про Илью Муромца, который до тридцати трёх лет на печи сидел, а потом как соскочил, обозлился на врагов отечества и давай их палицей раскидывать. Тогда-то я всё и поняла. Поняла, что мама, как всегда, говорила про папу. Она верила, что если тебе суждено встретить самого важного в твоей жизни человека, то он найдёт тебя где угодно – на трамвайной остановке, на окраине города и даже на печи.
Только вот я никак никого не встречу. Неужели со мной этого никогда не случится? Может быть, вся любовь, которая была отведена на нашу семью, досталась маме с папой, а на меня не хватило? Как подумаю об этом, – жить не хочется. Нет, это я сдуру. Конечно, хочется. Ещё как.
Я знаю, что надоела тебе со своими просьбами, но всё равно не могу не просить. Сделай так, чтобы я смогла полюбить. Моё бедное сердце разорвётся на куски, если ему будет не на кого выплеснуть свою нежность. Ну, пожалуйста, что тебе стоит. Спокойной ночи. Твоя Шура.
Будь его воля, он бы вообще никуда не пошёл. Лежал бы на диване, слушал бы тишину. Может быть, полистал какую-нибудь книжку – старую, толстую, потрёпанную, которая сама раскрывается на любимом стихотворении, – но лучше просто закрыл бы глаза и стал смотреть своё внутреннее кино, видения, приходившие каждый раз, как только он смежал веки.
Много чего можно было бы сделать, будь на то его воля. Но его воли не было, и не было уже давно. Он больше не мог распоряжаться ни своим временем, ни своими мыслями; теперь он не был способен ни на один Мужественный Поступок.
Ему всегда казалось, что самое главное – это уметь совершать Мужественные Поступки, а тот, кто этого не умеет – слабак и простофиля. И вот теперь он сам – беспомощный и слепой, как котёнок, которого несут топить.
Телефон звякнул так громко и неожиданно, что он вздрогнул и стал судорожно шарить по диванным подушкам в поисках трубки.
– Да?
– Уже вернулся? – Этот сонный и медленный голос казался ему таким близким, как будто звучал не из телефонной трубки, а слышался откуда-то изнутри, из его собственного живота.
– Да, только вошёл.
– Ну, как прошло?
Стыд и срам, – вот как прошло. Позор несмываемый. Но разве ей можно рассказать об этом?
– Нормально. Только вот вопросы дурацкие задавали. Как говорится, какой вопрос, такой и ответ...
– А-а, понятно, – она негромко засмеялась. – И, правда, было смешно, когда ты сказал о том, что сейчас читаешь.
Она снова засмеялась, а он так покраснел, что глазам стало жарко.
Надо же было такую глупость сморозить, да ещё на всю страну. А всё этот лохматый ведущий радиопередачи "Новые имена", всё он. То ехидничал, то пытался подловить на противоречиях, то обсмеять с головы до ног. Спрашивает: "Скажите, Тимур, а каковы ваши литературные пристрастия. Ну, каков круг вашего чтения?"
Сейчас-то яснее ясного, как нужно было ответить. Ну, во-первых, русская классика: "Герой нашего времени", Пушкин – наше всё и всё такое. Во-вторых, западная литература, куда же без неё, родимой: Селинжер, Эдгар По, все эти Маркесы и Борхесы. В третьих...
А, да что теперь! Это задним числом все такие умные и обстоятельные. Психологи даже название дали этому явлению, называется эта подлость "эффект лестницы". Это значит, что когда ты из гостей выходишь, спускаешься по лестнице, тебе самые удачные мысли в голову приходят. Вот и думаешь: "Эх, надо было тогда так ответить! А вот тогда было бы к месту анекдот про удава рассказать! А про её платье можно было сказать то-то и то-то, да ещё к месту ввернуть эту историю..." Идёшь себе, значит, по лестнице, на каждой ступеньке ладонью по лбу колотишь. Обидно, что не удалось ни остроумием блеснуть, ни остротой реакции. Досадно, что так никто и не узнает, какие хороводы каламбуров водятся в твоей голове, какие россыпи цитат и залежи анекдотов пропадают бесславно!
А этот лохматый задал свой вопрос с подковыркой, а сам смотрит глумливо, очками сверкает. И в глазах у него – глубокое недоверие. Дескать, какой у тебя, мальчик, может быть круг чтения? Дескать, знаем мы вас, птичек певчих, вам лишь бы гитару в руки, да дури покурить. Что такое круги ада это вы должны знать, а круг чтения – что за дикое словосочетание?
И он растерялся. И мысли разбежались, и слова позабылись. И капают прямо на мозги тягучие, расплавленные секунды этого молчания в прямом эфире. "Говори, говори хоть что-то", – попросил он самого себя, но нет в голове ни одной завалящей фамилии, ни одной заезженной фразочки.
"Ну, хорошо, – решил подбодрить его лохматый, – а что вы читаете сейчас?"
Вот тут и брякнул он свою дурацкую правду. Даже вспоминать тошно. Я, говорит, в данный момент читаю свою книгу, вы ведь знаете, у меня недавно вышел сборник стихов "Ранняя лирика" называется. Так вот, я получил сигнальный экземпляр, перечитывал. Почувствовать хотел, получилась книга или нет.
"Ах, вы читали свою книгу? – обрадовался лохматый. – Очень интересно. И как, нравится?"
Тут Тимур окончательно озлился и говорит: "Если бы не нравилось, наверное, я бы вообще стихи писать бросил. Пошёл бы на стройку цемент мешать или передачу какую-нибудь вести на радио".
Лохматый гаденько засмеялся и говорит: "Так значит, вы читали свою книгу, и вам понравилось? Что ж, это всегда приятно, когда книга находит своего читателя. Это я виноват, – не унимался лохматый, – задал вам вопрос глупый, почти неприличный. Как говорится, чукча не читатель, чукча писатель. О том, какая музыка вам нравится, я даже спрашивать не решаюсь, поэтому прервёмся на рекламу..."
"Когда отвечаешь на дурацкие вопросы, и сам становишься дураком, – с горечью подумал Тимур. – Можно подумать, так это важно – что ты читаешь. Последние кретины обычно читают последние литературные новинки, а самые лучшие люди на свете могут быть вообще неграмотными".
– Придёшь сегодня? – отсмеявшись, спросил равнодушный голос.
– А что?
– Да так. Все наши собираются. У меня. Думала, тебе будет интересно.
– Я подумаю. – Ему хотелось, чтобы она его уговаривала, чтобы сказала, что его она хочет видеть особенно, а не так, в числе прочих. – У меня вечером кое-какие дела, да и просто отдохнуть хотелось.
– А-а, – её голос заметно поскучнел. – Ну, как хочешь. Если надумаешь, приходи часикам к восьми. Да, и гитару не забудь, ладно?
– Ладно, – сказал он и повесил трубку.
Будь его воля, он бы никуда не пошёл. Ему совсем не хотелось видеть растянутые улыбками лица полузнакомых воздыхателей Тони, петь для них и выслушивать их идиотские комментарии к своим песням. Совсем не хотелось снова оказаться у неё дома и утонуть в его расслабляющем тепле и пряном запахе. Совсем не хотелось снова видеть её разноцветные глаза – один серый, другой голубой – разглядывающие его с праздным интересом, как диковинное животное в зоопарке или как тропическую бабочку, приколотую старательным энтомологом.
Будь его воля, он бы пораньше лёг спать, он бы горло поберёг, в конце концов. Да мало ли что мог бы он сделать, будь его воля.
Но его воли не было.
Она исчезала постепенно – съёживалась, болела, умирала. Глядя на него, никто и подумать бы не мог, что он носит в себе, внутри свою погибшую волю, – таким он был цельным и резким.
Чертыхаясь и стараясь не встречаться глазами со своим отражением в зеркале, Тимур поднялся и стал собираться. Ему не хотелось опаздывать. Наоборот, он хотел прийти первым, чтобы все подумали, что в Тонином доме у него побольше прав, чем у всех остальных.
Иногда ему хотелось, чтобы она умерла, или чтобы вышла замуж и уехала в Аргентину, или чтобы её забрали инопланетяне. Ему хотелось, чтобы случилось хоть что-нибудь, пусть даже самое ужасное, лишь бы это ужасное было окончательным и бесповоротным.
Но ничего не случалось, и день за днём – те же мысли о ней, и та же пустая болтовня, и те же толпы поклонников, которые не отступают от неё ни на шаг. И та же вечная, изнуряющая война за её любовь. Бессмысленная и беспощадная, как сказал бы Пушкин, война, в которой нет и не может быть победителей.
И главное, он никак не мог понять – ей-то что нужно? Зачем ей быть красивой, если нет того единственного, для кого нужно стараться? Зачем ей нужны эти ни на что не годные люди, которых она привечает у себя дома, которым улыбается, и про которых знает, что никогда-никогда не будет любить ни одного из них?
– Послушай, Тоня, – как-то спросил он, – что они всё время вокруг тебя крутятся?
– Кто это все? – она медленно и удивлённо подняла бровь над голубым глазом.
– Ну, эти двое из ларца одинаковых с лица...
– Это ты про братьев Сальниковых? – она улыбнулась. – Они совершенно не похожи, даром, что близнецы. И потом, они, между прочим, очень перспективные пловцы.
– Но с ними совершенно не о чем говорить, – начинал раздражаться Тимур. – Они же двух слов связать не могут!
– Ну и что, – Тоня брезгливо передёргивала плечами. – Ну, и не могут. Ты вот, тоже не можешь стометровку брасом проплыть за двадцать секунд, и ничего. Каждому дано своё.
– А тебе? – ему стало обидно, потому что он явно не выдерживал сравнения с братьями Сальниковыми. Тимур был небольшого роста и почему-то считал это источником всех своих бед. – Тебе что дано?
Она как будто не заметила ни его обиды, ни раздражённого тона. Всё с неё скользило, как с гуся вода – и хорошее, и плохое.
– Не знаю, – она достала маленький, блестящий портсигар и принялась вертеть его в руках. – Может быть, всего понемногу, а может быть, вообще ничего. Но вот только и братьев Сальниковых, и Дениса, и даже тебя что-то ко мне тянет. И я-то без вас могу обойтись, а вот вы без меня – нет. А что это значит? – И ответила сама себе. – А то, что во мне есть что-то такое, чего вам не дано. Поэтому не зли меня и не задавай глупых вопросов.
В такие моменты ему казалось, что он мог бы легко и непринуждённо её ударить. Хотя драться он не умел и не любил, но порой ему казалось, что Тоня – не девушка и даже не человек, а потому на неё не должны распространяться человеческие обычаи и законы.
– Ударить меня хочешь? – спросила она, не поднимая глаз от портсигара. – Ну, что же, попробуй. Увидишь, что будет дальше.
– С чего ты взяла? И в мыслях не было.
– Так, показалось, – медленно проговорила она. – Почудилось.
И вот теперь он снова шёл к ней в гости, в её дом, с гитарой, как с винтовкой, за плечом. Было бы лучше, если бы его позвали просто так, без всяких условий и без гитары. Тогда он был бы уверен, что нужен сам по себе, а не как представитель странного сословия, которое именуется "творческие люди".
Без пятнадцати восемь он позвонил в дверь, в очередной раз вздрогнув от резкости звонка.
– О, ты как раз вовремя, – сказала Тоня, открывая дверь. – Все уже собрались.
Он прошёл в комнату и снова увидел привычные лица – абсолютно неразличимые братья Сальниковы, молчаливый Денис Щукин, ещё один парень, чьего имени он никак не мог запомнить и какой-то хмырь с неприятными усиками, которые вызывающе топорщились над верхней губой.
– А, Тим, здорово, – братья Сальниковы по очереди энергично потрясли его руку, и он подумал, что если сейчас ему проломят запястье, запись нового альбома окажется под угрозой.
– А это Тимур, – объясняла Тоня человеку с усиками. – Да-да, тот самый. "Тимур и его команда". Нет, ну ты точно слышал. У них ещё такая песня есть "Любовь – это зло".
Тимур ждал, что сейчас она объяснит, что это за тип с усиками и почему её рука лежит у него на плече, но Тоня и не думала ничего объяснять. Она с любопытством взяла принесённый подарок – большого, носатого медведя с грустной мордой, рассмотрела со всех сторон, подержала за шкирку, а потом зарылась в него лицом, как маленькая.
– Спасибо, Тим, – сказала она. – Чудесный медведь. И главное – на ощупь, как настоящий.
– А тебе что же, доводилось обнимать настоящего медведя? – сострил тип с усиками. – Ты знаешь, какие они на ощупь?
Наверное, ему просто стало обидно, что Тоня ради этого подарка убрала руку с его плеча.
– Я всё знаю, – сказала она со значением, и у Тимура всё внутри похолодело от этого "всё".
– Я хочу, чтобы ты спел нам, – капризно, без всякого перехода сказала Тоня. – Ту, мою любимую.
Тимур кинул прощальный взгляд на накрытый стол, на котором стояли салаты, маринованные огурцы, мясо, нарезанное тонкими кусками, апельсины вперемешку с яблоками и принялся расчехлять гитару.
– Может быть, он сначала поест? – услышал он тихий голос, поднял голову и впервые заметил, что кроме Тони, за столом сидела ещё одна девушка.
– Поест? – Тоня откинулась на диван. – Не смеши меня, Шурок. Это нам, простым смертным, нужны салаты и маринады, а им – птицам певчим, почти ничего не нужно. Они вдохновением питаются, нектаром и амброзией. Правда, Тим?
– Правда, правда, – нехотя подтвердил он, перебирая струны и разглядывая ту, что за него заступилась.
Простое, круглое лицо, гладкие волосы, заплетённые в тугую косу, перекинутую через плечо, карие глаза. Выражение лица серьёзное и сосредоточенное, как будто у неё внутри звучит музыка, и она внимательно вслушивается в эти созвучия, иногда даже поводя плечами в такт. Она заметила его взгляд и вскинула белёсые ресницы, уставилась ему прямо в глаза, не мигая, как смотрят дети на посторонних в вагоне метро.
Ему стало неловко от этого взгляда, и он улыбнулся, а потом ещё и подмигнул. А она расширила глаза, как будто ей в жизни никто не подмигивал, а потом заулыбалась в ответ, да так, что остановиться не могла, закрывая рот рукой, как делают это те, у кого некрасивые зубы. И зря, между прочим, он успел заметить, что улыбка у неё удивительная, – открытая, сияющая. Она вся становилась красивой, когда улыбалась, на неё хотелось смотреть и смотреть.
– А вы знакомы? – Тоня вдруг посерьёзнела.
– Нет, – сказал Тимур, не отрывая взгляда от Шуры, а сама Шура только помотала головой из стороны в сторону, да так, что казалось – голова отвалится.
– Это соседка моя, Шура, – пояснила Тоня. – Я в двадцать первой живу, она – в двадцать второй. А это – Тимур, у нас с ним дачи рядом.
– Очень приятно, – через стол кивнул Тимур, подкручивая колки.
– Это правда? – спросила Шура и все на секунду замолчали, посмотрели на неё и зашлись в радостном смехе.
– Что – правда? – не понял Тимур.
– Ты сказал: "Очень приятно", – терпеливо напомнила Шура. – Вот я и спрашиваю – это правда?
– А зачем бы я стал тебя обманывать в первую же минуту знакомства?
– Это не обман. Конечно, кто я такая, чтобы ты меня обманывал. Но люди часто что-то говорят из приличия. Потому что так заведено, а совсем не потому, что они так чувствуют.
– Может, ты, наконец, споёшь? – Тоне стало неприятно, что центр всеобщего внимания переместился с неё на Шуру. – Хватит колки крутить, всё равно здесь ни у кого слуха нет.
И тогда он запел. И все замолчали, и перестали скрести вилками по тарелкам. И Тоня подошла к окну и закурила, глядя куда-то вдаль, и у незнакомого типа усики перестали топорщиться так враждебно, и братья Сальниковы загрустили каждый о чём-то своём, отчего стали совсем не похожи друг на друга.
"Ты вернёшься ко мне через тысячу лет,
После тысяч любивших тебя,
После тысяч тобою исхоженных лье,
Из того сентября, октября?
Ты придешь на могилу и ляжешь со мной,
На камнях, словно в майском стогу.
Будет тело твоё полыхать как весной,
Только я ничего не смогу".*
У него был низкий, негромкий голос. Он как будто не пел, а наговаривал стихи под музыку.
Шура смотрела на него, не отрываясь, во все глаза, и ей казалось, что кто-то огромный и мягкий, как медведь, обнял её и качает на руках – из стороны в сторону, даже голова немного закружилась.
– Господи, какая хорошая песня, – сказала Шура, когда даже самая тонкая струна умолкла. Ей хотелось запомнить её наизусть, списать слова, хотелось обнять кого-нибудь, чтобы поделиться своей радостью от прикосновения к чему-то хорошему. – А кто её написал?
Все посмотрели на неё, как на дурочку.
– Нет, ну ты, Шурок, и правда, – того, – Тоня покрутила пальцами у виска. – Его это песня, его. О том и речь.
Шура захлопала белёсыми ресницами, с недоверием посмотрела на Тимура, робко улыбнулась.
– Вы – шутите? – предположила она.
Все засмеялись, и она засмеялась вместе со всеми, радуясь, что может принять участие в общем веселье; довольная, что над ней хотели подшутить, а она разоблачила насмешников.
– А что, он, по-твоему, не похож на поэта? – спросила Тоня.
Взглянув на Тимура, на его ладную шею, на прямой, бесстрашный взгляд, Шура подумала: "Он похож на всё, что угодно".
– Может и похож. Откуда мне знать? – вслух сказала она. – Я в жизни не встречала ни одного поэта.
Почему-то все опять засмеялись, и налили вина, и сомкнули бокалы, произнося тосты, желая Тимуру дальнейших успехов, а главное – вдохновения. И при этом все почему-то смотрели на Тоню, а она кивала, понимая значение этих взглядов.
А Шурка всё думала о том, как же должен страдать человек, чтобы в его душе родились такие строчки. Она вспомнила старый клип Мелен Фармер про кладбище и чуть не заплакала от жалости к Тимуру, к своим родителям, к этому плюшевому медведю и, конечно, к себе. В этом клипе один человек приезжает на кладбище к своей жене, а она появляется перед ним, как живая. Они вместе гуляют, осторожно ступая между могил, держатся за руки и радуются друг другу. А потом она покидает его, потому что мёртвым нельзя долго находиться рядом с живыми, и ещё потому, что земля зовёт её к себе, обратно, а он садится на трамвай и уезжает, чтобы дальше жить своей несчастной, потерянной жизнью.
– Давайте так, – вдруг предложил Тимур, – пусть каждый расскажет о своей первой любви. О самой первой. Давайте?
– А что значит – о первой? – заволновался тип с неприятными усиками. Первая – это какая? Это та, что перед второй?
– Первая – это та, о которой ты сразу вспомнил, как только я сказал первая. Ну, с кого начнём?
– Ишь ты, – захрипел один из близнецов Сальниковых и шутливо погрозил пальцем, – выдумал тоже. Не будем мы об этом рассказывать.
– Если никто сам не вызовется – придётся спички тянуть. Тоня, у тебя в доме есть спички? Кому короткая достанется, тот и начинает.
– Нет, брат, – сказал усатый, – мы свои спички уже вытянули. Теперь одна осталась – твоя, так что – мы тебя слушаем.
– Так и быть, – улыбнулся Тимур и откинул упавшую на глаза чёлку, как раздвигают кулисы перед спектаклем. – И мы с моей первой любовью не избежали общей судьбы – нам пришлось расстаться.
– А почему она от тебя ушла? – спросил другой Сальников.
– Разве я сказал, что она от меня ушла?
– Эх, ты, – почти обиделся усатый, – и здесь уел слабый пол. Не мог соврать, что ползал на коленях и умолял её остаться, а она... Она была неумолима и великолепна!
– Нет, так не пойдёт, ведь это я её бросил. И расскажу – почему. Дело в том, что она мне не верила. Как и заведено в период ухаживания, я дарил ей всякую ерунду. Но особенно часто – цветы. Чайные розы, гвоздики, тюльпаны, которые уже через несколько дней так отвратительно разевают свои пасти. Я дарил ей цветы и говорил, что вырастил их на подоконнике в своей комнате. А она мне не верила.
– Ты правда их сам выращивал? – спросила Тоня.
– Конечно, нет! – улыбнулся Тимур. – Но недоверие оскорбляло любящее сердце. И я до сих пор думаю, что это – уважительный повод для разрыва.
Остальные отказались рассказывать о своей первой любви. Одни посчитали, что это – слишком личное, другие не захотели состязаться с Тимуром в острословии. И только одна Шурка с грустью подумала, что ей-то решительно не о чем рассказать. Не может она вести счёт своим любовям, потому что не было в её угрюмой жизни – ни одной.
Шура склонилась Тоне к самому уху и шепнула:
– Я пойду, ладно?
– Да-да, Шурок, спасибо тебе за всё.
И она чмокнула соседку в щёку, оставляя на скуле отпечаток коричневой помады.
– Не за что. Не стоит. Так, ерунда, – она махнула рукой и покраснела, потому что никогда не умела принимать благодарность. – Это тебе спасибо, что позвала.
И уже около двери, в коридоре, Шура столкнулась с Тимуром. Не заметила его в полумраке и врезалась на полном ходу.
– Ой, – она испуганно отскочила. – Это ты?
– Самый глупый вопрос, какой только можно придумать, – из темноты засмеялся он. – На вопрос: "Это ты?" возможен только один ответ: "Да, это я". А ты что, уже уходишь?
– Извини, мне надо идти. – Почему-то ей казалось, что перед ним обязательно нужно извиниться. Не хотелось, чтобы он подумал, будто ей не слишком понравились его песни. – А то ба будет волноваться. А у неё сердце.
– Понятно, – сказал он. – Надо так надо.
Он щёлкнул выключателем и зажёг свет.
Они стояли напротив друг друга, и никто не решался первым сдвинуться с места.