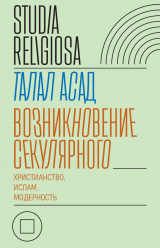
Текст книги "Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность"
Автор книги: Талал Асад
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
Говоря об актерских традициях, Эдвард Бёрнс высказал интересную идею, что если актер Елизаветинской эпохи стремился стать инструментом текста, старался слиться с ним, представляя драматический характер явно и открыто, то (современный) актер в эру Станиславского, напротив, конструирует собственный текст, текст того существа, «образ» которого он старается воспроизвести, основываясь на тексте. Бёрнс полагает, что существует напряжение между я актера и я независимого образа, который он создает, напряжение, которое создает для публики эффект реализма (состояния «человеческого» субъекта, доступные для художественного использования) и глубины (скрытые «человеческие» смыслы, доступные для бесконечного открытия)144144
Burns E. Character: Acting and Being on the Pre-Modern Stage. New York, 1990.
[Закрыть]. Это два совершенно разных способа, в которых способность актера отречься или опустошить себя ясно выражает его агентность в отношении к определенным актерским традициям. Из представленных традиций вторая не является более «правильной» или «более развитой», просто в субъективизирующей литературной культуре люди воспринимают ее более органично и считают ее «более естественной».
Критик современных актерских стилей (сегодня он ассоциируется скорее со Страсбергом, чем со Станиславским) делает интересное замечание, что их сильный индивидуалистский крен приводит к обесцениванию сюжета: «Способ рассмотрения пьесы как собрания индивидуализированных описаний образов означает, что сюжет, темы, образы, риторические фигуры, стихотворные формы, поэтические мотивы и любое интеллектуальное содержание становится не важным, все это превращается в нечто… внешнее. Как мне честно говорили десятки актеров и режиссеров за последние 30 лет, „невозможно сыграть идею“. Можно сыграть только реального, живого, независимого человека, как утверждает теория, а не литературный конструкт»145145
Hornby R. The End of Acting. New York, 1992. Р. 6–7. Книга, кроме прочего, представляет полезный материал об ограничениях сознательного стремления к хорошей актерской игре.
[Закрыть]. Предположение, что реальные, живые люди независимы от сюжета, имеет интересные следствия. (Я вернусь к этой мысли ниже.)
Можно возразить, что профессиональные актеры лишают себя власти по собственной воле и на некоторое время, в контексте ограниченного представления, что в «реальной жизни» мы можем и по факту представляем себя. Тем не менее одним ответом на это возражение будет тот факт, что многие, если не все, занятия в рамках социальной деятельности также ограничены рамками. Стремление профессионального актера отшлифовать до совершенства роль для показа на сцене – того же рода, что и восприятие риторических приемов (речь, жесты, отношение, поведение)146146
Бёрнс напоминает, что в Европе раннего Нового времени «игра на сцене и риторика никогда не рассматривались в отрыве друг от друга. В теории актерской игры нет необходимости, как и в систематических руководствах по актерским техникам, поскольку первая уже присутствует в теории риторики, а второе может рассматриваться в одном из аспектов как совокупность не поддающихся классификации социальных и развлекательных навыков, а в другом, в свете впечатлений от профессиональных риторов, таких как Эдуард Аллен и Ричард Бербедж, – как развитие давно существующей риторской традиции. Традиции драматических постановок в университетах, «Судебные инны» (четыре школы барристеров в Лондоне – Inner Temple, Middle Temple, Gray’s Inn, Lincoln’s Inn) и школы хорового искусства в течение длительного времени занимались актерской игрой и риторикой, не различая их. При этом мы не должны делать ошибку, понимая риторику в ее современном разговорном смысле как занятие натянутое, пустое и почти нелепое. Говорить об актерской игре в терминах риторики – означает рассматривать ее как раздел изучения способов коммуникации, развития навыков „манипулирования“, „угождения“, „убеждения“ и „обучения“ других людей, как классическую, средневековую и ренессансную культуры, порожденные коммуникацией» (Burns E. Character: Acting and Being on the Pre-Modern Stage. New York, 1990. Р. 10). Бёрнс мог бы добавить, что риторические традиции Средних веков и раннего Нового времени укоренены в практиках христианской проповеди и выполнения священных ритуалов в той же степени, как и в мистериях, представлявших Страсти Господни.
[Закрыть] акторами в других областях, в которых их действия не полностью являются «их собственными». В современном секулярном мире то же происходит в судах и на политической арене – в областях, в которых «я» должно быть дезавуировано (не важно, искренно или нет), пока человек представляет клиента или «закон», избирателей или «группу по интересам», – областях, в которых законы государства лишают власти и одновременно мотивируют активных граждан. (Кстати говоря, критики, стоящие на психоаналитической позиции, предложили идею, что актерская игра в современном мире может стать отдушиной для болезненных попыток соответствовать собственной идеализированной картине как раз благодаря способности лишения себя власти)147147
«В безопасной и социально одобренной ситуации (на вечеринке, в отпуске или на сцене) вам позволительно временно сбросить боль, связанную со стремлением жить с идеализированным образом себя. Можно даже стать презираемой фигурой: идиотом, негодяем, трусом, и не только быть оскорбленным или высмеянным за это, но даже получить аплодисменты и смех… Герой плачет, а актер чувствует экстаз (от греч. ἔκ-στᾰσις, буквально – пребывание вне себя), поскольку он освобожден от своей обычной тесной, неизменной, ограниченной каждодневной личности» (Hornby R. The End of Acting. New York, 1992. Р. 17–18. Курсив из оригинального текста).
[Закрыть]. Во всех таких ситуациях тот факт, что действия актора и их постоянно изменяемая природа принадлежат актору только частично, становится очевидной. Действия часто нелогичны, если их рассматривать только из сюжета драмы, и могут быть описаны непредвиденными способами.
Ритуальная драма, как Страсти Христовы или мученичество Хусейна, имеет еще одно измерение. Участники здесь узаконивают и претерпевают заранее известную агонию фигур христианского и исламского нарративов, отождествляясь с этими фигурами.. Подвергая себя страданиям (в некоторых случаях доходит до наносимых себе же ран), они отчасти ищут способ дополнить себя как субъектов148148
См. интересную статью: Pinault D. Shia Lamentation Rituals and Reinterpretations of the Doctrine of Intercession: Two Cases from Modern India // History of Religions. 1999. Vol. 38. № 3.
[Закрыть].
История религий – это дискурсивная область, в которой понятие об агентности широко используется. Так, в Англии XIX века сочетание секулярных идей о стремлении человека к совершенству с христианскими идеями о страданиях Христа вылилось у евангельских христиан в идею о «я» как одновременно активном и пассивном. Американский историк и религиовед Филлис Мак пишет: «Теология Искупления научила мужчин и женщин быть маленькими детьми, пассивно отдыхающими в руках (или ранах) Христа, но теология универсального стремления к совершенству подвигла их к более ясному пониманию автономии личности или самообладанию, из‐за которых людям стало сложно воспринимать себя как зависимых от Бога. Методистские навыки самоконтроля: приверженность определенной диете, дисциплина и размышление, которые помогают справляться со страданием, способны угрожать самому ядру их веры и уверенности – силе Искупления смыть грехи и победить смерть. Агентность одновременно и увеличила желание выхода за пределы самого себя, и сделала этот выход еще более сложно достижимым. Для женщин и мужчин проблемой был не поиск полномочий для высказывания и действия, проблемой стала возможность запомнить, что полномочия им не принадлежали»149149
Mack Ph. Religious Dissenters in Enlightenment England // History Workshop Journal. 2000. Issue 49. P. 16–17.
[Закрыть]. Поскольку это напряженное состояние было нестабильным, по мнению Мак, оно обязательно должно было привести к бесспорной победе реформистского активизма над пассивностью. Этот каузальный дрейф не оставил возможности «предать себя Христу» не задумываясь, как это демонстрирует жизнь многих христиан.
Таким образом, «агентность» – это комплексный термин, смысл которого возникает в семантических и институциональных сетях, определяющих и делающих возможными те или иные способы отношения к людям, вещам и себе. При этом «намерение», которое одновременно понимается как «план», «осознанность», «своеволие», «направленность» или «желание» (термины, антонимы которых грамматически не одинаковы: не иметь желаний – это не то же самое, что не иметь плана или находиться в состоянии неосознанности), часто занимает центральное место в атрибуции агентности. «Наделение властью», правовой термин, обозначающий одновременно и акт наделения кого-то властью, и способность эту власть проявлять, становится метафизическим свойством, определяющим секулярную агентность человека, ее цель, а также ее предпосылки. Хотя различные контексты использования термина «агентность» и не соответствуют друг другу, теория культуры обычно редуцирует их к метафизической идее о сознательном акторе-субъекте, который обладает и способностью, и желанием двигаться в одном историческом направлении: наделении себя все большей властью и уменьшении боли.
Размышление о боли
Существует поддерживаемая многими (в том числе антропологами) секулярная точка зрения, которую необходимо принимать во внимание, что в конечном счете возможны только два взаимоисключающих варианта: или агент/актор (представляющий и утверждающий себя), или жертва (пассивный объект случайности или жестокости).
Говоря, что кто-то страдает, мы обычно предполагаем, что он или она в этом случае не является актором. Страдать (физическая или ментальная боль, унижение, лишения) – значит, как мы обычно думаем, находиться в пассивном состоянии, быть объектом, а не субъектом. Человек с готовностью допускает, что боль может стать причиной действия (например, стремление прекратить страдания), но обычно никто не думает о самой боли как о действии. Боль – это то, что иногда происходит с телом или что причиняет страдания сознанию. Обычно мы мыслим примерно таким образом. При этом могут мыслить боль не только как пассивное состояние (хотя она и может быть только таковой), но и как агентное.
Физическая боль – это, конечно, объект чувства, но также и действия. В книге Поля Валери «Господин Тэст» представлено прекрасное описание попыток страдающего субъекта контролировать телесную боль сознанием. Эти попытки включают использование метафор. Наиболее распространенная – это черный образ боли как враждебной и чуждой сущности в теле. Жан Старобинский указывает на то, что Валери использует музыкальные тропы. Он пишет: «Боль обусловлена сопротивлением сознания устройству конкретного тела. Боль, которую мы осознаём ясно и в некотором смысле ограничиваем, станет ощущением без страдания, и, возможно, таким образом мы можем преуспеть в приобретении знаний о нашем глубинном теле, это знание того же типа, которое мы находим в музыке. Боль – очень музыкальное явление, о ней даже можно говорить в музыкальных терминах. Существует глубокая, низкая и высокая боль, анданте и фуриозо, фермата и арпеджио, секвенция, резкое молчание и т. д.». Старобинский замечает, что музыкальная метафора связана с планом по контролю, поскольку «любая метафоризация подразумевает интерпретацию, а любая интерпретация подразумевает дистанцию между интерпретирующим усилием и объектом интерпретации даже в случае, если этот объект – происходящее „в моем теле“ явление… Для Валери „боль не имеет смысла“, а отсюда возникает возможная интерпретация ее природы»150150
Starobinski J. Monsieur Teste Confronting Pain // Fragment for a History of the Human Body. Part Two / Ed. by M. Feher. New York, 1989. P. 386.
[Закрыть].
Предварительно я предлагаю иное заключение. Использование музыкальной метафоры (или музыки как таковой), чтобы справиться с телесной болью, можно рассматривать не как попытку придать смысл животным переживаниям, а как процесс, который структурирует этот опыт. Я знал человека, который использовал цифры, чтобы оценить и категоризировать опыт переживания боли. Хотя, очевидно, более сильную боль определяли большие числа, также налицо был факт и менее очевидной структуризации: только резкая, не утихающая боль определялась через простые числа. Более того, это определение варьировалось в зависимости от социального контекста, в котором находился этот человек: простые числа применялись только в том случае, если он находился в одиночестве. Такая структуризация не обязательно делает боль «осмысленной», это просто способ контакта с ней. Таким образом, заключение, которое предлагаю я, контрастирует с мыслью Элейн Скерри, высказанной в книге «Болящее тело». Согласно этой позиции «крайняя ригидность боли как таковой» повсеместно отражается в факте, что «ее сопротивление языку – это не просто один из ее случайных или несущественных атрибутов, но представляет ее сущность»151151
Scarry E. The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World. Oxford, 1985. Р. 5.
[Закрыть]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.








