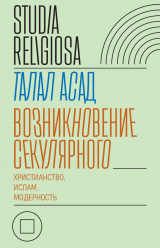
Текст книги "Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность"
Автор книги: Талал Асад
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
На самом деле либеральная демократия в данном случае выражает два секулярных мифа, о которых известно, что они конфликтуют: просвещенческий миф о политике как о дискурсе общественного сознания, связи которого со знанием позволяют элите находиться во главе образовательных процессов, и революционный миф о всеобщем избирательном праве, политике больших чисел, в которой представительство «коллективной воли» возникает на основании подсчетов мнений и фантазий конкретных граждан-избирателей. Секулярная теория терпимости в государстве основывается на этих противоречивых основаниях: с одной стороны, элитарная либеральная ясность стремится сдерживать религиозный пыл, с другой – цифры позволяют большинству подавлять меньшинство, даже если оба базируются на религиозных основаниях.
Мысль, что миру необходимо искупление, является больше чем просто идеей. Начиная с XVIII века она воодушевляла целый ряд интеллектуальных и социальных проектов в европейских мировых империях как в рамках христианства, так и за его пределами. В практическом смысле они различались в разных странах и объединялись только в стремлении к современности, в которой доминирует либеральная идея. Но сходство этих проектов с христианской идеей искупления не должна, как мне кажется, приводить нас к мысли, что они являются всего лишь вариантом священного мифа, что проекты только кажутся светскими, но в действительности религиозны. Хотя миф Нового Завета участвовал в формировании этих светских проектов, из этого не следует, что сами проекты являются по сути христианскими. Они проводят специфическую политику (демократическую, антиклерикальную), предполагают мораль другого типа (основанную на священности индивидуального сознания и права индивида), и считают страдания всецело субъективными и случайными (как телесные повреждения, они подлежат лечению при помощи медицины или существуют как коррекционные наказания в случае совершения преступления либо как незавершенные дела по глобальному расширению влияния).
В светской политике искупления нет места для идеи об искупителе, спасающем грешников посредством собственных страданий. Нет в ней места и для теологии зла, которая определяет различные виды страданий. («Зло» – это всего лишь кульминационная точка плохого и шокирующего.) Вместо этого существует готовность причинять боль тем, кто предназначен к спасению посредством гуманизации. Дело не просто в том, что объект насилия иной, а в том, что именно секулярный миф использует элементы насилия, чтобы соединить оптимистический проект по глобальному расширению влияния с пессимистической оценкой мотивации человека, в которой инерция и неисправимость играют очень заметную роль. Если мир – это темное место, которое нуждается в искуплении, то искупитель как житель этого мира должен сначала искупить себя. Тот факт, что мирской проект искупления требует самоискупления, в итоге означает, что джунгли – это часть души садовника. По этой причине структура секулярного мифа отличается от структуры мифа, артикулирующего историю искупления через жертву Христа, и понимание этого различия может быть затруднено использованием термина «священный» в обоих случаях. Каждая из структур, о которых я здесь говорю, артикулирует различные типы субъективности, мобилизует различные типы социальной активности и прибегает к различным модальностям времени.
И при этом история христианского миссионерства смогла соединить эти проекты, сделать духовное обещание («Христос умер, чтобы всех нас спасти») частью политического проекта («Мир нужно изменить во имя Христа»), что и сделало модерный концепт искупления возможным.
Нечто вроде заключения: читая два современных текста о секулярном
В конце концов, удалось ли теперь нам показать антропологический смысл секулярного? Очень сложно ответить коротко. Вместо этого я хочу закончить двумя примерами, в которых определения секулярного связаны с понятиями «миф», «символ» и «аллегория»: из эссе Поля де Мана «Риторика темпоральности»120120
В кн.: de Man P. Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. Minneapolis, 1983.
[Закрыть] и из книги Вальтера Беньямина «Происхождение немецкой барочной драмы»121121
Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. М., 2002.
[Закрыть]. Вместе они показывают, что даже секулярные взгляды на секулярное неодинаковы.
Известное эссе де Мана в основном посвящено романтическому движению и способам его описания в модерной литературе. Де Ман пишет, что романтический образ обычно понимается как отношение между «я» и природой (или субъектом и объектом), однако такое понимание ошибочно. Вначале романтики заново открыли старую средневековую аллегорическую традицию, но это открытие случилось в мире, где религиозная вера начала рушиться, столкнувшись с открытиями современного знания. Это был, по словам Вебера, совершенно расколдованный мир. В средневековом мире аллегория была просто одной из ряда фигур, значения которых были закреплены учением церкви для интерпретации библейского текста и потому обладали определенным авторитетом. Поскольку церковные дисциплины уже не были непререкаемыми, а вера в священное начала дискредитироваться, де Ман показывает, что романтики стали снова использовать аллегорию в иных условиях. Благодаря общепринятому пониманию, что означающее следует за означаемым, аллегорию, по сути, ждала неизбежная мирская доля, где «я» и «не-я» никогда не могут совпадать. Созданные ранними романтиками образы, следовательно, сформировали пространство, в котором осуществляется вынужденное примирение с секулярным, мир, в котором нет скрытых глубин, нет естественной связи между эмоциями субъекта и объектом этих эмоций, нет полноты времени. Можно увидеть, что реальность не была сакральной, заколдованной. Тем не менее эта, как об этом пишет де Ман, тягостная ясность реального мира, присущая ранним романтикам (в отличие от мистифицированного сознания религиозных верующих), долго не просуществовала. Достаточно быстро повсеместно в европейской литературе и живописи XIX и XX веков возникла символическая (или мифическая) концепция языка, позволившая снова обрести бесконечное богатство смыслов. В очередной раз, как замечает де Ман, символическое воображение (или мифическая интерпретация) стало затуманивать реальность этого мира.
В исследовании, посвященном немецкой барочной драме, называемой Trauerspiel, Вальтер Беньямин описывает иную траекторию: она направляет читателя в сторону секулярного мира, который не просто открыт (посредством отчетливого знания реальности), но основание которого шатко и который весьма противоречиво проживается. Хотя у де Мана также присутствует указание на шаткость секулярной жизни, он сохраняет отношение к секулярному как к «реальности», которого нет у Беньямина.
Таким образом, когда Беньямин разделяет субъект и объект, он начинает не с противоречия между «я» и природой (как это делает де Ман), но с оппозиции между людьми. Именно туманность намерений, а не объектов порождает подозрение, желание и обман во время осуществления власти, что делает простой возврат к искренности невозможным. Барокко Беньямина – это социальный мир, для которого центром является аллегория, а не символ. Пьесы XVI и XVII веков, которые рассматривает Беньямин, – в основном немецкие, но также английские и испанские – отражают концепцию истории, которая больше не интегрирована в христианский миф об искуплении. В этом состоит один аспект их секулярности. Другой, менее очевидный аспект отражен в символическом характере смерти Сократа. Беньямин утверждает, что легенда о Сократе, совершающем самоубийство по решению суда, проводит секуляризацию классической трагедии, а следовательно, и мифа, поскольку подменяет обоснованной и назидательной смертью Сократа жертвенную смерть героя мифа. Хотя барочная драма не вполне показывает триумф просвещенного разума, она обозначает невозможность классической трагедии и мифа в современном мире. Она стремится учить зрителя. Весь ее сюжет обычно вращается вокруг личности монарха, одновременно и тирана, и мученика, фигуры, экстравагантные страсти которого иллюстрируют волюнтаризм власти. Ее темой является не трагическая судьба (от которой ничему научиться невозможно), а горе и скорбь, сопровождающие опасные предприятия социального оправдания и социальной власти.
В связи с социальной нестабильностью и политической жестокостью раннего Нового времени в барочной драме присутствует постоянное напряжение между идеалом реставрации и страхом катастрофы. Акцент на посюсторонность – следствие этого напряжения. Скептическая отчужденность от всех конкурирующих верований содействовала самосохранению. В резких фразах Беньямин замечает, что даже «религиозный человек барокко настолько привязан к миру потому, что чувствует, как его вместе с миром несет к водопаду»122122
Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. М., 2002. С. 52.
[Закрыть]. Таким образом, Беньямин представляет повышающуюся значимость светского мира в раннее Новое время, не говоря о триумфе «здравого смысла» и не следуя критериям, приемлемым для его светских читателей и при помощи которых они определяют, во что стоит верить. Он показывает правителей провинций в отчаянных попытках контролировать непокорный мир как аллегорических акторов.
Почему аллегория – это подходящий способ для понимания этого мира? Поскольку, отвечает Беньямин, в отличие от романтического символа (вневременного, унифицированного и одухотворенного), барочная аллегория подвержена временным изменениям, всегда фрагментирована и материальна. Аллегория хорошо выражает неконтролируемый, неопределяемый и все же материальный мир барочного княжеского двора с его интригами, предательствами и убийствами. Коротко говоря, этот мир является «секулярным» не потому, что научное знание заменило религиозную веру (это случилось, поскольку «реальное» стало наконец очевидным), а потому, что, напротив, его нужно проживать в неопределенности, без возможности зайти в гавань даже для верующего, это мир, в котором реальное и воображаемое отражают друг друга. В этом мире политика определенности совершенно невозможна.
Тот факт, что де Ман приписывает секулярную позицию ранним романтикам, а Беньямин относит ее к более раннему барочному периоду, совершенно не важно. Здесь важно подчеркнуть, что через объяснение барочной аллегории Беньямин приходит к другому пониманию «секулярного», нежели де Ман в своих размышлениях о романтическом символизме. Беньямин понимает аллегорию не просто как традиционное отношение между образом и его смыслом, а как «форму выражения». Цитируя источники Ренессанса, Беньямин утверждает, что эмблемы и иероглифы не просто показывают что-то, но еще и инструктируют. (Язык не является абстракцией, существующей вне «реальности», он воплощает и опосредует жизнь человека, жесты, вещи окружающего мира.) То, чему учат эмблемы, более авторитетно, нежели простые личные предпочтения. Вплетение в такую коммуникацию того, что сегодня многие разделят на сакральное и профанное, остается для Беньямина определяющим признаком аллегории.
Эту мысль можно выразить по крайней мере в двух предложениях. Прежде всего, существует способность («власть») знака к обозначению, или в аллегорической текстуальности: «Реквизиты означивания через это самое указание на иное всё обретают мощь, в силу которой они представляются несоизмеримыми с профанными вещами и могут подниматься на более высокий уровень, более того – освящаться». Реальность не является прозрачной даже для субъекта, говорит Беньямин. Она всегда нуждается в истолковании (приблизительном). Репрезентация (или означающее) и то, что оно представляет (означаемое), независимы. Каждое из них является незавершенным, и оба в равной степени реальны.
Кроме того, взаимозависимость религиозного и секулярного элементов в аллегорическом тексте подразумевает «борьбу теологической и художественной интенции в духе не столько примирения, сколько treuga dei123123
В Средние века инициированное и внедрявшееся церковью прекращение военных действий в определенные дни недели, связанные с событиями из жизни Иисуса Христа (с вечера среды до утра понедельника), в дни важнейших праздников включая их вечернями, а также в сочельник и пост. – Примеч. пер.
[Закрыть] противоборствующих мнений»124124
Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. М., 2002. С. 182, 185.
[Закрыть]. Иными словами, именно этот конфликт между двумя полюсами, утверждает Беньямин, создает пространство для аллегории и тем самым делает возможной определенную форму чувственности, называемую барочной.
И для де Мана, и для Беньямина секулярное явно противопоставлено мифическому. Для де Мана это означает исключение символизма, для Беньямина – включение аллегории. Мне кажется, что оба подхода приводят к различным последствиям как для исследования, так и для политики. Один призывает к разоблачению коллективной иллюзии, прекращению существования в «заколдованном мире»125125
Я не хочу, чтобы читатель подумал, что де Ман придерживался однозначного взгляда не это разоблачение. Совсем нет. В «Критике и кризисе» (Criticism and Crisis) он пишет: «Таким же образом, как поэтическая лирика берет начало в моментах умиротворенности, в отсутствии реальных эмоций и затем переходит к изобретению вымышленных эмоций, чтобы создать иллюзию воспоминания, вымысел также изобретает мнимые объекты, чтобы создать иллюзию реальности других. Но вымысел – это не миф, поскольку он и называет себя вымыслом, и знает себя в этом качестве. Это не демистификация, поскольку эта процедура проведена изначально. Когда современные критики считают, что они демистифицируют литературу, они сами ею демистифицируются; но поскольку это необходимо происходит только в форме кризиса, они не могут увидеть, что происходит в них самих» (de Man P. Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. Minneapolis, 1983. P. 18). Он также утверждает, что литература занимается присваиванием имен, но то, что она называет, – это не отсутствие, как полагают критики, пытающиеся показать ее идеологическую функцию, а «ничто». Тем не менее мне кажется, что в этой мысли де Мана присутствует желание пробудить эхо сакрального в «расколдованном» мире.
[Закрыть], предлагает обращать более пристальное внимание на изощренную игру между представлениями и тем, что они представляют, между действиями и порядками, которые стремятся их определять и обосновывать, между языковыми играми и формами жизни. Поскольку Беньямин пытается сохранить постоянное напряжение между моральным суждением и открытым исследованием, между убеждением просвещения и неопределенностью желания, он помогает увидеть двусмысленные связи между священным и современной политикой.
Глава 2
Размышления об агентности и боли
В предыдущей главе я говорил, что к секулярному лучше всего не подходить напрямую. По этой причине я показал некоторые варианты того, как понятие мифа использовалось в течение нескольких веков для придания формы аспектам знания, поведения и чувственности, которые мы называем секулярным. В этой главе я покажу секулярное через концепцию агентности126126
Английское слово «agency» можно перевести как «способность к совершению действия» или «воля к совершению действия». В переводе мы будем пользовать слово «агентность», чтобы не перегружать и без того непростой текст. – Примеч. пер.
[Закрыть], в особенности агентности, которая связана с болью. Почему агентность? Поскольку секулярное основывается на характерных концепциях действия и страсти. Почему боль? По двум причинам. Во-первых, поскольку, если понимать ее как страсть, боль связана с религиозной субъективностью и часто считается враждебной разуму; во-вторых, если понимать ее как страдание, она считается таким состоянием человека, которое секулярная агентность должна совершенно устранить.127127
Американский культуролог Лоуренс Гроссберг замечает, что «агентность – способность, что называется, делать историю – не присуща ни субъективности, ни субъектам. Людей от другого типа существ отличает совсем не онтологический принцип. Агентность определяется постановкой субъекта в определенном положении в конкретное место (области применения усилий) и пространство (область деятельности) на охраняемой социумом территориальности. Агентность – это потенциал, который раскрывается в определенном месте и по определенным векторам» (Grossberg L. Cultural Studies and/in New Worlds // Critical Studies in Mass Communication. 1993. Vol. 10. P. 15). Я согласен с Гроссбергом, что агентность и субъективность необходимо разделять аналитически, но не согласен, что агентность должна отождествляться с «созиданием истории» и «самосовершенствованием», как будет понятно из текста этой главы.
[Закрыть]. В последних частях этой главы я обращаюсь к примерам агентности из христианства, ислама и дохристианской истории, в которых боль является центральной характеристикой. Но я это делаю не столько для понимания обоснований, которые некоторые религиозные люди выдвигают, чтобы объяснить существование страданий, сколько для исследования различных аспектов секулярности. Если боль – это симптом страдающего тела, то она прежде всего является ограничителем способности тела действовать эффективно в «реальном мире». Она также является наиболее очевидным знаком посюстороннего мира, чувств, через которые проявляется его материальность, внешняя и внутренняя, и потому она представляет определенный способ оправдания секулярного. Ключевой момент, касающийся боли, заключается в том, что она делает возможной секулярную идею, что «созидание истории» и «самосовершенствование» могут постепенно заменить боль удовольствием или по меньшей мере поисками того, что приходится по душе.
Антропологической литературе по предмету, как мне кажется, не хватает должного внимания к ограниченности человеческого тела как конкретного приложения агентности, но она наполнена странными переживаниями того, какими способами актор соприкасался с болью и страданиями. Когда пользуются словом «тело», оно в большей части случаев не является синонимом индивида, желание и способности которого к действию принимаются как неоспоримые128128
Относящийся к делу сборник, который заслуживает более серьезного критического рассмотрения: Other Intentions: Cultural Contexts and the Attribution of Inner States / Ed. by Lawrence Rosen. Santa Fe, 1995.
[Закрыть]. С теми, кто испытал влияние Фрейда, дело обстоит совершенно по-другому. На самом деле, хотя утверждение Фрейда породило всестороннюю, универсально применимую и справедливо оспариваемую многими теорию описываемой проблемы, его интерес к нашему неполному знанию и ограниченному владению телом и сознанием остается в высшей степени поучительным. Так, в отличном исследовании, посвященном теориям эмоций раннего Нового времени, Сьюзан Джеймс описывает, каким образом «желание» стало восприниматься как главная сила, управляющая всеми действиями. Она замечает, что «как и в большинстве случаев с такого типа реорганизациями, за это также пришлось заплатить. С одной стороны, крайне общая концепция желания прокладывает путь для общепринятых взглядов современной эпохи, полагающей, что верования и желания предшествуют действию. С другой стороны, объяснения действия, основанные на точке зрения, что страсти подвигают нас к действию, только если они являются своего рода желаниями или смешаны с желаниями, часто бывают относительно пустыми. В целом желания не принимают таких форм, которые могли бы сделать их объяснимыми. Как только мы начинаем эти формы расширять, мы снова вступаем в запутанную и иногда обескураживающую сферу страстей». По мнению Джеймс, это противоречие между «желанием» как действием и как страстью в наше время рассматривали только Фрейд и его последователи129129
Passion and Action: The Emotions in Seventeenth-Century Philosophy. Oxford, 1997. P. 292.
[Закрыть]. Однако необходимо добавить, что, хотя фрейдизму присуще исключительно глубокое понимание внутренней динамики страсти (как медиаторов между сознанием и телом), он выдвигает сомнительное обещание, что страсти можно в конце концов усмирить при помощи разума посредством систематического наблюдения и интерпретации, тем самым давая приоритет в организации современного, секулярного субъекта рациональному.
За последние 10 лет было опубликовано множество работ, посвященных центральному месту эмоций в культурной жизни, что определенно является поддержкой нашего понимания агентности. Тем не менее мой интерес к страданию как страсти немного отличается от того, что пишут в этой литературе. Прежде всего, меня интересует, может ли боль быть не просто причиной действия, но типом действия.
Между современными исследователями не существует общего мнения, что представляют собой эмоции130130
Полезная дискуссия различных теорий изложена в книге специалиста по нейронауке Джозефа Леду: Le Doux J. The Emotional Brain. New York, 1996. Я благодарен Вильяму Конноли за указание на эту книгу.
[Закрыть]. Некоторые настаивают, что это импульсы, которые целиком возникают в части тела, называемой мозгом, другие считают, что они интерсубъективны и локализованы в социальном пространстве, которое населяют индивиды. Иногда все эмоции приравниваются к желаниям, иногда желание считается эмоцией в ряду других. Тем не менее многие теории, в отличие от фрейдовской, отмечают бессознательный характер эмоций. При этом все, независимо от того, есть ли у автора теория эмоций, признают, что некоторые эмоции («страсти») способны и фактически разрушают или маскируют намерения131131
Р. Коллингвуд считал, что эмоции по сути не противоположны разуму, поскольку весь процесс мышления и, следовательно, любое осмысленное действие «заряжено» эмоциями. См.: Collingwood R. G. The Principles of Art. Oxford, 1938. В особенности см. главу о языке, которая предшествует книге 3 («Теория искусства»).
[Закрыть]. Даже в таких условиях сознательное намерение называется главным в концепции агентности в большинстве антропологических работ132132
Американский культурантрополог Шерри Ортнер жалуется на «отрицание интенционального объекта и агентности в современных работах по социальным наукам (см.: Ortner S. Making Gender: The Politics and Erotics of Culture. Boston, 1996. P. 8). Мне же кажется, что разговоры об агентности очень популярны в антропологии, а «интенциональный субъект» неизменно является их частью. Личный и несистемный стиль этнографических работ, популярный сегодня, отражает увлеченность интенциональностью, которая не всегда четко продумана.
[Закрыть].
Даже в развивающейся области медицинской антропологии, благодаря инновационной работе, в которой показана возможность рассматривать здоровье и болезнь как явления культуры, стандартное определение агентности принимается как само собой разумеющееся. Часто представляется, что пораженное болезнью тело не отличается от здорового в том смысле, что агентность в каждом случае проявляется как сопротивление силе133133
Эту ситуацию можно проиллюстрировать ссылкой на полезный обзор посвященной телу работы канадского медицинского антрополога Маргарет Лок. Она замечает, что «телесное разнообразие до последнего времени интерпретировалось как маргинальное, патологическое или слишком экзотическое, или же его обходили молчанием, не замечали и не фиксировали. Помещенная в исторический контекст обоснованная этнография, получившая стимул благодаря вниманию, которое впервые уделялось повседневной жизни женщин, детей и других «периферийных» групп, пришла к переформулировке теории. Тело, насыщенное социальным смыслом, теперь стало организованным исторически и стало не только означающим принадлежности и порядка [как в старых антропологических работах], но и деятельным форумом для выражения разногласий и потерь, таким образом приписывая ему индивидуальную агентность» (Lock M. Cultivating the Body: Anthropology and Epistemologies of Bodily Practice and Knowledge // Annual Review of Anthropology. 1993. Vol. 22. P. 141. Курсив автора; синтаксический пробел в последней части присутствует в оригинале). Как угнетенный рабочий класс, пораженное болезнью тело рассматривается как инаковое и по этой причине как актор (agent), старающийся отстаивать свои интересы. Одна и та же психологическая модель автономии таким образом лежит в основе обоих случаев. Проблема, тем не менее, в следующем: чтобы считывать поведение больного тела как «выражение инаковости», нам нужны иные критерии интерпретации, чем те, которые мы привлекаем, говоря об инаковости рабочего класса.
[Закрыть].
Такие взгляды мне кажутся проблематичными, поскольку они приписывают способность к индивидуальной деятельности больному телу, интерпретируя все его состояния и движения сразу как «инаковые». Когда антропологи говорят об обращении к субъективному опыту болезни, они часто ссылаются не только на слова пациента, но и на его или ее поведение, как если бы оно было формой дискурса. Толковать субъективные реакции, которые понятны в такой перспективе, мне кажется неудовлетворительным, пока нам остается неясно, как именно бихевиористский «текст» необходимо декодировать, когда «инаковость» или «сопротивляемость» принимается как самоочевидная. Тем не менее даже для Фрейда «сопротивляемость» – это теоретически определяемая концепция, которая занимает определенное место в аналитической работе. Страдания пораженного болезнью тела не всегда должны читаться как сопротивление силе социального воздействия других, они иногда являются телесным наказанием, направленным на себя, за желание того, чего желать нельзя.
Использование понятия «сопротивляемость» в антропологии по праву критиковалось за недооценку силы и разнообразия властных структур134134
См., например: Abu-Lughod L. The Romance of Resistance // American Ethnologist. 1990. Vol. 17. № 1.
[Закрыть]. То, что называется «романтикой сопротивления», меня беспокоит в меньшей степени, чем более общая категория «агентности», которая предполагается романтикой. Безусловно, в повседневном общении термин «сопротивление» появляется постоянно, а факт этого появления необходимо учитывать при оценке результатов. Меня заботит, что само по себе наше увлечение «сопротивлением» основывается на более значимых идеях. Тенденция романтизировать сопротивление происходит от метафизического вопроса, ответом на который и является описываемое понимание «агентности»: получив неотъемлемую свободу или естественный суверенитет индивида и обретя собственные желания и интересы135135
Концепция «интереса» (включая «личную заинтересованность), к которой часто обращаются теоретики агентности, – это пример еще одного термина из психологии, который имеет уникальную историю и который презентует себя в современности как универсальный, естественный и обязательный (см.: Hirschman A. The Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism before Its Triumph. Princeton, 1977). Сложные генеалогии, через которые мы обрели терминологию, чтобы иметь возможность говорить об агентности и субъективности, а также меняющиеся психологические теории, связанные с этими генеалогиями, должны предупредить нас об опасностях применения этих теорий без предварительного обдумывания и применения к любой или ко всем социальным ситуациям.
[Закрыть], что именно должен делать человек, чтобы осознать собственную свободу, наделить себя правами и выбирать удовольствия? Посылка здесь в том, что сила – и боль – является внешней и репрессивной по отношению к актору, что она «подчиняет» его или ее и что при этом актор как «активный субъект» обладает как желанием противостоять силе, так и ответственностью стать более сильным, чтобы иметь возможность преодолеть состояние лишения силы – страдания136136
Хотя авторы, касаясь темы сопротивления, часто вспоминают Фуко, сам он вполне характерно пользовался этим понятием. Например: «Однако же всегда в общественном теле, в классах, в группах, в самих индивидах есть нечто такое, что некоторым образом ускользает от отношений власти, что-то вовсе не являющееся более или менее податливым или непослушным первичным материалом, а представляющее собой центробежное движение, противоположную силу, просвет. Чернь как таковая, судя по всему, не существует, однако существует что-то от черни. Потому что чернь есть в телах и в душах, есть чернь в индивидах, в пролетариате, что-то от нее есть и в буржуазии, однако же в расширительном смысле имеются самые разные ее формы, энергии, несводимости. Эта часть черни – в меньшей степени внешнее по сравнению с отношениями власти, нежели их предел, их изнанка, их рикошет; это то, что на всякое наступление власти откликается движением, направленным на то, чтобы от нее освободиться» (Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М., 2002. C. 307–308). Такое понимание сопротивления как «ограничения» силы напоминает понятие Клаузевица «трение» (см.: Клаузевиц К. О войне. М., 1994. С. 105–108).
[Закрыть]. Я выступаю против такого предположения. Однако в той степени, в которой противостояние силе перестает быть только индивидуальным, оно также определяет исторический проект, целью которого является продвижение триумфа автономии индивида. Факт, что «сопротивление» – это термин, который использовался теоретиками культуры в целом ряде несопоставимых случаев (бессознательное поведение пациентов, студенческие протесты, общее движение за общественные реформы, защитные стратегии профсоюзов, вооруженная борьба против оккупационных сил и т. д.), показывает, что тот или иной тип глубокой мотивации можно приписать ставшему основополагающим субъекту-актору.
Теоретики культуры иногда одновременно утверждали и отвергали существование такой сущности. Поэтому редакторы популярной хрестоматии о современной социальной теории пишут во введении: «С теоретической точки зрения нам нужен субъект, который будет одновременно культурно и исторически сконструирован, но с точки зрения политической перспективы нам бы хотелось, чтобы этот субъект был способен действовать в некотором смысле „автономно“, не исходя из конформистского следования доминирующим культурным нормам и правилам или в рамках шаблонов, которые предписывает власть. Тем не менее нельзя сказать, что этот автономный актор черпает силу из некоего скрытого колодца врожденной „воли“ или сознания, которые каким-то образом избежали формирующего влияния культуры. На самом деле такой актор не только возможен, но „нормален“, по той простой причине, что ни сама „культура“, ни режимы власти, над которыми довлеют логика и опыт культуры, не могут быть целиком согласованными или полностью детерминирующими»137137
Culture/Power/History / Ed. by Nicholas B. Dirks, Geoff Eley, Sherry B. Ortner. Princeton, 1994. P. 18.
[Закрыть]. Поскольку авторы мыслят прогрессивно (читай: являются конструктивистами), эти социальные теоретики выступают против любых разговоров о «врожденности». Они также хотят показать, что борьба (сопротивление) и инаковость (девиация) являются нормальными для человеческого поведения. При этом «нормальный» – это печально известный двусмысленный термин, который включает и дескриптивный статистический смысл, где существует нормальное распределение, и прескриптивный смысл, для которого быть нормальным означает быть здоровым, то есть в противоположность болезненному138138
См.: Hacking I. The Taming of Chance. Cambridge, 1990. Особенно главу 19.
[Закрыть]. Скользя между этими двумя смыслами, редакторы могут утверждать, что в акторе нет ничего, «что избежало формирования и организации, проводимых культурой», и при этом настаивать, что «культура» не может быть «полностью детерминирующей».
Конечно, привлекает внимание, как антропологи пишут о теле, эмоциях и взаимодействии с миром через чувства. Мой интерес состоит в следующем: поскольку влиять на изменения, происходящие в человеческом теле, само тело не может, поскольку поведение зависит от рутинной работы бессознательного и сформированных привычек, поскольку решение вопроса о том, управляют ли эмоции действиями, не является однозначным, поскольку хронические заболевания и возраст разрушают тело и сознание, мы не должны предполагать, что каждое совершённое действие – это действие компетентного актора с чистыми намерениями. Мы также не должны предполагать, что надлежащее понимание агентности требует помещения ее в рамки секулярной истории свободы от любого принудительного контроля, истории, где может осуществиться что угодно, а удовольствия всегда переживаются с чувством невинности, то есть в рамки, в сфере действия которых нас подвигают считать обычную жизнь как искаженную и незавершенную.
Парадокс здесь в том, что «я», которое освобождается от внешнего контроля, уже должно быть подчинено освобождающемуся «я», и это должно происходить свободно, осознанно и через контроль собственных желаний. Сьюзан Вольф раскрывает эту метафизическую головоломку и неспособность современных систем философии ее решить. Вместо навязчивых попыток определить свободу субъекта как способность создавать собственное я, Вольф предлагает альтернативу, обращаясь к обыденному понятию «быть нормальным». Она пишет: «Желание быть нормальным, таким образом, – это не желание дополнительной формы контроля, это скорее желание, чтобы „я“ человека было связано определенным образом с миром, можно сказать, что это желание, чтобы „я“ контролировалось определенным образом миром, а не другими людьми»139139
Wolf S. Sanity and the Metaphysics of Responsibility // Responsibility, Character, and the Emotions / Ed. by in F. Schoeman. Cambridge, 1987. Р. 55.
[Закрыть]. Такое понимание нормальности предполагает практическое знание мира и практическое знание миром самого «я», миром накапливающихся возможностей, а не постоянной определенности. Оно позволяет нам мыслить моральную агентность как привычное взаимодействие человека с миром, в котором он живет, – таким образом, один из видов морального сумасшествия возникает как раз, когда боль, с которой люди сталкиваются в мире, больше не является объектом практического знания.
Размышление об агентности
Если предполагать, что агентность не нужно концептуализировать в терминах наделения себя властью и сопротивления, а также в терминах утопической истории, возникает вопрос: как же именно ее нужно понимать? Можно начать с поиска того, как используется термин (или эквивалентные термины) в различных исторических контекстах. Это покажет не просто, что агентность не является естественной категорией, но и то, что преемственность использования этого концепта (в различных грамматиках) открыла или закрыла множество возможностей для действования и существования. Секулярное с его акцентом на наделении властью и делании истории является лишь одной из таких возможностей. Я не имею возможности здесь предпринять исследование по истории концепции агентности, но начну с кратких комментариев о современном использовании термина.
Агентность сегодня используется для определения деяния, существующего в рамках бесконечной сети каузальности, приписывая актору восприимчивость к власти. С точки зрения парадигмы это означает принуждение человека к тому, чтобы быть подотчетным, отвечать на процессе на вопрос судьи, почему что-то было сделано или что-то сделано не было. В этом смысле агентность построена на идее вины и боли. Мир очевидных случайностей превращается в мир сущностей, приписывающий личности моральную/правовую ответственность, на основании которой определяются вина и невиновность (и, следовательно, наказание или оправдание). Каким образом такая модель агентности стала парадигмальной? В конце концов, человек делает, мыслит и чувствует множество несопоставимых вещей, что именно сводит их воедино? По меньшей мере со времени Джона Локка понятие «личность» было судебным термином, обозначавшим единичного субъекта с целостным сознанием и единичным телом140140
Локк пишет: «Личность – это юридический термин, касающийся действий и их ценности и относящийся поэтому только к разумным существам, знающим, что такое закон, счастье и несчастье. Эта личность простирает себя за пределы настоящего существования, к прошлому только силой сознания; вследствие этого она беспокоится о прошлых действиях, становится ответственной за них, признавая за свои и приписывая их себе совершенно на том же самом основании и по той же причине, что и настоящие действия» (Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 1. Опыт о человеческом разумении. М., 1985. С. 400).
[Закрыть]. Развитие права собственности в рождающемся капитализме было важным для этой концепции. В равной степени важным был способ, которому приписывалась сущность, что помогло человеку как субъекту стать предметом социальной дисциплины.
Современность обычно мыслит ответственность как нечто, основывающееся на связях между деянием и законом, который определяет наказание, следующее за осуществлением или неосуществлением. Намерение (в смысле существования субъективной причины) может не иметь ничего общего с существом вопроса, как в случае если кто-то получает травму, находясь на собственности другого в результате несчастного случая. Акторы не обязательно должны совпадать с индивидуальным биологическим телом и сознанием, которое, считается, существует в нем. Корпорации и подвержены влиянию закона, и обладают способностью решать практические задачи. При этом корпоративные проекты отличаются от намерений индивидов, которые работают на корпорацию и действуют от ее имени. Поскольку «корпорации не умирают»141141
«Корпорация никогда не умирает. Смерть отдельных членов не производит никакого изменения в совокупном существовании коллективного тела и ни в каком случае не оказывает влияния на его юридические свойства, его правоспособность и обязательства» (Мэйн Г. Древнее право. Его связь с древней историей общества и его отношение к новейшим идеям. М., 2018. С. 147).
[Закрыть], их можно назвать акторами, но нельзя сказать, что они обладают субъективностью.
«Агентность» также может означать «представительство». В этом случае действия актора воспринимаются как действия руководителя, которого актор представляет. Концепт представительства, который является основным для этого значения «агентности», долгое время обсуждался в западной политической теории. Являются ли выбранные представители ответственными перед собой (сами по себе акторами) или перед избирателями (как акторы от их лица)? Чьи желания они должны представлять в представительском собрании? Единого ответа здесь нет. Идея представительства, лежащая в основе агентности, укоренена в парадоксе: кто или что представляется, одновременно отсутствует и присутствует (пред-ставляется (re-presented))142142
Pitkin H. The Concept of Representation. Berkeley, 1967.
[Закрыть]. Театральное представление, в котором тело актера представляет того, кого в данный момент здесь нет, является другим примером того же парадокса.
Даже если здесь есть отсылка к тому, что осталось несделанным, хотя сделано быть должно, ответственность индивида отсылает нас к действию в противоположность чувству. Эта идея стоит за понятием в праве, что «преступления в состоянии аффекта» менее преступны, чем предумышленные преступления, поскольку в первых способность актора мыслить (и, следовательно, способность к моральным суждениям в кантианском смысле) уменьшается из‐за вторжения «внешней силы». Как и действие безумца, преступления в состоянии аффекта не рассматриваются как результат собственных намерений актора. Теперь, когда эмоции в целом рассматриваются как часть внутренней экономики личности, также укрепляется и понятие, что агентность означает самопринадлежность индивида, для которого внешняя сила всегда является потенциальной угрозой.
В агентности также есть и театральный контекст. Здесь профессиональный актер пытается отдалиться от собственного я и физически прожить в мире своего персонажа: перенять жесты, эмоции и желания. Агентность актера состоит не в конкретных действиях по исполнению роли, но в способности лишить власти собственное я ради другого143143
Актриса Алла Назимова говорит об этом так: «Сам актер должен быть созданием из глины, пластилина, которому можно придать другую форму, другую структуру. Актер не должен себя рассматривать в образе. Я изучаю женщину. Я смотрю на нее через увеличительное стекло и спрашиваю себя: „Она права? Она логична? Честна ли она с собой? Смогу ли я ее сыграть? Смогу ли я переделать себя в нее?“ Я ничто. Я никто. Я должна перестроить всю себя в ту женщину, которую мне нужно сыграть: говорить ее голосом, смеяться ее смехом, двигаться ее движениями. Но если вы можете видеть в человеке живое существо, отдельное от вас, вы можете работать объективно, чтобы подготовить себя к роли» (The Actor as an Instrument // Actors on Acting / Ed. by Toby Cole and Helen K. Chinoy. New York, 1949. Р. 512). Начинаясь как внешне простое утверждение, что актерская роль должна быть простым инструментом, это рассуждение быстро превращается в требование, что актер должен организовать и уравновесить для себя характер, в отношении которого будет выстраиваться действие.
[Закрыть]. Действия актера не полностью собственные его действия. Они в то же время являются действиями драматурга, написавшего пьесу, и режиссера, который является посредником между текстом и действием. Они также принадлежат к традиции актерской игры, в которой актер был обучен. Немаловажно, что актер только отчасти является субъектом; его действия не являются собственными в полном смысле слова. Из того, что актер не является автором истории, не следует, что он – пассивный объект.








