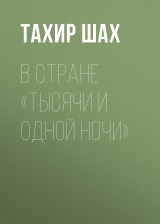
Текст книги "В стране «Тысячи и одной ночи»"
Автор книги: Тахир Шах
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Тахир Шах
В стране «Тысячи и одной ночи»

Знакомство с королевством Марокко: истории, сказки, притчи и те, кто их рассказывает
Книга посвящается моей тете Амине Шах, непревзойденной сказительнице
Однажды правитель страны призвал Насреддина и приказал ему отыскать наиглупейшего человека и привести его во дворец как придворного шута. Тот заезжал в каждый городок, в каждую деревню, но не мог найти того, кто оказался бы достаточно глуп для такой должности. В конце концов, он вернулся ни с чем.
– Ты отыскал самого большого глупца в стране? – спросил у него правитель.
– Да, – ответил Насреддин, – но он слишком занят поисками глупца на должность придворного шута.
Глава первая
Будь в миру, а не вне мира.
Арабская пословица
В камере пыток все было готово: веревки для подвешивания вниз головой, ряды заостренных кольев, нюхательная соль, использованные шприцы с темной жидкостью, потертые кожаные ремни, крестовины, хомуты, клещи, орудия, ломающие кости… На полу в центре был устроен сток, на стенах и везде – потеки крови. Мне завязывали глаза потуже, раздевали догола и заковывали в кандалы, заводя руки далеко за спину. Вот уже неделю тянулись нескончаемые ночные допросы: с какой целью я приехал в Пакистан?
Что еще я мог сказать кроме правды: в Пакистане я проездом из Индии в Афганистан, хочу снять документальный фильм об утраченных сокровищах моголов. Меня со съемочной группой схватили прямо посреди жилого квартала, увезли в неизвестном направлении и бросили в тюрьму, которую сами тюремщики называли «Хлевом».
Я пытался убедить военного следователя: никаких преступлений мы не совершали. Но военная полиция, обнаружив в пограничной провинции британского подданного с мусульманским именем, да еще и въехавшего в страну из враждебной Индии, среагировала моментально.
Каждую ночь мне завязывали глаза и допрашивали под несмолкаемые вопли заключенных – от этих звуков в тюрьме никуда не денешься. Снова и снова я отвечал на одни и те же вопросы: какова истинная цель твоей поездки? что тебе известно об афганских базах аль-Каиды? И даже: почему у тебя индийская жена? Прошла неделя, и мне перестали завязывать глаза, прежде чем отвести в камеру пыток. Когда я немного привык к слепящему свету ламп, то впервые огляделся и увидел, что это была за комната.
Допросы велись исключительно ночью, хотя в «Хлеву» день от ночи ничем не отличался. Высоко под потолком моей камеры круглые сутки горела люминесцентная лампа. Я сидел и ждал, когда звякнут ключи и раздадутся гулкие удары шагов по каменному полу. Это означало, что за мной снова пришли. Я собирался с духом и произносил молитву, стараясь выкинуть мысли из головы. Ясный ум – залог спокойствия.
Ключи снова звякали, решетка приоткрывалась – ровно настолько, чтобы просунуть в щель руку и схватить меня.
Сначала – повязка на глаза, затем – кандалы.
Попробуйте выключить свет, и вы поймете, как обостряются при этом остальные чувства. Я слышал сдавленные крики заключенного, которого пытали в камере напротив, чувствовал на языке вкус пыли с улицы. Большую часть времени я сидел в своей камере, скрючившись, и привыкал к одиночеству. Оказавшись в чужой стране в камере одиночного заключения, будучи на волосок от смерти – а приговор могут привести в исполнение в любую минуту, – вы стараетесь забыть, где находитесь.
Сначала я читал надписи на стенах. Я перечитывал их снова и снова, пока не почувствовал, что схожу с ума. Ни ручек, ни бумаги заключенным не полагалось, так что моим предшественникам приходилось проявлять изобретательность. Они царапали фразы собственной кровью и испражнениями. Поначалу я силился осмыслить эти проявления чужого безумия. Потом опустился на бетонный пол, стараясь дышать как можно медленнее, чтобы хоть как-то успокоиться, хоть мне и было неописуемо страшно.
Настоящий ужас разрушает. Вы обливаетесь потом, да так, что кожа сморщивается, как после долгого пребывания в воде. Спустя некоторое время к запаху пота примешивается запах кошачьей мочи – не что иное, как адреналин. Как бы тщательно вы не мылись, его не избыть. Вы задыхаетесь от зловония, мышцы деревенеют от скопившейся в них молочной кислоты, вы впадаете в отчаяние, теряя способность соображать.
Оставалось лишь одно средство сохранить здравый ум – думать о той жизни, которой меня лишили, представлять, как я снова ей живу… мечтать о том, что еще совсем недавно было реальностью.
Белые стены камеры стали для меня чем-то вроде киноэкрана – на них я видел рай, куда так стремился вернуться. Любовь к дому и всему, что с ним связано, отмыла стены добела, очистила их от кровавых надписей и вызванного ужасом смрада. Чем страшнее мне становилось, тем упорнее я возвращался мыслями к ставшему мне родным марокканскому дому – Дар-Калифа, дворцу калифа.
Там – дворики с журчащими фонтанами и певчими птицами, сады, где маленькие Тимур и Ариана, мои сын и дочь, играли с черепахами и запускали воздушных змеев. Там – яркое летнее солнце, фруктовые деревья, голос жены Рашаны, зовущей детей обедать. Там – бабочки лимонного цвета, ярко-красные цветы гибискуса, полыхающие бугенвиллеи, шмели, с гудением летающие среди жимолости.
Часами я смотрел на голые стены и видел на них, как на экране, свои воспоминания. Цвета были невероятно яркими, мне виделись мельчайшие подробности той нашей жизни на окраине Касабланки. Сейчас, когда на чаше весов лежало мое будущее, мне оставалось лишь молиться. Молиться о возвращении к той жизни, к незатейливой мелодии повседневности, иногда прерываемой сущими пустяками.
Проводя день за днем в одиночестве, я скитался по лабиринту воспоминаний. Я задался целью припомнить все, до мельчайших подробностей.
Воспоминания начались с детства, с того момента, когда я впервые ступил на марокканскую землю.
Было это в начале семидесятых. Наш паром отчалил от берегов Испании и пересек Гибралтарский пролив. Приютившийся в северо-западной оконечности Африки Танжер привлекал самую разношерстную публику: битников и хиппи в одеждах немыслимых расцветок, торговцев наркотиками и уклонистов от армии, писателей, поэтов, бродяг и философов. Вся эта людская масса перемешалась, как варево в котле. Мне, пятилетнему ребенку, не дано было понять тот мир, но я отчетливо запомнил его. В том мире витали ароматы цветущих апельсиновых деревьев, согретых таким ярким солнцем, что приходилось щуриться.
Мой отец родился в Афганистане, но он не мог свозить нас с сестрой к себе на родину – в стране было слишком опасно. Зато мы часто ездили с ним в Марокко. Думаю, отец мыслил тогда как любой восточный человек: у обеих стран много общего, говорил он: потрясающие виды, горы и пустыни, древний племенной уклад жизни, приверженность строгой морали и соблюдение кодекса чести. И все это на фоне самобытных культурных традиций.
Ожившие воспоминания о каждом мгновении тех первых путешествий одно за другим появлялись на выбеленной стене одиночества. Я поймал себя на мысли, что думаю о рассказах, услышанных от отца во время наших поездок по пустыне – истории становились связующим звеном между реальностью и вымыслом.
Меня по-прежнему водили на допросы, я слышал звяканье ключей, ел бобовую похлебку – миску просовывали под решетку, а по ночам мне снились кошмары. Единственной отдушиной были утренние и вечерние сеансы, когда я неотрывно глядел на стены и видел сменяющие друг друга картины. Со временем я обнаружил, что вспоминаю события, о которых уже почти забыл, причем, в таких подробностях, о которых и не подозревал. Я вспомнил, как пошел в первый класс, вспомнил, как впервые упал с дерева, как однажды едва не спалил дотла родительский дом.
Но лучше всего я помнил отцовы сказки. Вот он разглаживает свои темные усы, спускаясь к подбородку, и я слышу слова, которые переносят меня в другой мир: «Давным-давно…».
Порой меня захлестывали волны страха. Я почти лишался чувств, цепенел от неистовых, нечеловеческих воплей заключенных под пытками. Так же, как птица в пасти хищника готовится встретить свой конец, я гнал от себя все мысли, стремясь к тишине. Она наступала только тогда, когда неопределенность и страх нарастали, достигая пика. С приходом тишины я начинал слышать голос. Он приносил облегчение, успокаивал, сострадал, он звучал во мне, но шел не из головы, а от сердца.
Тихий голос шел со мной в мою спальню, что осталась далеко, в Доме Калифа. Окна были распахнуты, занавески колыхались, из эвкалиптовой рощи неподалеку доносился шелест листвы.
Звук волшебным образом заполнял пустоту между жизнью в заключении и дальними далями, доступными свободному полету мысли. Вслушиваясь в отголоски волн, шелест жесткой листвы эвкалиптов, я шел через весь дом к террасе. Я подставлял лицо свежему океанскому бризу, и вдруг раздавался какой-то неясный шум – на лужайке перед домом появлялся прямоугольный ковер. Я спускался с террасы, шел по траве и ступал на ковер, ощущая босыми ногами шелковые узелки плетения. Не успевал я опомниться, как ковер уже взмывал в воздух. Он беззвучно пересекал Атлантику: подо мной вздымались и опадали ледяные волны. Ковер летел все быстрее и быстрее, все выше и выше – я видел под собой дугу земли. Мы пролетали над пустынями и горами, океанами и бесчисленными морями. Края ковра поднялись, защищая меня от встречного ветра. После долгих часов полета впереди показались очертания большого города. Город спал, окутанный чернильной тьмой, его минареты устремлялись высоко в небо, а сводчатые крыши наводили на мысли о хранящихся в домах сокровищах. Ковер накренился влево и снизился, зависнув над огромной центральной площадью. Площадь была полна народу. Языки пламени от десяти тысяч факелов словно лизали темноту ночи.
Множество воинов в позолоченных доспехах несли караул. Напротив них были привязаны кони в парчовых чепраках, слоны под попонами и с паланкинами на спинах, тут же был устроен загон для тигров и установлена сверкающая драгоценными камнями карусель. На огромных вертелах жарились бычьи туши, в котлах варилась баранина на молоке, на блюдах лежали куски тушеной верблюжатины, а на громадных подносах высились горы риса и рыбы.
На праздник стеклись толпы людей; их развлекали фокусники и акробаты, тысячи музыкантов услаждали их слух игрой на флейтах. Здесь же неподалеку на помосте возвышался трон из чистого золота, устланный редчайшими самаркандскими коврами. На троне восседал тучный правитель в шелковых одеяниях кремового цвета, в массивном тюрбане, украшенном спереди павлиньим пером.
У ног правителя сидела хрупкая молодая девушка с кожей цвета спелого персика и изумрудно-зелеными глазами. Лицо ее отчасти было скрыто покрывалом. Не знаю, как так получилось, но мне передалась ее печаль. Она даже не притронулась к плову в поставленной перед ней пиале. Девушка сидела с опущенной головой, в глазах у нее читалась невыразимая тоска.
Пока волшебный ковер висел над площадью, я успел все разглядеть. Потом ковер заложил вираж вправо, взмыл и полетел обратно – над горами и пустынями, океанами и морями, а в конце путешествия мягко опустился на лужайку возле дома.
В моем сердце с гулом перекатывались волны атлантического прибоя, ветер шелестел листвой эвкалиптов… А в голове звякала связка ключей, бухали по каменному полу коридора сапоги с окованными железом носами.
Глава вторая
Важно, что сказано, а не кем сказано.
Марокканская пословица
Когда мы были маленькими, и отец привозил нас в Марокко, он любил говорить: чтобы понять страну, мало просто смотреть и слушать, надо проникнуться ее духом. Он велел нам затыкать ноздри ватой, закрывать уши и зажмуриваться. Только так, по его словам, придет понимание. Нас, детей, это лишь сбивало с толку. Мы задавали тысячи вопросов, и с каждым новым ответом вопросов становилось все больше и больше.
Как-то вечером, уже в сумерках, все наше семейство, привычно теснившееся в стареньком «форде» с большим багажным отсеком, пластмассовыми чемоданами на крыше – вел машину, как всегда, садовник – прибыло в Фес. Тогда я впервые увидел неприступные стены мрачной средневековой крепости. Мимо проходили люди в джеллабах,33
Джеллаба – традиционный, обычно шерстяной, балахон с широкими рукавами и капюшоном, надеваемый через голову.
[Закрыть] проезжали груженые бараньими тушами повозки, а откуда-то издалека доносились пронзительные звуки музыки – там праздновали свадьбу.
Мы гурьбой высыпали из машины.
В сгущающихся сумерках отец указал на группку мужчин – те сидели на земле перед огромными городскими воротами.
– Наверняка играют в азартные игры, – сказала мать.
– Нет, – ответил отец. – Это хранители древней мудрости.
Я спросил: как это?
– Они рассказывают притчи, – ответил отец.
Отец был убежден: истинный дух страны познается лишь через сказания и притчи ее народа. Частенько он подзывал нас с сестрами и принимался рассказывать, а мы как зачарованные слушали сказки из «Альф Лайла ва Лайла» – «Тысячи и одной ночи». Отец говорил: притчи не просто развлекают ум, но и роняют в душу зерно мудрости. Он не уставал повторять: вслушивайтесь в притчи, они – учебник жизни.
Отцу было очень важным, чтобы притчи и искусство рассказывать их передавалось из поколения в поколение, как эстафетная палочка. Он постоянно подчеркивал: многие притчи, что он нам рассказывал, передаются в нашем роду из поколения в поколение, и мы уже не мыслим себя без них.
Порой отец заговаривал о долге, о тяжком грузе ответственности на моих плечах, и мне становилось невесело. Я любил сказки ничуть не меньше, чем мои школьные друзья, но для меня они значили больше. С малолетства, – я и ходить-то еще толком не умел, – мне твердили: притчи заключают в себе волшебство, в них кроется мудрость, и однажды мне предстоит передать ее своим детям. Вообще-то я никогда всерьез не задумывался над тем, что когда-нибудь наступит время передавать эстафету потомкам.
Но однажды оно наступило.
Как-то вечером я укладывал Ариану спать. Она обвила ручонками мне шею и прошептала на ухо:
– Бабб,44
Папа – обращение, принятое в некоторых мусульманских странах.
[Закрыть] расскажи мне сказку.
Я так и обомлел. Ведь тридцать лет назад эти же самые слова говорил и я!
Мне казалось, я не готов учить чему-то через притчи. То немногое, что я знал, Ариана и Тимур слушали с интересом, но на все мои попытки растолковать скрытый смысл тут же заявляли: они ничего не понимают, и вообще им скучно. Я стал вспоминать, как рассказывал притчи отец, как передавал эстафетную палочку он. И тут же вспомнил: мы с сестрами садимся рядком на бирюзовый диван в его кабинете. А он садится напротив – в огромное кожаное кресло, и чуть подается вперед, сводя кончики пальцев. За его спиной огромные стеклянные двери, из них льется яркий солнечный свет.
– Забудьте о ваших играх, – говорил он, – закройте глаза и слушайте.
Поначалу мы вертелись, не в силах усидеть на месте. Но вот отец начинал, размеренно и плавно: «Давным-давно, в далеком царстве…». При звуках его бархатистого голоса мы тут же забывали обо всем на свете, переносясь в другой мир. Вот как все было. Отец никогда не пускался в объяснения, не раскладывал по полочкам, не отделял правду от вымысла. В этом не было нужды: посеянное по всем правилам зерно в свое время само давало всходы.
Дар-Калифа с его двориками, затененными душистой жимолостью и плетями яркой бугенвиллеи, выложенными мозаикой ручной работы фонтанами, скрытыми за стенами и потайными дверями садами, мощенными терракотовой плиткой полами, резными дверями из кедра, венецианской штукатуркой с замысловатыми геометрическими узорами очаровывает. В нем обостряются все чувства.
Став владельцами Дар-Калифа, мы еще ничего не знали о местной культуре и даже не подозревали о том, насколько жизнь марокканцев пронизана суевериями. С которыми нам тут же пришлось столкнуться. Достаточно провести в Марокко неделю-другую, как вы поймете: все в этой стране буквально пропитано древними традициями Востока. Поначалу местные обычаи совершенно сбивают с толку, иногда даже пугают, но если вообразить, что вы находитесь в халифате времен Харуна ар-Рашида, все становится на свои места. В первые же дни я понял: реальный мир здесь как зеркало, в котором отражаются фантазии «Тысячи и одной ночи».
Вместе с Домом Калифа нам достались и трое сторожей – можно подумать, мы унаследовали их согласно нормам средневекового права. Хамза – старший из сторожей – был высокий, мрачный и сутулый, он будто взвалил на себя бремя забот всего мира. Самый молодой из сторожей, Осман, прислуживал в доме с детства, с его лица никогда не сходила улыбка. Третьего сторожа все звали Медведем, хотя вообще-то он был Мохаммед. У дюжего Мохаммеда были огромные ручищи и крючковатый нос, лицо то и дело дергалось от нервного тика.
Чаще всего Хамза, Осман и Медведь отсиживались в конюшне в дальнем конце сада в надежде, что я про них не вспомню. Если они и заговаривали со мной, то только чтобы напомнить о серьезной угрозе – джиннах.
В западных странах заброшенный дом рано или поздно становится пристанищем бродяг. Может случиться так, что они не оставят от дома камня на камне, да и выселить их бывает трудно. В Марокко же ничего не подозревающего жильца подстерегают сущности гораздо более буйного нрава. Стоит вам выйти всего на минуту, как дом от подвала и до потолочных балок наводняют полчища невидимых духов – джиннов.
В Коране говорится: когда Всевышний вылепил из глины человека, он сотворил и другую форму жизни – из «палящего огня».55
Коран 15:26-27 (пер. В. Пороховой)
[Закрыть] Называют такие сущности по-разному, но чаще всего джиннами. Джинны могут поселиться в любом предмете, среди них встречаются добрые, но чаще всего они коварные и злые. Людей они недолюбливают за то, что те, якобы, мешают им жить.
Прошло несколько месяцев, прежде чем мы окончательно отремонтировали дом и избавились от джиннов. Сторожа утверждали: те прячутся в бочках с водой, в уборной, под половицами… Соседство с джиннами или, что еще хуже, с теми, кто в них верит, оказалось нелегким испытанием.
Я безвылазно сидел в Касабланке: ни днем, ни ночью мне не было покоя от непрерывно раздувавшегося штата прорабов и рабочих – каждый из них испытывал страх перед сверхъестественными силами, которые, по их мнению, окружали нас. Но иногда все же удавалось вырваться. Я исколесил всю страну в поисках строительных материалов, ремонтников и заклинателей, способных изгнать коварных джиннов. Стоило мне вырваться из хитросплетений городских трущоб, как я тут же забывал о всяких неурядицах – передо мной открывалась страна с богатой историей и культурой, живущая полной жизнью, и мне еще предстояло с ней познакомиться.
Как-то утром я застал Османа сидящим на перевернутом вверх дном ведре – он неотрывно глядел на живую изгородь из гибискуса. Лето только начиналось, но солнце уже припекало вовсю – лень было не только работать, но и думать.
Я протянул Осману холодный апельсиновый сок в запотевшем стакане.
Осман сверкнул белозубой улыбкой и поблагодарил меня, вознеся хвалу Всевышнему. Помолчав, он сказал:
– Месье Тахир, вот вы уже три года, как поселились в Дар-Калифа.
– Да, время летит быстро…
Сторож осушил стакан одним махом. Взгляд его мутновато-карих глаз встретился с моим.
– Но вот что вы за все это время узнали?
– В смысле?
– О нашей стране… что узнали?
Я задумался, вспоминая свои разъезды в поисках черепах и кедровой древесины, мозаичной плитки и заклинателей джиннов…
– Ну, я много чего повидал, – сказал я. – Был на севере – у Средиземного моря, на юге – в Сахаре, добрался аж до хребтов Атласских гор.
Не отводя взгляда, Осман утер нос рукавом.
– Вы не знаете нас, – резко сказал он. – Не знаете Марокко.
Мне стало обидно. Про себя я подумал: о чем это он вообще?
– Я знаю Марокко ничуть не хуже тех, кто прожил в стране с мое.
Осман большими пальцами с силой потер себе глаза. И вновь посмотрел на меня.
– Все это время вы были слепы, – сказал он.
– Что?
– Слепы.
Я пожал плечами.
– Может, вы и исходили всю страну, да только ничего не увидели.
– Уверен, это не так.
– Уж поверьте мне, месье Тахир. У вас это на лице написано.
Из раннего детства мне особенно хорошо запомнились сказки. У нас в семье очень любили «Тысячу и одну ночь». Завороженный, я мог часами слушать про приключения Аладдина и Али-Бабы, путешествия Синдбада-морехода и про калифа Харуна ар-Рашида. В сказках непременно были сундуки с сокровищами, принцессы и прекрасные принцы на белых конях в золотой сбруе, дервиши, а еще – гули, ифриты, исполинские дэвы и другие джинны.
У отца всегда находилась для нас притча – так он отвлекал нас от шалостей и одновременно учил. Он любил повторять:
восточные притчи подобны энциклопедиям, это кладовые мудрости и знаний, их следует ценить, беречь и изучать. Для отца притчи вовсе не были пустыми россказнями. Он видел в них объяснение тем или иным человеческим поступкам, считал средоточием знаний, что копились человечеством испокон веков и передавались из поколения в поколение.
Десять лет назад отца не стало, и его библиотека перешла ко мне по наследству. На пяти добротно сколоченных ящиках была надпись: «ЦЕННО. НЕ КАНТОВАТЬ!» В ящиках обнаружились басни Эзопа, сказки Ганса Христиана Андерсена и братьев Гримм, сказки арабские и не только: албанские и китайские, камбоджийские и индийские, аргентинские и вьетнамские, африканские, австралийские, малайские, японские, даже сказки из Папуа –Новой Гвинеи.
Когда ремонт в Дар-Калифа завершился, у меня, наконец, появилось время разобрать и почитать книги из отцовской библиотеки. На полях часто встречались карандашные пометки – я узнавал аккуратный, убористый почерк отца. Где-то он толковал смысл той или иной притчи, а где-то делал отсылки к схожим притчам, бытовавшим в совершенно иных культурах.
Среди многочисленных томов не доставало только полного собрания сказок «Тысяча и одна ночь» – у отца было редкое издание в переводе ученого и путешественника викторианской эпохи Ричарда Фрэнсиса Бёртона66
Ричард Фрэнсис Бёртон (1821 – 1890) – британский путешественник, писатель, поэт, переводчик, этнограф, лингвист, гипнотизер, фехтовальщик и дипломат. Прославился своими исследованиями Азии и Африки, а также исключительным знанием различных языков и культур.
[Закрыть]. Я помнил эти тома с самого раннего детства – они всегда стояли у отца в кабинете на нижней полке книжного шкафа. Отец очень ценил издание, и не в последнюю очередь за великолепное оформление. Он рассказывал, как в молодости увидел семнадцатитомник в книжном магазине, как несколько месяцев откладывал деньги на его покупку и каждый день ходил любоваться книгами. Лишь позднее я узнал: то было знаменитое первое бенаресское издание.
Тома были в черном вощеном переплете, на корешках – яркое золотое тиснение. Конечно, я был тогда еще ребенком и мало что видел, но они показались мне самым прекрасным, что есть на свете. Эти чудесные книги приводили меня в восторг, я часто приходил в отцовский кабинет и проводил пальцами по их корешкам, вдыхая пряный аромат. От них почему-то пахло гвоздикой.
Но однажды дождливым зимним днем к родителям пожаловал гость. Он был толстый и неуклюжий и курил не переставая. Я был слишком мал, и меня ни во что не посвящали, но помню, как перед его приходом родители о чем-то вполголоса совещались. Не знаю, кем был тот человек, но приняли его как важного гостя: чай налили в самую красивую чашку, подали тонко нарезанные ломтики лимона на блюдце.
Я наблюдал за всем с лестницы: гость поздоровался с отцом, они прошли через холл в кабинет и закрыли за собой дверь. Когда же дверь снова открылась, гость вышел из кабинета, сгибаясь под тяжестью «Тысячи и одной ночи».
За ужином я полюбопытствовал: куда делись книги в черном переплете с золотым тиснением?
Отец помрачнел. Сурово глянув на меня, он сказал:
– У нас, Тахир-джан,77
Обращение к детям, также форма вежливого обращения к собеседнику.
[Закрыть] гостя принято уважать и оказывать ему всяческие почести. Если гость в твоем доме – он под твоей защитой. И все, что он ни попросит, то его. Если гость чем-нибудь залюбуется, твой святой долг – преподнести это ему в дар. Запомни это крепко-накрепко, Тахир-джан.
*
Сторожа в Дар-Калифа заявили: они, мол, слишком заняты – вон сколько листвы нападало, – так что им не до сказок. Я пробовал уломать их поодиночке, но они лишь твердили: сегодня притчи совсем не то, чем были когда-то.
– Вот раньше другое дело, раньше находилось время и самому поговорить, и других послушать, – сетовал Хамза. – А сейчас что? Работы уйма. Трудимся не покладая рук, даже вздохнуть некогда.
– Да, нам даже в затылке некогда почесать, – поддержал его Осман. – Традиции исчезают, а все почему? Да потому, что слугам приходится работать почище, чем рабам.
Кусты гибискуса раздвинулись – появился Медведь. Теперь все трое сторожей выстроились в ряд и сурово глядели на меня. Наши отношения стали несколько натянутыми с тех самых пор, как я, их хозяин, осмелился завести новые порядки. Мне были больше не по карману многочисленные маляры, садовники и плотники, поэтому я прибег к решительным мерам: все, кто состоит у меня на службе, отныне должны работать. Мой план с самого начала не пользовался поддержкой. За время своей службы в Дар-Калифа сторожа привыкли бездельничать, отсиживаясь в конюшне и травя байки, которые лишь подогревали их веру в сверхъестественное. Но в доме побывали заклинатели и изгнали всех джиннов – настала новая эпоха. Никто из сторожей и слова не сказал, но я чувствовал: в глубине души они тоскуют о старых добрых временах, когда своими байками могли нагнать на всех страху и делать, что душе угодно.
По пятницам я обычно ходил в ближайшую кофейню, захватив с собой блокнот и газету.
На Западе рассиживать в кафе значит попусту тратить время. Все равно, что смотреть телевизор днем – так поступают только те, кому совсем нечем заняться. Но, прожив несколько месяцев в Марокко, я понял: кофейня здесь – это своеобразные врата в закрытый для посторонних мир местных мужчин. Ни одна уважающая себя женщина не зайдет в мужскую кофейню, так что посетители подобных заведений могут не опасаться внезапного вторжения своих властных жен.
Мужчина, желающий стать полноправным членом этого закрытого общества, должен соблюсти одно условие. Ожидается, что он будет сидеть за столиком и размышлять или болтать с соседом, а то и просто убивать время.
Друзья вскоре прознали, что по пятницам меня можно застать в одно и то же время за одним и тем же столиком в кофейне «Мабрук» – ветхой забегаловке на набережной Кор-ниш. Мое положение в обществе заметно упрочилось. Теперь буквально все – от клерка, который обслуживал меня в банке, до сторожей и водопроводчика – стали относиться ко мне с нескрываемым уважением.
Кофейня «Мабрук» походила на мужской клуб, знававший лучшие времена. В помещении с серыми стенами висел настолько густой табачный дым, что где-нибудь в другой стране перед входом уже давно повесили бы табличку с предупреждением: опасно для здоровья. Все стулья шатались, а то и вообще были сломаны, пол скрывался под толстым слоем сигаретных окурков. Обслуживал посетителей единственный официант по имени Абдул Латиф – сутулый мужчина средних лет, у которого не было больших пальцев на обеих руках. Увечье заметно мешало ему отсчитывать сдачу. Заказы он не принимал, а перед каждым вновь прибывшим посетителем ставил стаканчик густого черного кофе и пепельницу.
Мне тут сразу же понравилось. Остатки былого великолепия придавали обстановке своеобразное очарование. Однако, чтобы увидеть это, одних глаз было мало. Приходилось полагаться на воображение: присесть за столик, вобрать в себя прокуренный воздух, сделать глоток обжигающего черного кофе и замереть… Проникшись атмосферой, ощущаешь родство со многими поколениями марокканских мужчин, искавших спасения в этих серых стенах.
Посетители по большей части жили неподалеку и приходили сюда, чтобы скрыться от своих назойливых жен. У всех на лицах одна и та же болезненная гримаса: затравленный взгляд мужа, которого жена тюкает с утра до вечера. Их благоверные похожи, будто близнецы: все как одна – доминирующие самки, дородные, не ведающие страха, готовые растерзать слабого. И счастье этих мужей, что они догадались: на нейтральной территории кофейни можно укрыться от преследований.
Каждую пятницу самые разнообразные представители затюканного мужского племени по одному приходили в кофейню и присаживались на колченогий стул возле моего столика. Профессора на пенсии, медицинские работники, библиотекари, полицейские, почтовые служащие… Если вы идете в марокканское кафе, будьте готовы к тому, что уединиться не получится. Если вы сидите за столиком, значит, вы открыты для общения.
За несколько месяцев я составил себе довольно полное представление о мужской части населения Касабланки. Большинство мужчин ходили в поношенных джеллабах и желтых туфлях-бабушах с загнутыми вверх носами. И всех их объединял и связывал в некое единое братство общий страх – страх перед женами.
По пятницам большинство мужчин в Касабланке пребывает в благодушном настроении и не прочь отдохнуть. Сначала они совершают обряд омовения, молятся в мечети, наедаются дома кускусом,88
Кускус (араб.) – крупа и блюдо из нее; является одним из основных продуктов питания в Марокко.
[Закрыть] а потом жены выгоняют их из дому, наказывая не возвращаться до самого заката, когда солнечный диск погрузится в воды Атлантического океана. И мужья с несколькими дирхамами в кармане – больше просить они не осмеливаются – идут в кофейню поговорить.
Вот я сижу в компании подкаблучников, и мы беседуем на самые разные темы: от аль-Каиды до обстановки на Ближнем и Среднем Востоке, от слабого аромата арганового масла до древнего кодекса чести, единого для всех арабов. Каждую неделю я узнавал о марокканской культуре что-нибудь новое, и это сближало меня с остальными.
Из завсегдатаев кофейни самым осведомленным слыл вышедший на пенсию хирург Мехди – сухощавый, с заостренными чертами смуглого лица и маленькой, аккуратно подстриженной бородкой. Доктор отличался непомерной уверенностью в себе, и остальные подкаблучники признавали его своим защитником. Бывало, хлопнув в ладоши, он призывал всех присутствующих дать отпор отбившимся от рук женам.
Как-то раз доктор Мехди признался: ему уже восемьдесят два, но старческие, в пигментных пятнах руки служат ему все так же верно, как и полвека назад.
– Пара умелых рук, – сказал он, – может убить человека, а может и спасти ему жизнь.
Однажды я рассказал доктору, как в детстве видел у городской стены Феса сидящих на корточках сказителей.
Уставившись в стаканчик с черным кофе, доктор прищурился и сказал:
– В них душа Марокко.
– Но разве традиция не утеряна? – возразил я. – Ведь Марокко становится все современней.
Доктор хрустнул костяшками пальцев раз, другой.
– Нужно копать, – сказал он. – Хочешь выкопать клад – купи лопату.
– А стоит ли? Сокровища-то вообще существуют?
Доктор поднес стаканчик к губам и сделал глоток.
– Может, вы этого и не замечаете, – сказал он, – но рассказы, сказки, притчи пронизывают все вокруг. Мы пропитаны ими до мозга костей.








