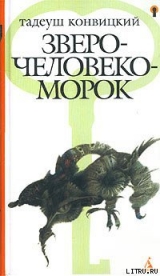
Текст книги "Зверочеловекоморок"
Автор книги: Тадеуш Конвицкий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Правда, ему немного мешала Дака, та малышка, которую сопровождала мама со злобным лицом. Дака тоже все время лазила по автобусу, притом очень ловко, умудряясь не падать на поворотах. За ней бегал пестрый котенок, которого звали Пузыриком. Его хозяин, чертовски важный пожилой господин, ни на секунду не спускал со своего питомца глаз.
Дака, похоже, чувствовала себя как дома и увлеченно жевала бутерброд, закусывая анемичным помидором, который называла «помпидольчиком». Постепенно всеобщее внимание переключилось на нее, что, видно, разозлило Дориана. Улучив момент, когда на него никто не смотрел, он толкнул малышку так сильно, что она упала и покатилась под кресло. Все всполошились, за исключением ее мамы. Какие-то мальчишки в распоровшихся скафандрах бросились Даке на помощь, чего вовсе не требовалось: она даже не заплакала. Наоборот, с улыбкой вылезла из-под кресла, вереща пронзительным голосом утенка Дональда: – Коселёк! Коселёк!
Действительно, крошечная, словно уменьшенная взрослая, даже будто огрубевшая от трудов, лапка крепко сжимала туго набитый кошелек. Дориан, побледневший от злости, первый выхватил у Даки кожаное портмоне и принялся с дурацкими ужимками вытаскивать из него разные банкноты, в том числе, кажется, иностранные. Но тут вмешалась Дакина мама.
– Отдай, – тихо прошипела она. – Это ребенку на счастье.
Всем почему-то стало неловко, и мне тоже. Я уставился в окно, тем более что мы уже подъезжали к аэродрому, и вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Это была та, в джинсах. Она сидела рядом со мной, касаясь локтем моего бока, и улыбалась чистенькой, свежевымытой улыбкой. У меня так застучало сердце, что я даже испугался, как бы она не услышала. Отвернуться было бы невежливо, и я молча на нее смотрел с пересохшим горлом – даже слюну не мог проглотить. Дурацкое сердце колотилось все сильнее, и я – кажется, безо всякого страха – подумал, что пора умирать.
Но тут она протянула мне свою очень теплую руку.
– Майка, – сказала. – Мы будем вместе сниматься.
Только теперь я заметил, что на ней тоже скафандр, вернее, какая-то хламида из пластика наподобие туники, а на коленях лежит шлем, похожий на котелок; на шлеме я увидел поводок, страшно толстый, сплетенный из нескольких ремешков. Но собаки в автобусе не было.
– Петр, – выдавил я. – Очень приятно.
– Я тебя знаю в лицо. Мы, кажется, живем по соседству.
– Возможно.
– Ты дружишь с этим смешным Буйволом, верно?
– Ну не то чтоб дружу, – на всякий случай возразил я. – Видимся во дворе.
– У меня завтра день рождения, придешь?
– Могу прийти, – беззвучно прошептал я пересохшими губами.
К счастью, она стала смотреть в окно, потому что мы проезжали мимо каких-то диковинных машин, прокладывавших дорогу, и у меня появилась возможность собраться с мыслями. Я мог ждать чего угодно, но уж никак не рассчитывал встретиться с ней в автобусе. Конечно, если бы я часами торчал у нее под окнами – вечером, ночью, под дождем, в метель, – тогда другое дело. Тогда бы, внезапно увидев ее выходящей из подъезда, я бы мог подойти и, сдерживая волнение, поздороваться, перекрикивая шум ливня или свист ветра. А так получилось ни то ни се. Да еще она сразу пригласила меня на день рождения, будто мы сто лет знакомы. Ни к чему такому я совершенно не был готов.
По правде сказать, мне ужасно не везет с девчонками. Еще никогда в жизни ни одна красивая, симпатичная девочка первой со мной не заговорила и не предложила играть с ней или дружить. Почему-то все они предпочитали других ребят, часто тех, кого я презирал. Но стоило мне познакомиться с какой-нибудь нескладной или пучеглазой глупышкой, словом, обыкновенной курицей, как та немедленно в меня влюблялась. И мне приходилось выслушивать бесконечные признания, ходить на свидания, отвечать на идиотские записочки и вдобавок из вежливости изображать что-то похожее на взаимность.
Мне кажется, у меня это отцовское. В моего отца – маму я не считаю – тоже вечно влюблялись какие-то психопатки, старые девы со скрытыми или явными изъянами или разочаровавшиеся в жизни мымры.
Теперь же, приятно удивленный, я стал незаметно поглядывать на Майку. Мне нравилось смотреть на ее гладенькие щеки, на спрятанные за уши золотые прядки, на губы, которые слегка шевелились, точно она шептала молитву. Я даже ругал себя за то, что раньше ее чуть ли не ненавидел.
Она опять мне улыбнулась:
– Будем держаться вместе, хорошо?
– Отлично, – ответил я насколько мог непринужденно.
Понаблюдав с минуту за новыми выходками Дориана, Майка брезгливо поморщилась.
– Ты знаешь, кто это?
– Нет. Знаю только, что он играет положительного героя.
– Не люблю положительных, – еще больше скривилась Майка.
– А я как раз отрицательный, – поспешил сказать я.
Она посмотрела на меня с уважением, как Цецилия на портрет Оскара Уайльда, – есть такой английский писатель. У меня точно крылья выросли, и я подумал, что мы проживем и без отцовской зарплаты и выдержим даже столкновение с этим астероидом, который все называют кометой.
– Кажется, ты встречалась с каким-то венгром или перуанцем.
– С кем? Что-то не помню.
– Чернявый такой парень. Вы даже как-то поздней осенью ели на улице мороженое.
– А, это, наверно, наш сосед. Вечно за мной таскался. Слава богу, уже уехал.
– Правда? – Я даже подпрыгнул на сиденье, но, к счастью, в эту минуту подпрыгнул и автобус, въезжая в ворота аэродрома.
– Что правда?
– Так недолго у нас прожил? – выкрутился я.
– Мне даже вспоминать о нем неохота. – Майка пренебрежительно ударила поводком по пластмассовому шлему. – Ты что сделаешь с деньгами?
– Которые получу за съемки?
– Да. Я свои отложу на каникулы. Знаешь, что я решила? Поездить автостопом.
Мне это понравилось, только вряд ли у нее что-нибудь получится. У взрослых хватает ума, чтобы не выдавать книжечек автостопа ребятам нашего возраста. Майке, правда, можно было дать лет пятнадцать, хотя она была выше меня от силы на сантиметр, а то и на полсантиметра. Впрочем, у нее были довольно высокие каблуки. Будь у меня такие, еще неизвестно…
– Мне вообще-то деньги не нужны, – ответил я, небрежно вытянув ноги. – Я со скуки записался.
– Не выдумывай. Деньги всегда пригодятся. А чем занимается твой отец?
– Он специалист по электронным машинам, – неохотно ответил я.
– Интересно. Мой тоже. Он директор института.
– Я в его дела особенно не вникаю, – поспешил сказать я. – Приехали.
Наш автобус уже лавировал между громадными самолетами, которые оказались не такими уж и серебряными. Некоторые были изукрашены черными пятнами сажи и потеками смазочных масел, а на одном я даже заметил обыкновенную сельскую грязь, будто он в весеннюю распутицу вернулся из деревни.
– Петр, – услышал я тихий голос.
– Что? – шепнул я, и сердце у меня опять заколотилось.
Майка смотрела выжидающе, а я растерянно на нее уставился, не понимая, чего она хочет. И наконец увидел ее протянутую, словно только что вымытую горячей водой руку.
– Дружба? – спросила она.
– Дружба.
Я хотел поцеловать эту теплую руку, но постеснялся. И поспешил отдернуть свою – так резко, что сбросил с ее колен шлем.
Огромная бетонная площадка на краю аэродрома была загромождена какими-то ящиками, кабелями и деревянными сооружениями. Посередине, лихо раскорячившись, стояла камера, закутанная в черную тряпку: казалось, ревнивый оператор закрыл ей глаза, чтобы она ничего не видела. Вокруг вертелась куча народу, в том числе все мои знакомые: и Щетка, и бледный Нико, и Щербатый, и даже сам ужасно таинственный Заяц. Бородатый оператор, которого все называли Команданте, флегматично ел что-то с бумажки, запивая чаем. А сбоку стоял режиссер, то есть Лысый, или Плювайка, как его звал Щетка. Скрестив на груди руки и сплевывая сухими губами то медленно, то очень быстро, он глядел на пожухлую траву за бетонной площадкой. Через открытую дверцу грузового фургона я увидел недовольную блондинку, нашу Хозяйку. На ней был пластиковый костюм, который практически ничего не закрывал, но сейчас она куталась в тулуп, какие носят шоферы. И жадно сосала леденцы, вынимая их из громко шелестевших фантиков.
– Партизаны, не разбегаться! – крикнул нам Щетка. – Сейчас будет освоение.
Мы не очень поняли, что нам предстоит осваивать, и, усевшись у дверей огромного ангара, ста-
ли смотреть на механиков, которые, перестав ковыряться в самолете, с не меньшим любопытством пялились на нас.
– Это наша ракета. Точь-в-точь такая, как в книжке, – возбужденно сообщил Дориан.
Действительно, довольно далеко от нас, на бескрайнем пустыре аэродрома, стояла на хвосте большая, ярко раскрашенная ракета, к открытой дверце которой вела железная лесенка. Вид у ракеты, чего уж скрывать, был не ахти какой, и вообще она походила на ту, которую я недавно видел во сне про конец света. Но сон был какой-то путаный, и к ракете я не особенно присматривался, так что теперь почувствовал разочарование.
– Je suis, tu es, il est[1]1
Я есть, ты есть, он есть (фр.)
[Закрыть], – зашептала рядом со мной Майка.
– Что, что?
– Ничего. Повторяю французские слова. Ужасно скучно так сидеть.
– Я тоже по-другому все себе представлял.
Но тут поднялась дикая суматоха. Камеру открыли, кто-то к ней бросился, но тут же был отогнан режиссером, который самолично спрятался под черную фланелевую тряпку и, яростно сплевывая, прилип к видоискателю. Нами занялся Щербатый, призвавший на помощь Щетку и бледного Нико. Они построили нас в колонну и заставили одного за другим входить по железным ступенькам в ракету. Оказалось, что за передней стенкой ракеты ничего нет. Нужно было просто протиснуться в дверцу и спрятаться за фанерный лист, испещренный немецкими надписями времен последней войны. Возглавлял шествие неизменно Щетка, заменявший Хозяйку, которая, видно, считала ниже своего достоинства участвовать в освоении. Щетка довольно похоже ее изображал, а в перерывах объяснял нам, что фильмы с участием детей или животных делаются дольше обычного: правила разрешают уменьшать дневную норму. Мы не знали, радоваться нам или обижаться. Бледный Нико с первого же раза грохнулся в тесном закутке за ракетой.
– На Западе такое было бы немыслимо, – ворчал он, отряхиваясь от пыли. – Помнишь декорации в «Мести марсиан»?
Но Щетка уже снова формировал колонну. И так мы топали взад-вперед раз, наверно, пятнадцать. Режиссер, он же Лысый, он же Плювайка, все время переставлял камеру с места на место, грубо нами командовал, перестраивал и в конце концов заставил ходить даже Хозяйку. И она маршировала с нами, не снимая тулупа.
Я старался держаться поближе к Майке, но режиссер вдруг завопил:
– Этот черный, как его там, ну тот, в черном скафандре, чего он лезет вперед? Я же сказал: в конец!
И Щетка отправил меня в конец.
– Помни, Гжесь, ты отрицательный персонаж, усек?
– Халтурщики, – презрительно буркнул бледный Нико. – В приличной студии они бы в лучшем случае минералку разливали.
Я догадался, что он имеет в виду постановщиков, а не нас. Щербатый тем временем стал выкрикивать приказания через большой мегафон, и тут уже начался настоящий кавардак. Дака отказывалась подниматься по лесенке, котенок испугался самолета и бросился наутек в глубь аэродромной пустыни, ракета накренилась набок, девчонки, вопя благим матом, плюхались на твердый фанерный пол. А режиссер уселся возле камеры, обхватив руками свою тяжелую голову. И даже перестал плеваться.
Тогда к нему робко приблизился сценарист и, задумчиво протерев очки, сказал, как будто обращаясь в пространство:
– А мне эта декорация нравится. Я так себе и представлял ракету.
– Конечно, одному вам все нравится! – завопил режиссер. – Вы свои денежки получили и успокоились. А я должен из этого навоза слепить конфетку.
Вообще-то он выразился крепче, но это неважно. Сценарист побледнел.
– Надеюсь, вы не мне это говорите? Режиссер вскочил как ужаленный.
– А кому я говорю? Кто это сочинил? Может, Шекспир, может, Эдисон или Васко да Гама?
– Я получил премию издателей, – ледяным тоном произнес сценарист.
– А у меня в кармане телеграмма из Голливуда. Я могу в любой момент туда полететь и зарабатывать настоящие деньги на классных текстах. – Режиссер схватился за голову. – Люди, что я тут делаю, зачем мучаюсь в этой дыре?
Конечно, он и на этот раз выразился более энергично, но я не вижу необходимости повторять вам все дословно. На вопрос режиссера, впрочем, никто не ответил. Только около ракеты вдруг загремели страшные взрывы, и космический корабль скрылся за черными клубами дыма.
– Стоп, стоп! – взвыл режиссер. – Что за кретин устраивает тут пальбу?
Прибежал запыхавшийся Щербатый и отрапортовал, как начальник штаба главнокомандующему:
– Пиротехник пробует эффекты старта.
– Зачем, для чего? – затопал ногами режиссер. – Кто ему велел? Он же детей покалечит.
– Я думал, пан режиссер…
– Только не думайте, умоляю.
Между тем пиротехник, лысоватый блондин, с лица которого не сходила странноватая, двусмысленная, самодовольная ухмылка, торопливо протиснулся между нами и, спрятавшись за нашими спинами, стал приводить в порядок свое хозяйство. Я увидел деревянный ящик, набитый блестящими капсюлями и золотистыми проводами. Капсюли были большие; такими – в каком-то озарении подумал я – можно запросто поднять в воздух кубометр земли или разворотить средней толщины стену…
И как бы невзначай приблизился к этому ящику. Сделав вид, что устал стоять, присел возле него на бетон и запустил руку в кучу скользких детонаторов.
– Ой, голубчик, – внезапно послышался голос пиротехника. – Ручки чешутся?
Я быстро отдернул руку, а пиротехник противно ухмыльнулся и заговорил нараспев:
– Ты знаешь, что одна такая конфетка может оторвать тебе лапку по самый локоток?
– Фу, как не стыдно такие страхи при детях… – одернул его хозяин котенка.
– Не указывайте, что мне говорить, уважаемый. Когда мы снимали «Чувства и граната», я в одной лесной сцене подсыпал чуть лишку пороха…
– Замолчите, – рявкнул опекун Пузырика.
Пиротехник опять ухмыльнулся с пугающим самодовольством и стал запирать ящик на большой и ржавый висячий замок.
– Nous sommes, vous etes, ils sont[2]2
Мы есть, вы есть, они есть (фр.)
[Закрыть], – снова забормотала Майка.
– Что, что? – спросил я.
– Повторяю спряжения. Посиди со мной, а то этот Дориан все время на меня пялится.
Я сел рядом и стал смотреть, как Майка тихонько, точно молитву, шепчет французские слова. Я смотрел и думал, что, собственно, все в мире иллюзорно и незачем огорчаться из-за каких-то вымышленных неприятностей. И даже пожалел, что так долго отказывался произносить ее имя, ждал комету и внушал себе, будто люблю эту бедную акацию.
– Гжесь! Гжесь, цып, цып, цып! – словно из-за десяти стен услышал я голос Щетки. – Тебя режиссер зовет.
Меня кольнуло недоброе предчувствие. Я вскочил.
– Ну, скажу я тебе, сынок, похоже, эта чертова комета уже на нас пикирует. Все озверели. Рехнуться можно.
Не переставая ворчать, он повел меня к режиссеру, который, сплевывая, молча сверлил взглядом бледного сценариста.
– Ты Родриго? – коротко спросил Лысый, он же Плювайка.
– Птер, пан режиссер, – поправила его девица с толстой рукописью сценария.
– Все равно.
– Да, я.
– Содержание фильма знаешь?
– Знаю, – не очень уверенно сказал я.
– И что ты о нем думаешь?
Он смотрел на меня так мрачно и так устрашающе плевался, что я невольно заслонился рукой, сделав вид, будто вытаскиваю попавшую в глаз соринку.
– Немного наивно. Ракета выглядит так, точно работает на селитре или на простокваше. А в межпланетных путешествиях не обойтись без ионных двигателей… – Режиссер повеселел, зато сценарист побледнел еще больше, словно уже хватанул первую порцию облучения, и я поспешил добавить: – Но научная фантастика и должна быть немного наивной. Такова уж ее природа. И ничего тут не поделаешь.
– Видите, даже ребенок это понимает, – сказал режиссер.
– Как раз наоборот. Ребенок понимает, что наукообразие убило бы поэзию.
– Вот-вот, – взорвался режиссер. – Именно поэзию. Я со своей репутацией не имею права снимать всякую белиберду. Наивная научная фантастика, банальные психологические этюды, бытовые сценки из провинциальной жизни – это все не для меня. Вы должны были сочинить сказку, притом сказку философскую, своего рода метафору современного мира, этакое оригинальное обобщение.
И вдруг замолчал, задумавшись и отчаянно сплевывая, а все увидели, что он ужасно страдает, что ему хочется сотворить нечто выдающееся и потрясти ближних до глубины души.
– Выше головы не прыгнешь, – вполголоса сказал сценарист.
– Вот именно, что прыгнешь! – накинулся на него режиссер. – Мы оба прыгнем, или я разгоню эту банду ко всем чертям!
– Войтусь, долго я буду тут мерзнуть? – сонно пробормотала недовольная блондинка, она же Хозяйка.
– До самой смерти! – рявкнул режиссер. – Это все из-за тебя! Тебе захотелось сыграть добрую волшебницу, златовласую жрицу! Ты тянешь меня на дно, по твоей милости я погибаю.
Сонная ленивая русалка в мгновение ока преобразилась. Напружинилась, как дикая кошка, блондинистые волосы встали дыбом, в сузившихся голубых глазах вспыхнула ненависть, даже зубы стали немножко похожи на клыки.
– Хам! – фыркнула она и одним прыжком влетела внутрь фургона.
Железная дверца грохнула, точно врата вечности. Ну, может, несколько по-другому, но так нам всем показалось. Воцарилась тишина, только Дака скрипучим голосом звала котенка: «К ноге, к ноге!» – видимо, не желая принимать во внимание, что это не собака, а кошка.
Внезапно за спиной у нас началось какое-то движение. Из калитки в окружающей летное поле ограде высыпала шумная, пестро одетая толпа. Кто-то стал громогласно утихомиривать незваных гостей, но мало чего добился. Этим стражем порядка был, разумеется, Щербатый с мегафоном в руке. Он носился взад-вперед и строил рожи – то суровые, то насмешливые, то официальные, то чуточку неприличные. И все потому, что на аэродром пожаловала экскурсия, состоящая исключительно из юных особ женского пола, – по-видимому, старшеклассниц.
Неподалеку, прямо за нашей ракетой, готовился к старту огромный самолет. Он оглушительно взревел, а школьницы завизжали, так как ветер задрал им юбки. Все уставились на этот заграничный лайнер, один только режиссер уткнулся взглядом в землю, не переставая тихонько сплевывать. Глаза у него ввалились и покраснели, на голове как будто прибавилось седых волос, а плечи уныло поникли.
– Не расстраивайтесь, – сказал я, когда шум немного стих. – Сегодня для детей нелегко придумать что-то новое. Ко мне, например, приходит один пес, который в прошлой жизни был английским лордом, и мы с ним отправляемся путешествовать. Но и это уже было. Не принимайте так близко к сердцу, не стоит.
Чья-то рука коснулась моих волос. Это сценарист, превозмогая отвращение, положил мне на макушку свою пухлую ладонь.
– Ну конечно. – Режиссер несколько раз быстро сплюнул. – Глупые ребятишки все проглотят. Но старым хрычам стыдно наживаться на детях.
– Кое-что можно еще исправить, – осторожно сказал сценарист. – Съемки ведь только начинаются.
– Да, кое-что надо исправить, – пробормотал себе под нос режиссер и снова застыл, уставившись на бетонные плиты.
А я вернулся к ребятам. Продрогшие, в разлезшихся по швам комбинезонах, они осовело наблюдали за Пузыриком, рвавшимся с поводка, на который был посажен своим солидным хозяином. Я попытался найти Майку, но ее нигде не было. Только через несколько минут я увидел, что она сидит в фургоне с недовольной блондинкой и, что-то весело щебеча, расчесывает ее длинные волосы, точно пшеничные колосья рассыпающиеся по пластиковой спине. И мне вдруг показалось, что они похожи, просто очень похожи, как родные сестры.
Режиссер и сценарист продолжали стоять на прежнем месте, оба расстроенные, хотя и по разным причинам. Только оператор Команданте, перестав наконец жевать, закрутил крышку термоса и негромко скомандовал:
– Зажигай свет!
– Зажечь свет!
– Агрегат, агрегат!
– Десятку ближе! – закричали его помощники, которых Щербатый называл светиками.
Потом долго и старательно снимали таблицу с разноцветными прямоугольниками, которую держал один из светиков в необъятном тулупе.
Прибежала Майка с пылающими щеками и горячо зашептала:
– Она потрясающая. Просто потрясающая! У меня уже есть ее автограф. А это она дала мне на счастье.
И приподняла одну золотую прядку, под которой я увидел красную клипсу, похожую на каплю крови. Школьницы, хихикая и толкаясь, протискивались в калитку. Щербатый, словно дворовый пес, бегал вокруг, заставляя девиц хихикать еще громче. Мне почему-то стало грустно.
– А где пиротехник? – спросил я у Майки.
– Это который взрывает? Давно уехал. Он боится нашего режиссера.
Появился промерзший до костей Щетка. Его страшный нос совсем посинел.
– Конец освоению, партизаны. Марш в автобус.
– Пиротехник завтра приедет? – несмело спросил я.
– Приедет, приедет. У тебя к нему дело?
– Нет. Я просто так.
Мы пошли к автобусу. Все, даже Дака со своей злобной мамашей, залезли внутрь, только Майка медлила.
– Сядем вместе, ладно? – шепнул я в подаренную на счастье клипсу.
Майка немного смутилась и отвела взгляд.
– Понимаешь, я еду с Дорианом. Его отец повезет нас на машине.
Я, видно, здорово растерялся, и Майка это заметила.
– Не сердись. Так уж получилось. Пока.
Она хотела по-приятельски взъерошить мне волосы, но нечаянно съездила по затылку. Я невольно втянул голову в плечи, а она, замахав кому-то обеими руками, побежала к калитке. Я увидел за оградой легковую машину; за рулем сидел сценарист, а снаружи, у открытой дверцы, стоял Дориан, держа на толстом плетеном поводке Себастьяна.
Я стремглав бросился к ним, расталкивая отставших от экскурсии школьниц. Когда подбежал, все уже были в машине, и Дориан пытался затащить внутрь пса-великана.
– Себастьян, это ты, вот здорово! – едва переведя дух, закричал я.
Дог посмотрел на меня печальным взглядом бородатого оператора. Но на его лице, то есть на морде, не было ни удивления, ни радости – вообще ничего. Он глядел на меня с полным безразличием, а Дориан тянул его за тяжелый поводок.
– Себастьян, не притворяйся, что меня не узнаешь. Скажи хоть слово.
С толстой черной губы упала на землю знакомая капля.
– Я не могу к вам вернуться. Помоги, я все забыл.
Но он уже поставил передние лапы в машину. Зафырчал мотор, сценарист со скрежетом включил скорость, а Дориан, думая, что это очень остроумно, звал угрюмого дога:
– Кис, кис, кис, иди сюда, скотинка.
Пес покорно влез в машину. Под его тонкой шкурой энергично ходили атлетические мышцы.
– Себастьян, что случилось? Ничего не понимаю! Спаси нас! Себастьян!
Но машина уже тронулась, дверцы захлопнулись, а мне показалось, что из-за заднего стекла на меня уставились пустые, бесстрастные, совершенно чужие глаза Майкиного пса.
И тут мне стало все безразлично. Я тупо залез в автобус и потом, наверно, битый час не мог прийти в себя. Подписывал какую-то бумагу, Заяц смотрел на меня своими белыми глазами унылого полицейского, Щетка похлопывал по плечу, я получал какие-то деньги, которые небрежно засунул в задний карман, долго брел по незнакомым улицам, кто-то меня зацепил, кажется Буйвол, потом мама ругалась, отец смотрел по телевизору, как расцветают сады, Цецилия принимала холодный душ, крича что-то насчет йода, люди за окном пялились на небо, ветер рвал на них одежду, а у меня не переставая гудела голова.
Но потом я взял себя в руки и решил, не откладывая, отправиться к Майке и все выяснить. Но что, собственно, было выяснять? Ведь между нами уже все кончено, она меня отфутболила. И даже Себастьян отказался признать.
Во дворе собралась толпа. Из дома выносили кого-то в «скорую», но это был не тот инвалид. Я увидел незнакомое, пугающе белое, словно обсыпанное мукой, лицо. В нашей квартире вдруг запахло болью, болезнью, страданиями. Чтобы отогнать тягостные мысли, я пошел в комнату к пани Зофье и полез под матрас. Открыл дневник на сплошь изрисованной странице и стал читать. Аккуратные буквы почему-то прыгали перед глазами, и каждую фразу приходилось перечитывать по нескольку раз.
"Где была моя голова? Как сентиментальная барышня, целую вечность, почти две недели, бегала в театр, в кино, ухлопала кучу денег на чертовски скучные пластинки. И ради кого? Ради дурацкого героя-любовника, который декламирует стихи гнусавым голосом. Да и Люцина мне рассказала, что это за субчик. Не пропускает ни одной молодой актрисы. Старый паяц.
Было бы ужасно, невероятно оскорбительно сравнивать этого комедианта, донжуана для убогих девственниц с Ним, то есть с моим настоящим и единственным Идеалом. Я решила получать по Его предмету только пятерки. Два раза сама вызывалась отвечать. Он явно смутился и наделал глупостей, бедный. В первый раз влепил мне тройку. Но я эту тройку обожаю, я ее не забуду до конца жизни, до самого-пресамого конца, хотя, скорее всего, умру молодой. Он догадывается, я точно знаю, наши взгляды постоянно встречаются над головами сидящих впереди девчонок. Я готова поклясться, что Он слегка краснеет, во всяком случае быстро прячет глаза и утыкается в книжку или в журнал. Но Он должен быть моим! Должен!"
Я привел только голый текст, опустив бесконечные многоточия, тире и прочие выкрутасы. Внизу, конечно же, было сердце, пронзенное стрелой, и лужа крови, и следы поцелуев, и какие-то загадочные ребусы – словом, целая оргия знаков, свидетельствующих о страстях, кипящих в душе суровой, молчаливой пани Зофьи, нашей квартирантки.
А когда я снова выглянул в окно, то увидел другого Субчика, настоящего, который, ничего не подозревая, гонял футбольный мяч. Упорно и самозабвенно, с дикой точностью лупил в стену, ведать не ведая, какой ураган чувств пронесся над его головой.
Но вообще-то вы себе плохо представляете пани Зофью. Знаете только, что дома она – противная и высокомерная, а в своем дневнике жутко сентиментальная. Это вам еще ни о чем не говорит.
На самом деле пани Зофья у нас прехорошенькая. Клянусь, хоть я ей и брат. Красота ее чуточку экзотическая, как будто она долго жила в Азии или еще дальше. И это странно, потому что родители у нас нормальные.
У пани Зофьи длинные темно-каштановые волосы, слегка волнистые, и она борется с этим недостатком, не жалея сил. Лицо продолговатое, нос прямой и тонкий с небольшой – в самый раз – россыпью веснушек. Рот маленький, и вообще она похожа на юного Иисуса Христа. Честное слово. Возможно, вам это покажется кощунством, но так оно и есть, никуда не денешься.
Пани Зофья, хоть и вечно старается похудеть, очень тоненькая, такая тоненькая, что, кажется, подуй сильный ветер, и она переломится. Единственный изъян, о котором знаем только мы, – чуть длинноватый безымянный палец на левой руке. Пани Зофья по этому поводу очень горюет и все время украдкой вытягивает безымянный палец на правой, наверняка зная, что это не поможет.
Пани Зофья очень справедливая. Такой уж у нее с младенчества странный характер. Стоило иной раз отцу обругать телевизионную дикторшу или репортера, у пани Зофьи немедленно начинались судороги, и отцу ничего не оставалось, как брать свои слова обратно и понарошку просить прощения у стеклянного экрана. Пани Зофья, когда была маленькая, вообще не умела врать. Если уж не хотела говорить правду, в крайнем случае уклонялась от ответа. Теперь вроде бы научилась, или нет, пожалуй, все-таки нет.
Пани Зофья может меня пнуть или дать подзатыльник. Не сильно – просто так, для острастки. Ведь она уже почти взрослая. А если иногда и сюсюкает в своем дневнике, то исключительно потому, что жизнь у нее, по правде говоря, нелегкая. Мало радости быть девчонкой!
Мне стыдно, что я читаю ее дневник. Я честно обещаю себе в него не заглядывать. Но любопытство одолевает. К тому же я все хорошо понимаю и способен на сочувствие. Поверьте, в том, что я делаю, нет ничего плохого. Наоборот. Будь моя воля, я бы этих идеалов, пишущихся с заглавной буквы, за ухо приволок к пани Зофье и бросил перед ней на колени.
Я тут ее нахваливаю, а между тем кто-то позвонил в дверь. Я открыл с бьющимся сердцем, потому что много чего ждал. Но это оказалась превозносимая мной пани Зофья.
– Что слышно на съемках? – спросила она со странной, неприятной усмешкой.
Меня бросило в жар, но почему-то не так, как обычно.
– На каких еще съемках?
– Ладно, не придуривайся!
– Я не придуриваюсь, просто не понимаю, о чем ты.
– Таинственный герой-любовник, – сказала пани Зофья и заперлась в ванной.
Преодолев гордость, я встал под дверью, дожидаясь, пока она выйдет. Наконец пани Зофья появилась с новой прической и пошла на кухню поискать что-нибудь бескалорийное. Я вошел следом за ней и притворился, будто ищу что-то на столе.
– Я правда не знаю, про какие съемки ты говоришь.
– Ни про какие, – равнодушно бросила она, но меня такой ответ не устроил.
– Чего это тебе стукнуло в голову? Я к кино отношения не имею.
– Вот и хорошо.
– Кто-то тебе насплетничал.
– Отстань, зануда. Да кто поверит, что тебя пригласили сниматься?
А сама как ни в чем не бывало обшаривала полки в поисках прошлогодних яблок, в которых уже и витаминов не осталось. С таким видом, будто всецело поглощена этим занятием, однако где-то в уголках ее чуточку азиатских губ дрожала все та же странная и неприятная усмешка.
Поэтому я на всякий случай незаметно сунул полученный на студии гонорар в телевизор. Но тут же испугался, как бы деньги не сгорели, да и телевизор мог испортиться. И стал искать другой тайник, но надежный никак не находился. В конце концов я запихнул всю пачку в раковину с далеких островов, которую мне подарила Цецилия. И раковина вдруг перестала шуметь. Будто подавилась деньгами.
Весь вечер мне что-то не давало покоя. Ночью я, в свою очередь, долго ворочался на постели, мешая отцу уснуть. Вконец раскиснув, попытался вернуться к Себастьяну и Эве, но опять у меня ничего не получилось. И я стал уговаривать себя, что все это просто фантазии, нагромождение снов, игра воображения, присущая одаренным, рано повзрослевшим, чрезмерно впечатлительным детям.
И тут вдруг мне приснился сон. Я увидел знакомый многолюдный, ярко освещенный город и башню, возможно Эйфелеву, на галерее которой мы с Терпом уже однажды сидели. Но на этот раз мы, кажется, стояли, а полярное сияние становилось все ярче и горячее. Потом мне почудилось, что гигантский город понемногу отдаляется и сверху уже не выглядит таким внушительным. Мы как будто страшно медленно поднимались на лифте. «Это все из-за них, они нас поссорили», – сказал, обняв меня, Терп. Мне показалось, что он чего-то боится, опасается, как бы я его не покинул, и потому так крепко, почти судорожно, одной рукой прижимает к себе. И тут я заметил, что в его лице нет решительно ничего враждебного, ничего похожего на ненависть. Я словно узнавал знакомые черты, запомнившиеся с давних времен, с момента, когда у меня пробудилось сознание и я впервые увидел человеческое лицо. «Я твой брат, – убеждал меня Терп. – Даже больше, чем брат, – отец, а может быть, и твой будущий сын». Я хотел сказать, что это слишком сложно и маловероятно, но тут обнаружил, что мы стоим по пояс в глубоком снегу перед красновато светящимся окном, где-то угрожающе воют волки, а над нами дрожат, как светлячки, мириады звезд. Мы заглянули в это окно сквозь неплотно задернутую занавеску. И увидели наших близких, сидящих за столом в желтом тепле керосиновой лампы, пьющих чай с вареньем, которое они накладывали в маленькие блюдечки. «Мне нельзя уходить надолго, – сказал я. – Давно пора возвращаться». – «Не бойся, там мы все встретимся». И я увидел себя в длинном, до пят, пиджаке с чужого плеча и завязанном под подбородком, как у деревенской девчонки, платке. Я пас коз, а какие-то пацаны тыкали в меня пальцами и обидно дразнились. «Мне нехорошо, Терп. Я хочу вернуться. Как можно скорее». И вот уже я лежал на чужой кровати, которую тем не менее хорошо помнил. Кровать стояла у стены из толстых бревен, прослоенных истлевшим мхом, и я слышал, как короеды точат дерево, очень отчетливо слышал, потому что из меня уже вытекла кровь, и только тоненькая струйка сочилась изо рта, и капли с простыни падали на пол в огромную лужу, а кто-то похожий на Цецилию дрожащими пальцами зажигал толстую свечу, украшенную изображениями цветов и ангелов.








