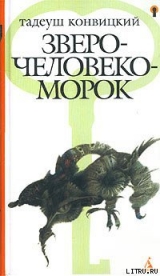
Текст книги "Зверочеловекоморок"
Автор книги: Тадеуш Конвицкий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Тадеуш КОНВИЦКИЙ
ЗВЕРОЧЕЛОВЕКОМОРОК
Эта книжка – не для примерных детей. Примерные дети ничего из моих воспоминаний не извлекут. Не стоит и стараться. А вот проказники – совсем другое дело. Проказники найдут в этой невероятной истории много поучительного, уйму ценных мыслей, а главное – глубокое понимание и сочувствие их нелегкой доле. Я чуть было не написал: бездну понимания и сочувствия, но вовремя спохватился, что это прозвучало бы как фраза из предисловия к детской книжке. А мои удивительные приключения правдивы, как правда, самые что ни на есть взаправдашние.
* * *
Зовут меня Петр, поскольку я родился в тот год, когда всех дочерей называли Агатами, а всех сыновей – Петрами. Мой отец работает в авиационном институте, хотя с детства проявлял склонность к музыке. Только не подумайте, что он космонавт или испытатель сверхзвуковых самолетов. Чего-то там делает в отделе счетных машин. Может быть, просто складывает, вычитает либо делит и умножает. Я никогда не спрашиваю, потому что он ужасно раздражительный. Мама как всякая мама: убирается, готовит, иногда стирает и постоянно чем-то озабочена. А когда остается дома одна, вытаскивает из-за шкафа мольберт и начинает рисовать. Отец любит говорить, что мамина живопись – непромокаемая, так как рисует она масляными красками. Теперь вам уже все понятно? Представить себе наш дом – проще простого. С такими родителями трудно быть пай-мальчиком.
Ага, чуть не забыл, еще с нами живет пани Зофья. Мы с ней иногда встречаемся в коридоре, когда она идет в ванную или на кухню за яблоками. Дело в том, что пани Зофья худеет. Даже если иногда и садится с нами обедать, так нервно тычет вилкой в пустую тарелку, что я опасаюсь, как бы она вдруг не набросилась на блюдо с картошкой и не смела все в один присест с жадностью голодного волка. Пани Зофья никогда с нами не разговаривает. Думаю, она нас презирает. Пани Зофья – моя старшая сестра. Учится в первом классе лицея, где обучение ведется по новой, экспериментальной программе. Даже отец не может помочь ей по математике. Впрочем, она никогда к нему и не обращается.
Моим первым сознательным зрительным и слуховым впечатлением был телевизор. С тех пор я посмотрел уже тыщи две фильмов, которые детям до шестнадцати смотреть запрещается. Не подумайте, что я хвастаюсь. Просто сообщаю вам, что я все знаю. По правде говоря, такие фильмы мне не очень-то нравятся. Но надо же как-то убить время. У меня бессонница, раньше одиннадцати заснуть не могу. Вот волей-неволей и торчу перед телевизором, чтоб не рехнуться со скуки.
Кроме бессонницы у меня есть еще одна странная особенность. Я терпеть не могу детей, прежде всего малышей и ровесников. Со старшими я бы, может, и водился, да они не проявляют желания. В результате остаются только отец с матерью. Отец знает, что нужно быть хорошим отцом, поэтому притворяется, будто любит со мной играть, но через пять минут начинает нервничать, а потом и вовсе лезет на стенку. Мама наоборот, но с мамой совсем не то удовольствие.
Приходится самому себя развлекать. Я перечитал уже все книги, какие есть в доме. Даже «Домашнего доктора» изучил, несмотря на мерзкие иллюстрации. С энциклопедией никаких проблем не было. Об эсперанто я даже не говорю: это так, ерунда, несерьезное хобби.
Боюсь, какой-нибудь глупый ребенок опять подумает, что я хвастаюсь. А мне это совершенно ни к чему. Если хотите знать, мне вообще все до лампочки. Просто я пишу про то, что считаю важным для дальнейшей истории – такой истории, от которой у вас волосы на голове зашевелятся и вы с ревом побежите к мамочке, а потом ночью не сможете заснуть.
Короче, так уж сложилась моя жизнь, что я все знаю. Никаких загадок для меня не существует. Собственно, я бы уже мог спокойно умереть. Ну что еще со мной может случиться? Да ничего.
Не исключено, что вы ничему здесь написанному не верите. Небось считаете, я какой-нибудь начальник, журналист или озлобленный общественный деятель. Нет, я – Петр, ученик четвертого класса, которому на уроках приходится всячески ловчить, чтобы скрыть свои подлинные знания.
Да вот вам и доказательство. Мой автопортрет. Я нарисовал его однажды, когда сломался телевизор, а мама пришпилила рисунок к бельевому шкафу.
А таким изображает меня мама на своих непромокаемых холстах.
Для детей не очень образованных поясняю: моя мама абстракционистка. Вы, конечно, не знаете, что такое абстракция. А я не собираюсь вам растолковывать. Я вообще не намерен опускаться до вашего уровня. Буду постоянно употреблять трудные слова. Не поймете – не моя забота. В нашей жизни неучам нет места, такие уж сейчас времена. Впрочем, никто вам не мешает заглянуть в словарь или спросить у родителей, если они не очень нервные.
Как-то чересчур жестко это у меня получилось, даже жалко вас стало. Хотя проказников нечего жалеть. Проказники должны быть начитанными, сообразительными, остроумными. Ладно уж, помещу в конце книжечки иллюстрированный указатель малопонятных выражений. Впрочем, не уверен. Еще подумаю.
Не знаю, стоит ли вам помогать, облегчая чтение. История, которая сейчас начинается, настолько необыкновенная, увлекательная и ни на что не похожая, что подлаживаться мне под вас незачем.
Объясню только еще две вещи. Об одной мне нелегко вспоминать. Осенью я пережил несчастную любовь. Да-да, любовь, а ведь всего год назад фильмы о любви на меня нагоняли сон. Писать об этом не очень-то приятно, но я человек прямой и не вижу причин скрывать печальный эпизод из своей жизни.
Впервые я увидел ее в соседнем дворе. Она играла с подружками в резинку. Это такое новое поветрие. Две девчонки растянули на своих тощих ногах сшитую в кольцо длинную резинку, а она перепрыгивала через нее по каким-то непонятным правилам. Честно говоря, мне понравились ее джинсы, таких я еще не видел. Ну я и остановился посмотреть. А она как раз на минуту отошла в сторонку, чтобы перевести дух. Заметила меня, откинула с лица прядь волос и сердито, а может быть, гордо вскинула голову. Меня бросило в жар, и я застыл как вкопанный, хотя торопился отнести домой сифон с газировкой, за которым посылала меня в магазин мама. Я простоял так, пока не стемнело.
Не буду всего вам описывать. Это вообще тема интимная, а лично для меня – очень болезненная. Все знали, что у нее есть симпатия на соседней улице. Сын не то венгерского, не то перуанского дипломата. Чернявый пацан, ничего особенного. Все знали, пять дворов, сотни три ребят. Один я, дурак, понятия не имел. Чем дело кончилось, нетрудно догадаться. Однажды я увидел их вдвоем. Они шли и нагло лопали мороженое в вафельных стаканчиках, хотя было уже холодно, – поздней осенью приличные дети на улице мороженого не едят. И я все понял. Безжалостная молния действительности пронзила самое мое естество. Это трудная фраза, но ничего не поделаешь. По-другому выразить свои чувства я не могу. Пускай кто-нибудь вам объяснит.
С этого момента я утратил последние иллюзии, окончательно убедившись в жестокости мира. Вытащил из папки чистый лист ватмана и принялся рисовать их на этой роковой улице. Сначала старался, чтобы вышло как можно смешнее. Ее (имени не называю сознательно) изобразил с огромным носом, усыпанным кучей веснушек, а его, этого венгра или перуанца, – крохотным, как пекинес наших знакомых. Но потом мне стало стыдно. Не буду я мстить. Не они виноваты. Виновата ужасная жизнь.
В общем, вот такими я их изобразил. Какие есть.
Пока я рисовал, мне нестерпимо захотелось самому себе кое в чем поклясться. А именно что я никогда-преникогда, до конца жизни, никого не полюблю. Но потом мне пришло в голову, что такую клятву легче будет сдержать, если отдать свои чувства чему-нибудь другому. И я решил: выгляну-ка я в окно и первое, что увижу, полюблю и буду любить до самой смерти. Выглянул осторожно, но за окном ничего не было. То есть не было ничего особенного. Улочка, как всегда в эту пору пустынная, да терзаемая порывами холодного ветра акация около памятника одному педагогу. Я долго ждал невесть чего, пока не сообразил, что дерево это не простое: прошлой весной из-за него разразился жуткий скандал. Явился старичок с пилой и принялся спиливать один из четырех, похожих, как близнецы, стволов акации. Тут же сбежались все обитатели нашей улицы и стали бурно протестовать. Кто-то даже позвонил в милицию. Но толстый участковый не смог справиться со старичком, и тот продолжал невозмутимо пилить. Потом оказалось, что никакой он не вандал, а друг покойного педагога. И что надо было спилить один ствол – трухлявый, – чтобы спасти все дерево.
Итак, глядя на акацию, я понял, что вот оно – мое предназначение. И даже обрадовался. Прекрасная штука – дерево, в особенности весной, и уж на него-то можно положиться. Такая акация не станет шляться по улице с мороженым в обществе какого-то венгра или перуанца.
С тех пор я часто поглядываю из окна на свое дерево. В начале зимы оно заснуло, но сейчас, вижу, постепенно просыпается, покрывается коричневыми почками.
– Чего он там высматривает? – обычно с раздражением спрашивает отец, когда я смотрю в окно.
– Наверно, ему скучно, – спокойно отвечает мама.
– Я в его возрасте никогда не скучал.
Может, это и правда. Я понимаю отца. Но сейчас время другое. Отец верил в гномов и в аистов, приносящих детей; на Рождество ставил около печки башмак. А я ориентируюсь в новейших достижениях науки: читаю про математическую теорию игр, про гравитационные поля, про материю и антиматерию, про царящий во Вселенной хаос (надеюсь, проказники хотя бы одним из этих предметов овладели; от примерных детей я ничего не требую).
Поэтому мне грустно. Я не вижу никакого смысла в том, что отец встает в шесть утра и едет на трамвае к своим электронным счетным машинам, мама пучком конского волоса часами мажет холст, пани Зофья с диким упорством борется с лишними килограммами, а мне предстоит прожить на этом свете еще несколько десятков страшных лет.
Поэтому мне скучно. Я ужасно скучаю – с раннего утра до позднего вечера. Каждую минуту, каждую секунду, каждую долю секунды. Правда, незаметно, украдкой, стесняясь, потому что все меня осуждают. Других мальчишек лупят за дело. За разбитое окно, за опоздание, за неприличные слова А мне достается за то, что никому вреда не приносит. За то, что я извожусь от скуки.
Но обсуждать это – только время терять. Я подозреваю, что многие изнемогают от скуки, только одни знают о своем недуге, а другие скучают бессознательно. И никуда от этого не деться. Поэтому незачем попусту сотрясать воздух. Клянусь, что больше не скажу об этом ни слова. Проказники – люди гордые, они никогда не жалуются.
Итак, я вернулся из школы и стал смотреть в окно на трехствольную акацию около памятника заслуженному педагогу. В доме было тихо: наши соседи поднимают шум только в одиннадцать вечера. Я глядел на едва заметную зеленоватую дымку, окутывающую ветки, и думал, что уже через несколько дней моя любимая покроется сочной зеленью, оживет под прикосновениями весеннего ветра, негромко зашелестит новой листвой. И еще я подумал, что никогда не позволю малолетним хулиганам залезать на ее наклонные стволы и вырезать перочинным ножом на нежной коре всякие глупости.
И тут зазвонил телефон. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, поэтому я продолжал стоять у окна. Но звонил какой-то упрямец. Телефон не унимался. Наконец я взял трубку.
– Петрусь? – послышался противный голос чудовища, то есть Цецилии.
– Вроде бы, – сказал я.
– Что за идиотский ответ?! Я промолчал.
– Что ты говоришь? – завопила Цецилия.
– Ничего.
– Ну, знаешь, это уже наглость.
– Да я правда ничего не говорю.
– Когда-нибудь я за тебя возьмусь. Увидишь. Совсем обнаглел.
– Да нет же…
– Помолчи. Я не намерена с тобой спорить. Мама дома?
– Нет.
– А отец?
– Нет.
– Почему?
– Потому что еще не пришел с работы.
Цецилия замолчала, вероятно раздумывая, к чему бы еще придраться. Я отчетливо слышал ее прерывающееся от ярости дыхание.
– Ах так! – крикнула она. – Это хорошо.
И с такой силой бросила трубку, что телефонный аппарат еще долго жалобно дребезжал, скрипел и, кажется, даже вздыхал.
Представлять вам Цецилию, думаю, уже не надо. Но все-таки я опишу, как она выглядит, – это, пожалуй, важно. Цецилия – мамина подруга, наверняка старая дева, хотя часто и подробно рассказывает о своем муже, который давным-давно, еще до рождения пани Зофьи, умер. Она высокая, худая, коротко стриженная. Вся ее бешеная деспотичность сосредоточена в глазах, пронзительных, быстро бегающих и поминутно озаряющихся странными вспышками. Лицо небольшое, румяное, как на старинных портретах. Цецилия утверждает, что похожа на знаменитого художника Ван Гога. Мне, правда, кажется, что она больше смахивает на Иуду с картины, которая называется «Тайная вечеря». Хотя, пожалуй, я не прав. С Иудой у Цецилии мало общего, в ней сидит дикое чудовище. Мои родители это знают и пытаются как-то сгладить ужасающее впечатление. Поэтому мама часто говорит: «Наше очаровательное чудовище».
С неприятным осадком в душе я вернулся к окну. Во дворе мальчишки катались на велосипедах по мокрому асфальту. Какой-то шофер, высунувшись из машины, за что-то их отчитывал. Редкие озябшие прохожие торопливо шагали по тротуару, кутаясь в легкие плащи. Верно, жалеют, что поверили вчерашнему прогнозу погоды, обещавшему неслыханную жару. Совсем раскиснув, я подумал, что и по телевизору сегодня сплошная скучища, как вдруг у входной двери затренькал звонок.
Я не спеша вышел в коридор, открыл дверь. Передо мной стоял дог, огромный, пожалуй выше меня. Стоял как истукан, даже не помахал хвостом. И смотрел на меня большими, отливающими синевой глазами без белков. Грудь у него была широченная, как буфет. Расставив могучие лапы, он испытующе меня разглядывал. Слегка разочарованный, я хотел уже захлопнуть дверь, как вдруг пес ни с того ни с сего заговорил грубым, чуть хрипловатым голосом:
– Родители дома?
– Нет. Нету, – удивившись, ответил я.
– Клево.
И вошел в прихожую, бесцеремонно оттолкнув меня твердым боком, на котором можно было пересчитать все ребра.
– В чем дело? – пробормотал я.
– Все нормально, старик, – сказал дог и направился в комнату.
Там он по собачьей привычке обнюхал мебель, даже приподнял заднюю ногу возле столика с телевизором, но вовремя спохватился.
– Хорошо живете, – заключил он. – Только чего-то холодно.
– Топить перестали, – машинально объяснил я.
Дог приблизился и опять стал молча меня разглядывать. С его толстых черных губ капала слюна; солидности ему, надо сказать, это не прибавляло.
– Небось вспоминаешь дурацкие книженции, где к впечатлительным деткам, которых не понимают окружающие, по ночам приходят зверюшки или какие-нибудь знаменитости, а?
– Точно. Примерно так я и подумал.
– И совершенно напрасно. Я по делу.
– Внимательно тебя слушаю.
– Не язви, старик, – брезгливо скривил толстые губы дог. – Я не утешитель глупых детишек. Я – изобретатель. Прямо говорю: пес-изобретатель.
Вот тут я немного струхнул. Здоровенная, как-никак, была псина. Не меньше семидесяти килограммов. Даже теперь, когда он стоял не шевелясь, под ржавой шкурой подрагивали толстые узлы мускулов. Я заставил себя улыбнуться.
– Молчишь? – спросил он таким низким голосом, что в окнах задребезжали стекла. – Небось думаешь, я спятил?
Но у меня в голове вертелась только одна дурацкая, трусливая мысль: ему сделали прививку? Ему сделали прививку?
– Почему бы и нет? Всякое бывает.
– Ты это о чем? – насторожился дог.
– Об изобретательстве. Вдруг возьмешь да что-нибудь изобретешь.
– То-то и оно, старик. Я тебя давно приметил. Могу взять в дело. Хочешь?
– Хочу. Почему нет?
Он был так поглощен своей миссией, что даже не обратил внимания на отсутствие энтузиазма в моем голосе. Сдвинул два кресла, неуклюже взгромоздился на одно из них. И коротко приказал:
– Садись.
Я сел напротив.
– И что теперь будет?
– Не задавай вопросов. В конце все поймешь. Глядя, как пес неудобно сидит на собственном хвосте, как его костлявые ноги поминутно сползают с подушки, как он пытается передней лапой заслонить впалое брюхо, я с трудом сдерживал смех. Но он пристально смотрел мне в глаза. Теперь я разглядел вокруг темно-карих зрачков узенький белый ободок.
– Ты готов? – тихо спросил он.
– Готов, – ответил я, и мне стало не по себе.
– Не робей, старик.
Мы все напряженнее смотрели друг на друга. Окна за его спиной расплылись, превратились в два бесформенных, постепенно темневших пятна. В пронзительной тишине я услышал далекий плеск воды, словно мальчишки гурьбой переходили вброд мелкую речку. Стало совсем темно, и я со страхом подумал, что ослеп. Хотел закричать, вскочить с кресла, броситься наутек, но в этот момент скорее почувствовал, чем увидел слабый свет, реденький, робкий свет занимающегося утра.
Раньше всего я различил какие-то диковинные извивающиеся тени, угрожающе тянущиеся ко мне. Но это оказались густые, непролазные заросли ольхи. Затем я увидел небо, слегка намыленное облаками, и услышал бормотание речной воды, одолевающей большие валуны.
Я сидел на узкой полоске каменистого берега посреди буйного царства невиданных трав, ярких цветов, вьюнков, забравшихся в ольшаник, и желто-зеленых с белыми шишечками гирлянд, напоминавших хмель, которые и в самом деле могли быть диким хмелем.
От воды тянуло холодом, поэтому я взобрался на невысокий откос. И очутился на большом лугу, где росла густая трава с редкими цветками, похожими на комочки белехонькой ваты. Передо мной расстилалась необыкновенная ярко-зеленая долина. Сзади, за рекой, упирался верхушками в небо густой дубняк. Напротив тянулся длинный пологий склон, увенчанный полосой елового леса и высокой колокольней костела. Где-то посреди склона краснели черепичные крыши. Там, вероятно, пролегал железнодорожный путь: я увидел невысоко над землей шлейф серого дыма, а потом до реки докатился хриплый крик паровоза. Справа долину замыкало нагромождение белых камней – далекий город, затянутый дрожащей от жары дымкой. А слева был огромный тополевый парк, скрывающий какое-то золотистое строение, показавшееся мне старинной усадьбой.
– Ну, каково первое впечатление? – услышал я басовитый голос.
Дог лежал на брюхе в сочной траве и прерывисто дышал. С черной губы свисала капля слюны. Похоже, он немного стеснялся, что морда у него постоянно мокрая.
– Где мы? – тихо спросил я.
– Где-то во Вселенной, старик.
– Я, кажется, откуда-то знаю эту зеленую долину.
Дог посмотрел на меня, иронически прищурившись:
– Может, на каникулы сюда приезжал?
– Мы ездим на море. Мне нужен йод. Я когда-то ужасно болел.
Тут я заметил у кустов ольшаника небольшое стадо коров. Какие-то мальчишки, наверное пастухи, кидали камни в реку, испещренную тенями, так как солнце уже клонилось к закату и висело низко над каменными террасами города. Лучи его падали косо и отливали красным.
Вдалеке кто-то пел гортанным голосом, пронзительно и протяжно. Мне стало не по себе, да чего там – просто страшно.
– Ну что, возвращаемся? – спросил я. Пес встал, потянулся, зевая.
– Куда?
– К нам, домой.
– Сперва я тебе кое-что покажу.
И тяжело зашагал по лугу. Я быстро растоптал теплую кротовину. На песчаном пятачке начертил примитивный план долины и наметил обратную дорогу. Дог остановился, настороженно оглянулся:
– Ты чего там делаешь?
– Ничего особенного. Нашел свежую кротовину. Из-за красных крыш поселка опять выкатился клуб дыма. Это поезд отправился в путь после короткой остановки. Был он какой-то чудной, я таких никогда не видел. Немного похожий на поезда с картинок в старинных детских книжках.
Мы все еще шли по лугу. Из густой травы вдруг выпорхнула большая птица и, с шумом рассекая крыльями воздух, неторопливо полетела в сторону редкого соснового леса над крутым песчаным обрывом. Дог бросился было в погоню, но вернулся и долго искал что-то в пахнущей мятой траве. Чихнул пару раз, но гнезда не нашел. Догнал меня, немного смущенный.
– Ты уже бывал здесь? – спросил я.
– Еще бы. Каждую тропку знаю.
– А меня почему с собой взял?
Пес помолчал минутку, а потом нехотя проговорил:
– Потом узнаешь. Наберись терпения, старик. Мы пересекали проселочную дорогу, когда из каких-то зарослей, кажется шиповника, выкатился довольно большой петух. Перья у него на груди были будто залиты соусом, тощие крылья небрежно сложены. К неопрятному клюву прилепились зернышки то ли ячменя, то ли ржи. Двигался петух неуверенно: глаза его плотно затягивала белая пленка, и вообще непонятно было, как он не сбивается с едва заметной тропки.
– Это Цыпа, – с отвращением пробормотал дог. – За усадьбой пивоварня. Он там кормится на свалке, выжимки подбирает. Мерзость.
Только тут я услышал, что Цыпа чего-то напевает, а может, тихонько постанывает, утомленный жарой или долгой дорогой. Мимо нас прошел, будто и не заметив.
– Держись от него подальше, – понизив голос, сказал дог. – Известный мошенник. Ты еще о нем услышишь.
Вскоре мы приблизились к большим железным воротам. Сквозь них была видна посыпанная шлаком аллейка и газон, примыкавший к старой золотистой усадьбе. На газоне под ярким зонтом кто-то сидел и читал газету.
– Эти ворота всегда на запоре, – тихо сказал дог. – Обойдем вокруг.
И пошел вдоль ограды из красных от ржавчины прутьев. За кустами сирени и жасмина трудно было что-либо разглядеть. Мы брели в неизвестной траве, похожей на карликовую пшеницу. Она была такая высокая, что даже огромный пес время от времени исчезал среди бурых колосьев. Над нами пролетела птица с длиннющим хвостом. Я решил, что это фазан. В таких парках только фазанам и жить.
Дог внезапно остановился, насторожив черные уши.
– Что случилось? – спросил я.
– Тсс, – шикнул он и задвигал кожей на спине, сгоняя мошек. – Сейчас что-то будет.
Мы довольно долго стояли не шевелясь. Тихонько звенели комары, на кусте пела какая-то птица. Я еще никогда не слышал соловьев, но так петь мог только соловей.
Вдруг в кустах что-то зашуршало, и к ограде с другой стороны подкатился небольшой белый обруч из ореховой лозы. Отскочив от каменного цоколя, он покачался между отцветшими калужницами и упал.
Я вопросительно посмотрел на дога. Он приподнял переднюю лапу, знаком приказывая молчать. Послышались быстрые легкие шаги. Кто-то, раздвигая ветки, пробирался сквозь кусты – вероятно, искал обруч.
И вдруг мы увидели перед собой девочку. Во всем белом: белое платье, белая лента в волосах, белые носки и туфли. В руках она держала белую палочку, вроде шпаги, тоже из орешника. Откуда-то я знал эту игру, где-то про нее читал, даже, кажется, видел картинки, изображающие игроков в серсо. Один бросает обруч, а другой должен, изловчившись, нанизать его на такую тоненькую шпажку.
Девочка нагнулась, подняла обруч и тут заметила за оградой наши неподвижные фигуры. Замерла, ошарашенно на нас глядя; видно было, что она рада бы убежать, но не может, будто загипнотизированная какой-то могучей силой. А я подумал, уж не удерживает ли ее пронзительный взгляд черных глаз пса-изобретателя.
– Эвуня! – крикнул кто-то со стороны золотистого дома.
Девочка открыла рот. Красный солнечный луч скользил по ее голове, медленно пожирая белую ленту.
– Эвуня, где ты?
Она быстро оглянулась, но не сдвинулась с места. В далеком костеле на холме зазвонил колокол.
– Эвуня!
Кто-то продирался к нам сквозь заросли жасмина. Из черноватой зелени вдруг вынырнул странно одетый мальчик. На нем были так называемые бриджи, застегивающиеся под коленками, каких сейчас уже никто не носит. Таких клетчатых носков и пуловера я тоже никогда не видел. В руке мальчик держал тоненькую шпагу из белой ореховой лозы.
Мне вдруг стало страшно жарко, и я почувствовал, что моя нога, упирающаяся в каменный цоколь ограды, начала дрожать, жутко сильно дрожать, будто хотела оторваться, отделиться от меня навсегда.
Этот мальчик в бриджах был, кажется… я. Ну просто в точности я, каким привык себя видеть в зеркале. Я, только в бриджах и клетчатом пуловере, хмуро смотрел на себя, стоящего рядом с псом-изобретателем по другую сторону железной ограды.
– Эвуня, – сказал мальчик в бриджах, – надеюсь, они к тебе не пристают?
Девочка отрицательно покачала головой. Красный луч заходящего солнца уже сполз с ее волос.
– Иди домой, здесь страшно холодно. Мальчик потянул Эвуню за руку, подтолкнул к кустам. И, как только она скрылась в зеленой чаще, подошел к ограде:
– Чтоб я вас никогда тут больше не видел, понятно? А то в следующий раз приду с ружьем.
И исчез в зарослях сирени.
– Он на меня ужасно похож, – сказал я, с трудом проглотив слюну.
– Думаешь? – пробормотал дог-изобретатель. В голосе его прозвучала какая-то фальшивая нотка. – Показалось, наверное. Я особого сходства не заметил.
– Нет, правда. Меня прямо в жар бросило.
– Да ну… – пренебрежительно протянул дог. – Тебе привиделось. Ты просто устал.
– А она кто?
– Он ее держит в заточении. Видал на воротах громадный замок?
– А почему?
– Потому. Она его пленница.
– Волосы какие длинные, почти до пояса. Никогда таких не видел.
– Вот именно. Ты ее освободишь, старик.
– Я?
– Да, ты.
– А где мы?
Воздух сгущался, с холодной земли поднимался сумрак. Где-то поблизости невнятно бормотала река.
– Ну, пора возвращаться, – сказал пес и сел напротив. Уставился на меня черными глазищами, в которых мерцали синие огоньки, и ужасно, словно собрав все силы, наморщил лоб.
Так мы просидели несколько минут. Где-то в траве стрекотали сверчки. Вдалеке кто-то пел пронзительным голосом, похожим на голос муэдзина.
Внезапно я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. За спиной дога, за старым, с потрескавшейся корой, тополем маячила сгорбленная тень.
Я открыл было рот, но пес меня опередил.
– Бляха муха, – выругался он. – Чего-то не получается. Попробуем еще раз.
Но тут затаившаяся за деревом тень внезапно распрямилась и длинными скачками понеслась к реке. Я увидел желтоватый бок с черными полосками и костистый хвост.
– Гляди-ка, кошка, похожая на тигра. Пес-изобретатель даже не соизволил обернуться. Только пожал могучими плечами.
– Это тигрица Феля. Приличные люди с ней не водятся.
– Как она сюда попала?
– Не спеши. Потом все узнаешь. Пора возвращаться.
Он напряженно смотрел мне в глаза, не обращая внимания на безнаказанно жалящих его комаров.
– Не отвлекайся. Ты что, не можешь сосредоточиться? – ворчал он тихим сонным голосом. – Нам пора обратно в наш мир. Уже поздно. Там и тебя, и меня ждут.
Говорил он все тише и все медленнее. Темнело. Нас постепенно окутывала черная беспросветная ночь.
У двери заливался звонок. Я встал с кресла. За окном шел апрельский дождь вперемешку со снегом. Пса не было. Только на кресле напротив лежало несколько комочков грязи. Звонок не унимался, торопил, угрожал.
Я открыл дверь. На лестничной площадке стояли: мама, Цецилия, пани Зофья с портфелем и отец. Все четверо разъяренные.
– Безобразие! – рявкнул отец. – Мы полчаса трезвоним.
– Извините. Я не слышал.
– Он не слышал, – театральным жестом развел руки отец.
– Наверняка занимался чем-нибудь недозволенным, – сказала Цецилия. – По лицу видно, что нашкодил.
– Меня не было дома.
– Ну вот, сами видите, – торжествующе воскликнула Цецилия громовым голосом, от которого зазвенели стекла в окнах на всех восьми этажах нашего подъезда.
– Я правда только что вернулся.
– Минутку, – сказала мама. – Ты только что вернулся, а мы с четверти третьего стоим под дверью и почему-то тебя не заметили.
– Я тут ни при чем. Цецилия хитро улыбнулась:
– В таком случае скажи, где ты был.
Мне не хотелось ни врать, ни выкручиваться. Мы все еще стояли на площадке.
– Просто в дверь позвонил один пес, огромный дог, кажется изобретатель. Предложил мне попутешествовать по Вселенной. Мы были на какой-то планете, чертовски похожей на нашу Землю, только немного красивее. Я познакомился с девочкой, которая играла в серсо с мальчиком, как две капли воды похожим на меня.
– Пес, разумеется, говорил человеческим голосом? – язвительно спросил отец.
– Да, он хорошо говорит по-польски.
– А тигра ты, случайно, не встретил? – вмешалась Цецилия, заговорщически подмигнув маме.
– Встретил. А откуда ты знаешь? Только это был не тигр, а тигрица.
– Честное слово, вы не умеете воспитывать детей! – завопила Цецилия. – Я бы с него три шкуры спустила. Ему даже соврать как следует лень. Он вас ни в грош не ставит!
Подтолкнула меня, как недавно дог, и мы вошли в квартиру. Снимая пальто, все продолжали отпускать ехидные замечания по моему адресу.
– Ты преувеличиваешь, Цецилия, – оправдывалась мама. – Просто мальчик любит пофантазировать.
– Может, он у вас писателем будет? – издевалась Цецилия.
– Это, кажется, весьма прибыльная профессия, – сказал отец. – Я прочел в газете, что шестнадцатилетняя англичанка заработала на своей первой книжке сто тысяч фунтов.
– А ты эту книжку читал? – напустилась на него Цецилия. – Я-то читала.
– Нет, откуда.
– Она смешала с грязью своих родителей. Изобразила их какими-то монстрами.
– Но сто тысяч – это сто тысяч, – философски изрекла мама.
– Ну, знаешь! – крикнула Цецилия еще громче и пронзительнее, отчего в ванной сама собой включилась газовая колонка. – Я бы такого ребенка запорола насмерть.
– У тебя ведь нет детей, – заметил отец. – Мне кажется, ты теоретизируешь.
– Ты просто идиот. С тобой вообще бессмысленно разговаривать.
Яростно переругиваясь, они вошли в комнату, где по-прежнему стояли рядом два сдвинутых кресла. За окном для разнообразия пошел град, крупный, как фасоль. Пани Зофья заперлась у себя и тут же включила радио – загремел оглушительный биг-бит.
Мама накрыла на стол и ушла в кухню; разогревая что-то на плите, она продолжала участвовать в разговоре. За стеной расплакался ребенок, взбудораженный голосом Цецилии. Я сел у окна и стал украдкой за ней наблюдать. Все-таки она мне нравится. А от ее приступов бешенства я просто тащусь.
– Я звонила вам два часа назад, – сказала Цецилия, наконец чуточку успокоившись. – К телефону подходил ваш идиот.
– Ты имеешь в виду Петра? – примиренчески спросил отец.
– В данном случае Петра. Но и ты не лучше.
– Что-нибудь случилось? – Отец ловко переменил тему. – Я еще не читал газет.
– Так ты ничего не знаешь?
– Пока не знаю, – вздохнул отец. – Но надеюсь вскоре узнать во всех подробностях.
Цецилия испепелила его взглядом.
– Все газеты кричат. Кроме того, я слышала комментарий Би-би-си.
Я решил доставить удовольствие очаровательному чудовищу.
– А что такое Би-би-си, Цецилия?
– Это английская радиостанция, на которой тетя Цецилия работала во время войны, – ответила она с царственным величием.








