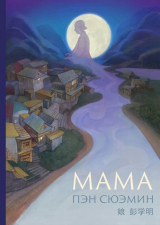
Текст книги "Мама"
Автор книги: Сюэмин Пэн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Глава 10
«Голод» был другим именем шестидесятых.
Недавно созданная Китайская Народная Республика была как совершенно новый чистый лист бумаги. На нём можно было нарисовать самые свежие и прекрасные картины. Но вместе с тем она была похожа на изодранный, трещавший по швам клочок мятого картона. Всё нужно было начинать заново. Китай колыхался от штормов бесконечной войны, повсюду были болезнь и нищета. Хотя народ увяз в энтузиазме строительства нового Китая, все, казалось, двигались не в том направлении. Революционный запал устремился в какое-то неправильное место. В пылу революционных чувств весь Китай немного потерял голову. Особенно после того, как в апреле 1970 года в небо поднялся первый запущенный китайцами спутник, тогда всколыхнулась настоящая волна народной страсти. Самой сильной, самой прекрасной общей мечтой всех китайцев стало «трудиться с полной отдачей». Но в то же время всем по-прежнему приходилось затягивать потуже пояса.
В затесавшейся между гор Шанбучи было немало добрых полей. Почва была тучной и не слишком влажной, но из года в год случались засуха, неурожай, после сбора зерна на хлебозаготовки, считай, ничего не оставалось, и народ часто голодал. Весной приходил первый весенний голод. Летом – летний. Почти в каждом хозяйстве собирали дикие травы и варили вместе с гаоляном жидкую кашу. Чтобы хоть как-то справиться с недородом, бригадир отправлял мужчин в горы охотиться, а женщин – собирать гэ[8]8
Пуэрария дольчатая, или Пуэрария лопастная, или кудзу – вид растений из рода пуэрария семейства бобовых. Используется в пищу: листья идут на изготовление салатов, голубцов, из цветов приготавливают варенье; кудзу богата углеводами (в том числе используется как источник крахмала).
[Закрыть].
Листья на лозе у неё размером с ладошку, вкусные, мясистые и нежные. Они покрыты слоем мелких волосков. Свиньи их просто обожают. А в те годы они составляли почти половину нашего ежедневного рациона. Лозы гэ вырастают до трёх-пяти чжанов[9]9
Чжан – китайская сажень, равна 3,33 метра.
[Закрыть] длиной, они бывают толщиной в палец, а бывают – в целую руку. Гэ обладает удивительной живучестью, в любой суровой среде она способна расти и размножаться. Между высоких гор и мощных хребтов Шанбучи повсюду торчали заросли этих растений. Они переплетались между собой, касались листьями, и их пурпурные цветы размером с пуговицу как искорки мелькали то тут, то там в зелёных кустах.
Девочки, девушки и женщины отправлялись в горы и корчевали там эти лазающие лианы. Внизу, под каждой мягкой и тонкой плетью, таились мощные корни. Бессильные нежные побеги, едва нырнув под землю, превращались в толстые, крепкие корневища. Они насмерть бились за жизненную энергию почвы. Каждый был крупнее и сочнее другого. Мамина мотыга ударяла в землю, и вся лиана приходила в движение, шурша, как от ветра. Земля, что ложилась по обе стороны от ямки, была горячей и влажной на каждом свежем разрезе. Это была околоплодная оболочка корней, их мягкий послед. Мама осторожно касалась его и почти неощутимо переворачивала. Там, под этими слоями, в самой глубине таился плод лианы – её землистый корень. У каждого корня было от десяти до нескольких десятков «деток». Самые мелкие были толщиной с большой палец взрослого человека, а самые большие – с икру. Короткие длиною в сажень, а длинные – в три.
За день мама успевала вырыть до пятидесяти килограммов корней. Их можно было есть прямо сырыми, просто отмыв от грязи, а можно было запарить и есть горячими. Внутри у корневищ тянулись, как луб, грубые волокна. На каждом торчали белоснежные наросты, похожие на крупинки проса. Если есть корни сырыми, они были сладкими и терпкими. В готовом виде вся терпкость пропадала, гэ становилась крахмалистой и вязкой. И то, и другое было приятно. От плотных, как луб, волокон часто сводило скулы. Было ощущение, что жуёшь сахарный тростник, выжимая из него сладкий сок. Одного-двух корней хватало на всю семью. Иногда мама разминала эти корни и варила их вместе с рисом или кукурузой. Пахла такая каша божественно, но есть её было трудно – приходилось сильно жевать. Вкуснее всего было размять корни в колоде, где мяли кукурузу, сцедить весь крахмал и сладкий сок и наделать из них белоснежной лапши. Сперва её варили в большом котле, а потом жарили, пока она не пристанет к кастрюле, не станет золотисто-жёлтой. Лапшу сдабривали солью, маслом, острым перцем. Они были невероятно вкусными, эти дары гор.
Сок эти толстых корневищ, как молоко матери-земли, питал каждого обитателя нашей деревни в дни весеннего и летнего недорода. Даже за три года самого страшного голода благодаря диким ягодам, фруктам и корням мы не потеряли ни одного человека. Ни один обитатель Шанбучи не умер от голода.
Из-за голода мне довелось пережить ещё одно значительное событие. Оно было никак не связано с деревней. Или с бригадиром. Или с деревенскими. Только со мной одним.
Стояло лето. Последняя четверть в начальной школе. Всё цвело и кустилось. Злаки и овощи наперегонки шли в рост, спешили выпустить наружу цветы и дать завязаться плодам.
Рис уже наливался, шумел колосьями. Он был весь усыпан золотистыми цветами. Одни ещё трепетали лепестками, другие уже опали, и их место заняли зёрна. На нежных зачатках зёрен ещё лепились чешуйки цветов, словно не в силах их покинуть. На разделительной меже виднелись проростки бамбука, вьющиеся побеги коровьего гороха и фасоли льнули к ним, образуя плотные ширмы, разгораживавшие поля. Кукуруза уже стояла выше человеческого роста, её зелёные блестящие листья танцевали на ветру, махали струящимися рукавами. На каждом огороде всё заполняли перцы, баклажаны, люффы и – самые заметные – цветы тыквы, трубившие каждый день в свои репродукторы.
Однажды, когда мы с сестрой шли в школу, по дороге нам попался огород, где висели несколько первых крепких огурчиков. Огород был на небольшом возвышении, размером с пару лежанок. Моя душа запела. Я подумал, что наконец-то на обед будет что-то вкусненькое и не придётся снова мучиться от голода. Мама уже много дней подряд варила жидкую кукурузную кашу с толчёными корнями. Овощей не было и в помине, и я никак не мог наесться. Эти огурчики привели меня в полный восторг. На низеньких подпорках, увитых зеленью, всё было усыпано жёлтыми цветами, проглядывавшими из-под свежих листьев. Под ними прятались махонькие плоды. Они уже были толщиной с большой палец, а длиной – со средний. На плодоножке ещё висел канареечно-жёлтый цветок. Я не раздумывая запрыгнул в огород и уже было собирался сорвать их, как сестра остановила меня вопросом:
– Ты чего там рвёшь?
– Огурцы.
– Это же не наши, а чужие. Нельзя их рвать. Это всё равно что украсть.
– Есть хочу, плевать мне на всё.
Сказав это, я сорвал огурец. Его нежная кожица была вся покрыта мягкими колючками.
Сестра снова попыталась остановить меня, сказав ещё решительнее:
– Нельзя красть. Кто крадёт, тот разбойник!
– Отстань, хочу и буду! – взбесился я.
Я разом сорвал четыре штуки.
Сестра кричала:
– Это двор инвалидки, нельзя у неё красть!
Я остановился:
– Правда что ли?
– Правда! Не кради, оставь их в покое!
Когда я услышал это, мне стало стыдно, и я заорал:
– Что ты нудишь всё «не кради-не кради», задолбала уже!
Сестра ответила с нажимом:
– Потому что так и есть.
Я выпрыгнул назад из огорода и протянул ей огурцы, чтобы она спрятала их к себе в портфель.
Но сестра сказала:
– Это краденые, не буду. Клади к себе в портфель!
Я выпучился на неё и сказал, что ко мне не влезет. Потом я вскинул руку, собираясь её ударить:
– А ну клади!
Сестра испугалась и послушно вложила огурцы в портфель.
Мой портфель был набит книгами и тетрадками под завязку, там бы действительно ничего не поместилось.
– Ты украл у инвалидки. Всё расскажу про тебя. Учителю и маме, – заныла она.
Я снова вскинул руку:
– Посмеешь, я тебя прибью!
Сестра больше не осмелилась ответить.
Стоило мне войти в класс, как я почувствовал себя заключённым. Я всё время думал об этих огурцах. Они, как четыре маленьких гранаты, норовили взорваться у меня в руке. Я ужасно жалел о своей минутной слабости, о том, что украл, и особенно о том, что украл их у бедной, ни на что не способной женщины. Дом инвалидки был у самой школы, каждый день, когда мы шли на уроки или с уроков, мы видели её. Ей было лет семьдесят с лишком. В детстве она упала в печь и обожгла себе лицо – оно было всё покрыто рубцами. Ещё у неё была заячья губа. Инвалидка никогда не была замужем, и детей у неё не было. Она была ужасно жалкая и дряхлая. Несчастные огурцы дались ей с превеликим трудом, и теперь, когда я украл их, я чувствовал себя последним отребьем.
С детства мама учила меня и сестрёнку быть честными, никогда не красть. Учитель тоже всегда говорил, что нельзя воровать и грабить, нельзя прикарманивать чужое. И я всегда старался быть таким, как они говорили, кристально честным, безукоризненно неподкупным. Что же со мной случилось? Как я мог украсть, как я мог так поступить? Я был примерным учеником, главным школьным активистом, я не мог сотворить такую глупость, стать таким нравственным уродом. Я должен был во всём честно признаться учителю. Но я жутко боялся, что стоит мне признаться, как всему придёт конец.
И вот я терпел. Один урок. Потом второй. Не смел рассказать всё начистоту. Но я боялся, что сестрёнка доложит обо всём сама. Если это случится, что я буду делать? Лучше уж рассказать самому.
Слова так и вертелись на языке, но я держал их глубоко в глотке. Я знал, что сестра – человек добрый, она не станет доносить на меня.
Но я боялся, что кто-то меня видел. Мама часто говорила: не рой другому яму, если хочешь, чтобы люди не знали за тобой дурного, не поступай плохо. Боженька всё примечает. Если меня и правда кто-то заметил, выйдет совсем скверно.
После всех бессчётных «но» на последнем уроке я наконец собрал свою волю в кулак и встал.
Медленно-медленно я поднял руку так высоко, как смог.
– Что такое, Сюэмин? – спросил учитель.
Я встал, понурил голову и сказал:
– Учитель, я…
– Да что с тобой?
Я снова, заикаясь, попытался произнести:
– Я…
Тут сидевшая со мной рядом сестра настойчиво замахала мне рукой, чтоб я ничего не говорил.
Если бы она не стала махать, всё было бы прекрасно. Но тут я зачем-то сказал, что это она воришка!
Ведь я же хотел сказать, что это я!
Все испуганно зашикали.
Сестра завыла, как от боли:
– Ты…
Учитель спросил:
– Что она украла?
– Огурцы, – ответил я. – Она украла огурцы у инвалидки.
Учитель обернулся к сестрёнке:
– Сюэцуй, ты украла?
Она заплакала от обиды:
– Я не крала.
Учитель сказал:
– Если ты не крала, почему он говорит, что крала?
– Наговаривает на меня, хочет меня опоганить.
– Ничего подобного, если не верите, – сказал я, – проверьте её портфель.
Учитель сказал сестре:
– Сейчас я проверю твои вещи.
Что вышло в итоге, в общем можно догадаться.
Я-то думал, что сестра уличит меня в моём проступке, но вместо этого она разрыдалась и в отчаянии выбежала из класса.
Ради меня она без лишних слов приняла всю вину, которую я спихнул на неё.
Я почувствовал, как граната в моих руках рассосалась, и на время успокоился.
Но то, что случилось потом, до сих пор не даёт мне покоя, да, верно, и до самой смерти будет бередить мне душу.
Я знал, что поступил дурно, и не смел вернуться домой. Я просто шатался по горам.
Сестрёнка же давным-давно вернулась домой, потому что ей было стыдно оставаться в школе. Она ждала маму, чтобы поплакаться ей о своей обиде.
Кто мог подумать, что мама не поверит её словам, а скажет:
– Твой брат украл? Очернил тебя? Да ни за что не поверю! Наверняка ты, дурочка, сама украла!
– Я правда не крала, это всё он!
Услышав это, мама взбесилась:
– Хочешь на него всех собак навешать? Да твой брат – лучший ученик во всём уезде, разве он мог украсть? Хочешь испоганить его доброе имя? Посмеешь ещё сказать, что это он, прибью!
Когда сестра поняла, что хоть войди в реку Хуанхэ, всё равно не отмоешься, она закричала:
– Давай, убей меня! Это не я была! Это всё он!
Увидев, что сестра не сдаётся, мама связала её верёвкой, примотала к стремянке и стала зверски молотить бамбуковой палкой.
Она била её и орала:
– Будешь ещё красть?! Будешь сваливать на брата?! Дрянь бесполезная, тварь бесхребетная, позоришь меня на всю округу. Прибью!!!
Если бы не учитель, который как раз зашёл домой пообщаться, мама бы, наверное, точно забила её в тот день насмерть.
Из нас двоих мама всегда больше любила меня. Её нежность ко мне была раз в сто больше, чем любовь к моей сестре.
Сестра была уже на последнем издыхании, когда учитель спас её. На её окровавленном теле не было живого места. Перед тем как потерять сознание и упасть в руки учителю, она твёрдо сказала:
– Я правда не крала, я хорошая.
Учитель заплакал.
– Я верю тебе, Сюэцуй, – сказал он. – Ты хорошая. Мы все верим тебе, что ты хорошая.
Но ни взрослые, ни ребята не поверили. Сестру обзывали воришкой до самого конца начальной школы.
До этого все любили с ней играть. Но после случая с огурцами они перестали брать её в свои игры. Сколько бы я ни говорил, что это я украл, они не верили мне. Все думали, что я выгораживаю сестру. Дети шарахались от неё, как от чумной. За спиной у неё одноклассники говорили, что она крадёт, а с воришками никто играть не хочет. Сестрёнка стояла одна на улице и плакала от отчаяния.
Моя трусость, моё себялюбие, моя подлость погубили сестру. Её детская душа пострадала безвинно. Её чистота была запятнана, и она лишилась всех своих немногих радостей.
Я был подлец!
Когда мама наконец поверила, что это я украл огурцы и обвинил в краже сестру, она чуть не взорвалась от гнева. Мама и представить не могла, что такой малец, как я, станет так гадить другим людям. Она велела мне встать на колени и признать свою вину.
– В детстве уму-разуму не научишь, дурак дураком и вырастет. Ведёшь себя как проходимец! Если раньше не научился за руками следить, так я сейчас возьму верёвку и свяжу тебя как следует, поглядим, как ты станешь воровать!
Сказав это, она и правда скрутила меня верёвкой и страшно избила.
– Идиотина! Хорошему не учишься, ишь, выучился воровать! Сперва по мелочи, а там выйдет настоящий разбойник, если сегодня не переломаю тебе руки, снова примешься за старое!
От каждого маминого удара у меня на теле появлялся алый рубец, который полз по коже, как дождевой червяк.
Ей всё было мало, даже когда бамбуковая палка сломалась у неё в руках.
Мама взяла новую и продолжила бить меня. Она кричала:
– Чёрт с ним, что украл, так ещё имел наглость свалить на сестру! Родной сестре подгадил! Наплевал на закон божеский и человеческий! Да если я с тобой сегодня не управляюсь, станешь всем вредить, гадёныш! Больше всего таких ненавижу!
В конце она уже не могла больше бить меня – у неё страшно ныла спина и болели ноги. Она холодно выплюнула мне в лицо:
– Теперь ты своей сестре по гроб должен! Поглядим, как должок возвращать станешь!
Каждое мамино слово, как кнут, резало по моему телу и по моему сердцу. И по душе. Больнее плети, больнее ножа, острее пилы.
С тех самых пор я понёс свой крест. Я каялся каждый день, каждый день препарировал себя и искупал свой грех. Я твердил себе, что нужно быть благородным и честным, что нельзя строить козни, нужно быть порядочным и великодушным, нельзя вредить другим ради собственной выгоды и ни в коем случае нельзя, чтобы такой позор снова повторился.
Мне кажется, что все нынешние благородство и честность стоят на крепкой основе тогдашнего позора. Все нынешние порядочность и великодушие вырастают из того, как я свалил вину на сестру.
Несмотря на сложные обстоятельства, что так часто встречаются на пути, на предательство и тайные козни я не мщу, не отвечаю злом на зло, а стараюсь быть снисходительным, смотреть на всё с улыбкой. Всё по той же причине.
Сестрёнка своим телом и душой, своим потерянным добрым именем, своей болью выправила мой жизненный курс. Она подарила мне стойкость и бесстрастность, терпимость и выдержку.
Мама, стоя за спиной у сестры, тоже выправляла стрелку моего буссоля.
Голод и бедность нашей эпохи невольно покоробили детскую душу и столь же безотчётно крестили её в новую жизнь.
Это была единственная кража в моей жизни. Единственный подлый поступок. Без мамы – кто знает – я, быть может, сменял бы всю свою жизнь на те огурцы. Изломал свою честь и совесть этой подброшенной добычей.
Мама била меня так зверски два раза в жизни. Она укрепляла мой дух и правила мой нрав.
Глава 11
Когда мама развелась с отчимом, они, конечно, больше не враждовали в открытую, но стали совсем чужими. А когда двое совсем чужих друг другу людей вынуждены жить под одной крышей, такая жизнь, с вечно опущенной головой, совсем не сахар. Как несуразно и глупо, когда над одной кровлей вьются два дымка от огня! Есть в этом безнадёжность и беспомощность, заключённая в словах: плохая жизнь лучше хорошей смерти. Мой школьный учитель, проникнувшись сочувствием к маме, попросил своего родственника, чтобы он пустил нас пожить у себя, в маслодавильне другой производственной бригады. Этот его родственник был бригадиром. Он был человек добрый, справедливый, отмеченный боевыми заслугами, никто бы не посмел пойти против его слова. Он сказал маме: «Сколько хотите, столько и сидите здесь, никто вас не погонит».
Так бесконечный сериал наших сложных отношений дошёл до своего последнего сезона.
За день до нашего переезда мама перестирала отчиму и детям всю одежду и бельё, залатала все дырки. Она штопала и украдкой вытирала слёзы. Столько лет прошло бок о бок с утра до вечера, столько лет они ругались на чём свет стоит – за это время кусок железа уже рассыпался бы от ударов в пух и прах. И вот всему подходил конец.
Отчим зарезал курицу, чтобы мы могли последний раз поужинать вместе. Мама и отчим сидели за столом молча, все в слезах. Мы с отчимовым сыном говорили тепло, безо всякой ненависти, но с болью разлуки. Одна куриная ножка досталась сестре. Вторая несколько раз перекочевала из моей миски в миску отчимова сына и обратно и в конце концов вернулась в кастрюлю. Никто из нас не решился съесть её. Каждый хотел отдать её другому. Да, мы дрались, мы ругались, и так и эдак, но всё ж таки прожили под одной крышей так много лет, что время, как капли, падающие со стрех, успело оставить на нашей твёрдой жизни свой мягкий след.
Домашней утвари у нас считай совсем не было, и безо всяких помощников мы с отчимом разъехались за один день. Когда отчим с домочадцами помог нам разместиться в маслодавильне, мы проводили его почти что до самого дома.
Мама сказала:
– Если плохо за вами ухаживала, вы уж простите.
Отчим ответил:
– Не говори так, это всё я. Из-за меня вы настрадались. Я виноват перед вами.
– Просто судьба расстаться, никто ни перед кем не виноват, – ответила мама. – В жизни никогда не знаешь, как повернётся, лучше смотреть вперёд, чувства от сердца – они не закончатся.
– Это да, так просто уже друг от друга не отлипнешь. Я буду присматривать за вами.
– Да бог с ним, сам за собой следи и ладно. Не слушай, что люди болтают. Вокруг шашечной доски все огого какие мастера.
– Знаю, я в своё время переслушал пересудов. Через них и вас потерял.
– Если нужно будет чего постирать или заштопать, ты приноси. Это не мужское дело.
– Ладно, ты, мать, женщина слабая, если вдруг разболеешься, пришли Сюэмина или там кого с весточкой.
Мама взяла меня и сестру за руки и сказала:
– Дальше мы не пойдём, ступайте с богом. Столько лет сидели у вас на шее, хоть отдохнёте.
– Это мы, вся наша семья, виноваты перед тобой и перед детьми. Плохо к вам относились.
– Что уж сейчас об этом. Столько лет вместе растили детей, и будет.
Отчим остановился и всё никак не хотел идти дальше.
Мама сказала:
– Ступайте, всё равно будем в одной бригаде. Каждый день будем видеться. Идите уже домой, всё в руце божией. Всё равно каждому идти своей дорогой.
Отчим взял за руки детей и, поминутно оборачиваясь, побрёл прочь.
Мама долго стояла с нами в горной впадине и глядела им вслед.
Пройдя немного, отчим вдруг бросился бегом обратно, не посмотрев на нас, обхватил маму руками и всё никак не хотел её отпускать. Они тихо плакали в объятьях.
Эти тесные объятья были печалью и болью разлуки, были раскаянием и утешением. После них отчим уже навсегда потерял нас, лишённый самой ненависти и предметов её приложения.
Эти объятия на горном склоне стали последним кадром их мелодрамы, её скорбным финалом.
Они были как два обугленных временем, но неподатливых пня. Два дерева, покрытых шрамами, пускающихся в бурный рост.
Глава 12
Маслодавильня была очень большая, размером с десяток обычных домов. Мы занимали всего один её угол. Каменные вальки, прессы, песты тихонечко лежали вокруг. Нас встречал неистребимый запах масла.
Мама вместе с нами нарубила много палок для глинобитных стен и укрепила наш маленький уголок. Так у нас появился новый дом, вдали от старой деревни. Он стоял на отшибе, но был завораживающе прекрасен – как на картине. На стыке гор и реки, на самом краешке человеческого жилья, в глубокой долине с отвесными каменными стенами, слетала вниз лента водопада, и зелёные холмы раскрывались по обе стороны от неё, как страницы книги, шуршащей зелёными листами. Этот отвесно падающий водопад был как шёлковая закладка между страницами. Вдоль горной речки стояли несколько ирригационных колёс, трудившихся с завидным спокойствием и усердием. Они оставляли впечатление несуразности, ветхости и при этом совершенной умиротворённости. Колёса вращались, как старики обмахиваются веерами из листьев рогоза: от каждого малого покачивания по их трубкам начинала бежать вода, как слабый ветерок от движений запястья.
Каждый день мама ходила к водопаду умываться и мыть овощи. Искрящийся, как золото, водопад дробил водяные жемчужины в мелкую пыль, рассыпал эту пыльцу по маминому телу и вдувал её в мамины лёгкие. Там было два озерца – одно мелкое и одно глубокое. Глубокое было зелёным до насыщенной черноты, похожим на тёмный нефрит. Мелкое отражало свет весёлой рябью. Колкое солнце ложилось на волны переливчатым блеском, разбивалось на них в бессчётные блёстки и острые иглы света. Иногда из озёр поднималась радуга и, как огромная арка, принимала маму под свой многоцветный свод. Мама полоскала под радугой бельё или, присев на корточки, перебирала и мыла зелень, и её силуэт становился частью умиротворённого и волнующего пейзажа дальних гор. В обрамлении этой картины она сама превращалась в скромную и прекрасную горную богиню.
Стайки горных птиц вылетали из леса, падали в кусты и лакомились дикими ягодами. Больше всего им нравились акебии, вызревавшие в восьмом месяце на длинных лозах. Они были длиной с банан, но толще банана – как два-три банана, сложенные вместе. На вкус они тоже были много слаще. Они свешивались связками, как ветряные колокольчики. Когда плоды созревали, они лопались по шву – сверху вниз: сперва совсем немного, потом всё сильнее и наконец раскрывались полностью. Изнутри торчала наружу снежно-белая мякоть, похожая на цилиндрик пломбира, сказочно-сладкая. Птицы налетали гурьбой, облепляли кусты и принимались выклёвывать белую мякоть. Наевшись до отвала, они рассыпались по земле и по веткам вокруг маслодавильни – пели, гуляли, развлекались. Всё зелёное пространство перед глазами было усеяно скачущими птицами. Порой между ними осторожно проскальзывала белка или две – они бежали покопошиться в маслодавильне, но при малейшем шорохе стрелой бросались прочь и оказывались на верхушке дерева. Дикие кролики были куда медлительнее и ленивее белок. Как заблудившиеся дети, они перебирали лапами с опаской и задумчивостью. В окружении этих зверей и пернатых нельзя было остаться невозмутимым. Я срезал бамбуковую палку, согнул её, как лук, и наделал ловушек для птиц. Если оставить ловушку в лесу, рассыпав немножко зёрен, то всегда можно было поймать пару-тройку горлиц, дроздов или фазанов. В снежные дни, когда птиц было по-прежнему много, мы с сестрой разбрасывали на снегу охапки рисовой соломы, рассыпали пригоршни крупы и заманивали добычу. Мы ставили над крупой перевёрнутое решето для золы и обкручивали вокруг его опоры верёвку, а конец её протягивали до дома. Оставалось только спрятаться и ждать. Как только птахи в поисках корма оказывались под решетом, мы дёргали за верёвку, опора падала, решето с мягким хрупом опускалось на землю и в ловушке оказывалось до десяти птиц за раз. Ничто не могло описать нашу радость. Это было, возможно, самое счастливое время моего детства.
В тот день мама полола со всеми сорняки на кукурузном поле, когда прибежал совершенно ошалелый дядька Вэньгуй и сказал:
– Мой брат умер. Я пришёл сказать тебе. Хочешь с ним попрощаться?
Мама не говоря ни слова опустила мотыгу и пошла с ним. Бригадир закричал:
– Сестра! Сейчас самая страда, куда ты потащилась?
– Умер Сюэминов тятька, пойду с ним проститься, – ответила мама.
– Столько лет как разбежались, какого чёрта?! Не пущу! – отрезал бригадир.
– Так это же Сюэминов родимый!
– Из-за Сюэминова тятьки всё бросишь? Да у Сюэмина этих тятек навалом! На всех не набегаешься!
Все заржали.
Мама знала, что бригадир специально издевается над её многомужеством. Она стиснула зубы и молча заплакала.
Бригадир презрительно хмыкнул:
– Плачет кошка, что мышку съела! Когда это ты, сестра, стала такая высоконравственная? С живым развелась, да с мёртвым спелась!
Тут не выдержала тётушка Ханьин, она гневно закричала бригадиру:
– Тянь Фанкуай! Да что ты за тварь бессердечная? Человек уже УМЕР! А ты всё продолжаешь вставлять палки в колёса! Какой бригадир так себя ведёт? Почему ты не дашь ей пойти? Боишься, что черти утащат?
Бригадир неловко замямлил:
– Не нравится она мне.
Тётушка Ханьин продолжила ругать его, нарочно не понижая голоса:
– Что тебе не нравится? Что она тебе сделала? Гляди, она же не толкует, как ты её достал. Будешь так притеснять её, сниму тебя с должности! Посмотрим, сколько ты пробесишься.
Потом Ханьин развернулась и сказала маме:
– Ступай, сестра! Нечего тут препираться с Фанкуаем! Если чего – я подсоблю. Ты ему не по зубам!
Мама, рассыпаясь в благодарностях, поклонилась тётушке Ханьин, бросила злобный взгляд на бригадира и, не оборачиваясь, пошла вслед за Вэньгуем.
За спиной у неё звучали слова Ханьин:
– Скажу сразу: кто из вас посмеет ещё сделать что плохое сестре или её детям – узнает, что будет!
Дядька Вэньгуй спросил:
– Надо Сюэмина прихватить попрощаться или как?
Мама бросилась бегом в школу, чтоб спросить меня, хочу я пойти или нет. Я сказал:
– Не пойду. Кто это вообще такой? Я не знаю.
– Сходи, сынок, – сказала мама. – Знаешь не знаешь, всё одно твой тятя.
Я ответил:
– Да не знаю я его. Это не мой тятька, у меня нет тяти.
Мама улыбнулась:
– Откуда ж ты тогда такой взялся?
– Понятия не имею.
Мама потянула меня за руку:
– Пойдём, посмотришь на него в последний раз, больше уже никогда не сможешь.
Я вырвал у мамы руку:
– Я и в первый раз его не видел, с чего я буду смотреть в последний? Я уже взрослый, что же он не приходил посмотреть на меня?
– Он не мог.
– Чего это не мог?
– Дорога дальняя, он был занят по горло.
– Я тоже занят по горло, надо учиться.
Учёба была моим самым главным аргументом. Мама больше всего боялась, что я буду плохо учиться, что что-нибудь помешает мне.
Тогда дядька Вэньгуй сказал:
– Да бог с ним, пусть остаётся, он не видал никогда Цзяюня, можно понять.
Мама вздохнула и отправилась на похороны одна.
Когда она добралась до Аоси, тятя уже сиротливо вытянулся на дверной створке. Перед ним сидел только сын другой женщины – мой старший брат.
Мама увидела эту сцену, и у неё похолодело сердце. Слёзы сами полились из глаз.
Она бросилась тяте на грудь и зарыдала в голос:
– Ах ты, мерзавец, паскуда! Ни гроша ломаного на сына не дал, сбежал, гадина, прохлаждаешься там! Вывернулся и плевать хотел, живой ли он, мёртвый! Ладно, на малого тебе плевать, что со старшим-то теперь будет? Ах ты дрянь! Подлюга! Свалил, а им-то теперь как жить?!
Мамины вопли переполошили всю деревню. Тятя умер ровнёхонько два дня назад, но во всём околотке никто так не плакал по нём, сотрясая небеса. Мама плакала нараспев, чеканя слова с невиданным чувством. Притихшая деревня, что слушала муравьиную поступь, враз загорелась бойкой жизнью. Все побросали дела и метнулись к тятиному дому.
Мама обнимала окоченевшее тело и продолжала выть, взывая к небесам:
– Цзяюнь, ох, Цзяюнь! Горемычный ты человек! Пока жил, так на тебе разве что верхом не ездили, а как помер, так и гроба не дождался! Примотали к двери, да так и бросили – никто и закопать не догадается! Ради чего жилы рвал? Так и кончил неприкаянной душенькой! Никто о тебе не позаботился!
Вся деревня знала, на что она намекает. Все стали говорить, что и правда: Цзяюнь пахал на чужого дядю как вол, а как помер, так и бросили за ворота – вот уж как есть позорище.
Они имели в виду тятиного дядьку и его жену. Тятя всю жизнь был им как сын, крутился и так и эдак, только знай им прислуживал, кормил и поил их. Теперь, глядя на его бесславный конец, все еле сдерживали содрогание. Дядька Вэньгуй, который не мог больше на это глядеть, потому и побежал втихомолку за мамой.
Тятины родственники, с которых мать сдёрнула маску при всём честном народе, от смущения распалились и стали брызгать ядом.
Тятина тётка выскочила на улицу и заорала:
– Ты что, напрашиваешься? Суёшь тут нос не в своё дело, ещё в дом ко мне не хватало залезть! Цзяюнь уже помер, а ты что здесь забыла?
Мама вытерла слёзы и перестала плакать. Вместо этого она встретила атаку во всеоружии:
– Цзяюнь – моему сыну родной тятька! Что надо, то и забыла! Именно что забыла! Вы его сожрали с потрохами, а теперь мне и дела нет? Вы его заездили до смерти, а теперь вали откуда пришла? Это мы ещё поглядим! Спрятались там у себя в гнёздышке, набиваете брюхо, а моего сына родного тятьку выкинули на улицу, как бродячую псину, не боитесь, что он придёт по вашу душу?
Тятин дядька тоже подскочил к маме и стал угрожать ей:
– Ты что, правда напрашиваешься?
Мама распрямилась, упёрла руки в боки и бросила на него испепеляющий взгляд:
– Да, напрашиваюсь! Да я костьми здесь лягу, если надо! Давайте, прирежьте меня, если посмеете! – Сказав это, она выставила вперёд голову, как таран, и бросилась на тятиного брата: – Давай, ну, режь! Помру, так хоть с Цзяюнем свижусь!
Тятин дядька вскинул руки и попятился назад. На каждом шаге он обзывал маму стервой.
Мама развернулась к толпе и сказала:
– Если на дороге кочка, то её срывают, если дохлая змея на дороге валяется – всегда найдётся, кто уберёт. Если я стерва, то вы злодеи, пусть нас народ рассудит! Цзяюнь столько лет на вас горбатился, а вы ему даже ящика срубить не могли, даже в погребальный покой не пустили, посадили дитё малое по нему плакать, разве ж это по-человечески?! Пусть люди скажут, куда ваша совесть делась?








