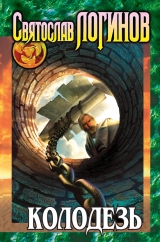
Текст книги "Колодезь"
Автор книги: Святослав Логинов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Что-то ты многовато понимаешь для рядового солдата… – проворчал ван Даммам. – А вот я посмотрю, как ты из ружья палить умеешь… тогда и увидим, что ты за гусь.
Ван Даммам подошёл к краю куртины, установил треногу, возложил на неё заранее снаряженное ружьё. Скат куртины был обильно покрыт известью и влажно блестел, недавно облитый новой порцией едкой жидкости. Громко чертыхнувшись, ван Даммам припал к прикладу и принялся целиться в одну из копошащихся вдали фигур.
– Боятся меня, – проворчал он сквозь нафабренные усы. – В первые дни у самой куртины скакали, но я их живо отучил… Теперь близко не подходят, понимают, нехристи…
Ружьё бабахнуло, подпрыгнув на треноге. Фигуры, сооружавшие вдали насыпь, зашевелились быстрее, кто-то опасливо пригнулся, но ни один человек не упал.
– Доннер веттер! – раздосадованно крякнул ван Даммам. – Дрянное у тебя ружьё!
– Ружьё хорошее, – твёрдо сказал Семён.
Забрал оружие у голландца и принялся чистить ствол. Засыпал мерку пороха, вбил пыж, опустил в ствол пулю и вновь плотно запыжил. Проверил кремень, всыпал на полку затравку и лишь затем глянул в сторону бывшего своего лагеря, выбирая цель.
Вон торчит Имран-бай – природный турок да ещё и ремесленник, не то портной, не то шорник. Закон строго запрещает брать турок в янычары, поскольку солдаты из них получаются самые дрянные. Немало денег истратил Имран, чтобы записаться в булук, ведь с янычаров и их родственников не берут налогов. Потом, год за годом, сказываясь больным, уклонялся от походов и, безданно занимаясь ремеслом, скопил немалый капиталец. И всё-таки не уберёгся – попал на войну. Правда, и здесь недостойный саплама выкрутился, сумел устроиться деведжи – в обоз. Деведжи над верблюдами надзирают, на штурм им ходить не нужно. А от земляных работ правила не освобождают никого, в те времена, когда закон создавался, никто траншей не рыл и брустверов не отсыпал, так воевали, нахрапом. Вот и пришлось Имрану, взявши лопату, лезть под пули. Хотя он вроде и не понял, что по отряду стрельнули. Стоит как ни в чём не бывало, лениво ковыряет землю.
Семён припал к прикладу, наводя ружьё на ярко разодетого дурака. Никого лучше выбрать нельзя – первый выстрел должен наверняка попасть в цель.
Красиво разукрашен отважный янычар, целиться в пёструю фигуру – одно удовольствие. Мишень на стрельбище так не расписывают. Оттого на войне случается столь много погибших. Будь Семёнова воля, он бы переодел солдат в одежды, которые издали так просто не заметить: мышистого цвета, тиноватого. А нарядную красоту оставил бы только для парадов – веселить владык и смущать женские сердца.
Краем глаза Семён заметил ещё одного человека, поднявшегося на недостроенный бруствер. Скособоченная фигура, перепоясанный широченным кушаком зелёный доломан, какие носят чорваджи, а на кече вместо обычного тифтика – вышитый золотом ускюф, выдаваемый агой за особые заслуги. Обознаться было невозможно: однорукий Исмагил ибн Рашид стоял на самом виду, окидывая цепким взглядом окрестности. И хотя бывший командир находился гораздо дальше, чем глупый Имран-бей, Семён решительно перевёл ружьё. Времени долго целиться не было, не тот человек Исмагил, чтобы торчать подобно деревянному джелями…
Ружьё больно ударило в плечо.
– Ты попал случайно, – обидчиво произнёс ван Даммам. – Я же видел, ты целился вон в того толстяка…
Семён не слушал. Опустив ружьё к ноге, он смотрел вдаль, где янычары суетились вокруг сражённого Исмагила. Странная, неживая улыбка бродила по лицу Семёна.
Прощай, Исмагил, сын Рашида. Ты был хорошим воином и справедливым начальником. Такими, как ты, укрепляется слава оттоманского оружия. Ты научил меня всему – биться саблей и голыми руками, владеть ружьём и скакать на коне. Не смог лишь одного – заставить полюбить чужую страну и вражескую веру. За это ты сегодня и наказан. Хотя так ли велико наказание? Ведь ты мечтал погибнуть в бою с неверными, стать после смерти шехидом. Ты шехид, Исмагил ибн Рашид; живи в раю, пей запретное вино, обнимай уцелевшей рукой нежных гурий и вспоминай единственную в твоей безупречной жизни ошибку.
Семён отвернулся и начал перезаряжать ружьё.
* * *
Мушкет Семёну всё-таки не вернули, но зато назначили командиром над десятком перекрещенных в папскую веру арабов, которые составляли вспомогательные войска. Семён не возражал. Ему вдруг стало неинтересно сражаться за португальского короля, который к тому же оказался и не португальским, а вовсе испанским. И дело не в том, что паписты еретики, а просто с первого взгляда Семён увидал, что в крепости царит спокойная, уверенная безнадёжность. Не было видно горящих глаз, не слышалось гневных речей; и хотя правильная осада по сути дела ещё не началась, защитники уже были готовы крепость сдать. Если уж сами португальцы таковы, то Семёну что за дело? Когда хозяева бьются без души, то пришельцу тем паче соваться вперёд не следует.
Как и в лагере осаждающих, Семён вооружился лопатой. Там рыл сапы и здесь рыл сапы. Там подводил мины – здесь контрмины. Ахти, батюшки, велика разница!
Хотя и разница тоже была. По ту сторону стен за Семёновой душой надзирал толстый и ленивый молла Халиль, а здесь этим же делом занимался остроносый патер Мануэл Эаниш.
Патер бегло разговаривал на арабском, знал несколько слов и по-турецки. Монашеская сутана, казалось, приросла к его худому телу, глаза горели истовым пламенем, и совесть не знала сомнений. Эаниш поминутно вертелся округ Семёна, пытая его о вероучебных догматах. Хвала Аллаху, что такие материи требовали куда большего знания языков, нежели было у Семёна и священника, вместе взятых. Да хоть бы и по-славянски спрашивал Мануэл, Семён всё едино запутался бы, не зная ответа. Что значит – в добрых делах или в вере заключено спасение? Вера без богоугодных дел мертва, духовные труды без веры бесплодны… Однако Семён помнил, что Мартынка тоже талдычил что-то о спасении верой, рассказывая, как папёжники посылали людей на костёр за несогласие в этом вопросе. И, боясь обмишулиться, Семён вновь на всякий случай прикидывался бельмесом, лишь крестился поминутно на спицу собора Сан-Себастьян и поминал Санта Марию, надеясь, что богородица не осерчает на такое коверканье её имени.
Ван Даммам, под началом которого теперь служил Семён, казалось, не слыхал богословских бесед, однако как бы случайно произнёс в удобную минуту:
– Монаху не верь. Злодейственная тварь, Ваалов прихвостень. Он с тобой, как кот с мышью, играется. Чуть оступишься – схватит. Он бы и меня давно в огонь кинул, только тогда крепость защищать будет некому.
Хотелось сказать: «Тут огулом никому верить нельзя…» – но, приученный годами плена, Семён лишь кивнул, как делал всегда, получая приказание по воинской части.
Война тем временем тянулась медленно и неуспешно. Лишившись командира, турецкий булук воевал лениво, однако взял одну из дозорных башен и занял укреплённое предместье Содоф, отрезав город от озера с питьевой водой. Особой беды в том не было – подземные цистерны под городом, выстроенные ещё в домагометовы времена, были налиты под завязку, так что воды хватило бы на все нужды, до самой весны, когда сухое русло на север от города наполнится влагой, принесённой с недальних гор. Разве что фонтан, игравший перед губернаторским домом, иссяк, знаменуя близящиеся времена упадка.
Семёновых предложений никто не выслушал и на этот раз, так что лодки со стенобойными орудиями прибыли бестревожно. Пушки установили на отбитой дозорной башне и на батарее, подготовленной янычарами, и грохот канонады возвестил, что дни португальской власти сочтены.
В городе как избавления ждали эскадры из Гоа, и вот однажды поутру на горизонте купно забелели паруса. В городе поднялся трезвон, пушки на уцелевших укреплениях выпалили, салютуя флоту. Корабли двигались, разворачиваясь за цепочкой островов, где глубина позволяла им быть. Затем, в ответ на крепостную канонаду, рявкнули корабельные орудия. Часть ядер полетела в сторону форта Кальбу, где реяли турецкие прапоры, часть обрушилась на форт Мерани, замыкавший вход в бухту и остававшийся в руках европейцев. Лишь после этого на мачтах прибывших судов воинственно заполоскалось знамя миролюбивых Нидерландов.
Корабли, не задерживаясь, развернулись и канули в морском просторе. А на следующий день в крепости хватились, что Питер ван Даммам бесследно исчез, а вместе с ним исчезли и все документы, бывшие в его ведении. Пропали планы и кроки местности, чертежи оборонительных сооружений, маршруты и карты дорог. Заодно пропали торговые договоры, купеческие сказки и кое-что ещё. Руис Ферейра громогласно проклинал шпиона, грозил ему судом небесным и земным, обещая и там и там скорую расправу.
Бегство голландца боком обошлось и Семёну. Адмирал вызвал его к себе, орал, брызгая слюной и наливаясь яростью. Семён на смеси всех языков обещал преданность и верность. Дело кончилось тем, что адмирал потребовал, чтобы турецкие батареи, обосновавшиеся во взятых фортах, были уничтожены уже к завтрашнему дню. Семён метался, в свою очередь орал на подручных землекопов, и к вечеру следующего дня контрмина была подведена под турецкие сапы. Заряд отлично перетёртого зелья рванул перед самой батареей, обратив турецкую позицию в развалины. Удача несколько утешила престарелого адмирала, а через сутки в проливе объявился долгожданный испанский галеон.
Войти в бухту корабль не мог, во всей Аравии только в Аденском порту глубина у берега достаточно велика для морских судов. В прочих местах корабли останавливались на рейде за полосой рифов, сгружая товары на лодки, кияки и даже китайские джонки, на корме которых стоит бамбуковая фанза с изогнутыми воскрылиями кровли. Малые плоскодонные суда подходили к самому берегу, сбрасывали товары на песок, а оттуда босоногие носильщики волокли их в магазины, обустроенные у самой стены. Обратная загрузка судов протекала тем же порядком.
Бухту отделяли от города четыре холмистых острова, на каждом из которых возносились сторожевые башни, позёвывающие в морскую даль медными ртами пушек, тех самых, что прозевали голландскую эскадру.
Таким образом, напасть на город с моря было трудненько, а получить оттуда помощь – проще простого. Длинноствольные корабельные орудия дружно заговорили, заставив трусоватых арабов отойти, а турок глубже зарыться в землю. Затем на берег сошли полсотни моряков в испятнанных смолой робах, парусиновых штанах и башмаках с медными, позеленевшими от морской воды пряжками.
Казалось бы, можно было нанести повстанцам решительный удар и снять осаду. Но, видать, крепко смирились португальцы с поражением, потому что вместо войны моряки начали грузить на корабль всё, что можно было увезти из оставляемого города. Разве что падран – каменный крест с вытесанным распятием и латинской надписью: «Anno Domine 1507» не сдвинули с места, оставив на поругание язычникам. Мстилось, время повернуло вспять: в тысяча пятьсот седьмом году от рождества Христова португальцы обрели сей город, а в исходе тысяча двадцать восьмого года хижры принуждены возвратить его мусульманам.
Руис Ферейра д'Андрада, вспомнив о морской карьере, первым обосновался на корабле, подняв на мачте адмиральский стяг.
Защищать брошенный город предстояло небольшому отряду местных выкрестов, старшим над которыми поставили Семёна. Семён ничуть не обманывался по поводу своей судьбы и отстаивать город не собирался. Не хотелось и проситься на корабль, как делал кое-кто из крещёных аравитян. За полгода воинского сидения Семён превзошёл и арабский, и португальский языки, хотя предусмотрительно скрывал свои знания. Теперь он хвалил себя за предусмотрительность, слушая, как Мануэл Эаниш объясняет корабельному патеру, что измаилиту настоящим католиком всё одно не бывать, и, значит, беглецов отвезут отсюда прямиком на кемадеро, где давно уже сохнут дрова для святого костра.
Утром того дня, когда корабль должен был покинуть Маскат, Семён пришёл на берег получить от бывших командиров последние указания. Выполнять эти указания было уже некому; за полчаса до того Семён собрал своё ополчение и велел, едва галеон снимется с якоря, бросать позиции и прятаться, кто куда может. Для себя Семён приглядел местечко в полуразрушенной сапе, где нечем покорыствоваться и, значит, никто не будет искать. Совет новообращённые христиане выслушали молча, никто не сказал ни слова.
– Христос вас не покинет, – произнёс на прощание Семён, глядя в мрачные лица.
Мусульмане, те, что ещё оставались в городе, попрятались уже давно, и улицы поражали кладбищенской пустотой. Как сказал спаситель: «Оставляется вам дом ваш пуст».
Возле берега было причалено всего несколько корабельных ялов, уже ничем не гружённых, а пришедших за людьми. Остальные лодчонки беглецы за день до того спалили огнём. Адмиральский адъютант передал Семёну приказ защищаться до последнего и удерживать город до подхода новой эскадры. Семён согласно кивнул и замер, глядя поверх голов.
Убраны сходни, дико заорал боцман, последний ял отвалил от плоского, усыпанного снежно-белым песком берега. Теперь те, кто остался в городе, могут рассчитывать только на себя. Королевский галеон поднимает паруса. Вот приняли последних людей, подняли на борт шлюпку. Утренний бриз в Кальи-аль-Фарс редок и непостоянен, но зато частенько случаются шквалистые злые ветра шемаль и каус, опасные малым судам и приятные великим. Вот и теперь – зарябило голубую гладь, вспенились барашками волны – подул попутный ветер с Гермзира. Хотя для бегства все ветра попутны.
Во всём проливе не видно ни единого кораблика: пираты Катара прячутся, ожидая, пока уйдёт слишком сильный противник. Зато уж потом они своё возьмут: не раз помянут мятежные жители Маската скорбные времена португальской неволи, когда так ли – сяк, но во всяком деле был порядок и всякий знал, за что и какой ему скорпион уготован. А пока – народу радость: грабить неувезённое и резать тех, кто не сумел бежать. Значит, и Семёну пора ховаться, а потом, примкнув к татевщикам, уходить из обманного города.
Громада галеона окуталась дымом, разом грохнуло вдали и округ Семёна: едва уши не лопнули от грохота. Всем бортом в полсотни медных пушек португалец ударил по собственному форту. В одно мгновение так никем и не взятый Мерани-форт обратился в развалины.
Семён заметался.
Что ж они делают, ироды?! Ведь сами оставляли заслон, а теперь бьют, зная, что сюда люди Сеифа ещё не вошли. Креста на них нет! От кого теперь спасаться?
Семён кинулся прочь, понимая, что новый удар падёт на городские дома, и в это мгновение второе дымное облако покрыло галеон, но грохота Семён уже не услышал.
Очнулся оттого, что со всех сторон разом хлынула вода, словно упал в йордань перед губернаторским дворцом, над которой в былое время плескал фонтан. Семён закашлялся, хотел руки в защиту вскинуть, да не смог: стянуты оказались за спиной крепкой бечёвкой. Открыв глаза, Семён увидел, что рядом, держа опростанное ведро, стоит горбоносый мужчина в красной турецкой феске. Семёновы сабля и пистолеты торчали у него за поясом, видать, он сначала разоружил и предусмотрительно связал бесчувственного Семёна и лишь потом принялся отливать его водой, желая узнать, жив неверный или уже отдал душу на суд Аллаха.
А хоть бы и жив, что за радость с того? Не сумел затеряться, значит, пощады не будет. Кого другого могут оставить в живых, а беглого янычара – нет. Кто ел мясо из османского котла, должен век султану служить или погибнуть.
– Вставай, гяур! – приказал горбоносый, и у Семёна в душе затеплилась слабая надежда: горбоносый говорил по-арабски, и говор изобличал в нём оманца. А воины Сеифа турок недолюбливают, всё равно что казанские татары русских. Власть сельджукскую до поры признают, но не любят.
Семён с трудом сел.
– Хвала Аллаху, господу миров! – произнёс он и добавил по-тюркски, желая отвести от себя подозрение: – Развяжи меня, добрый человек.
– Молчи, гяур! – Горбоносый ухватил Семёна за ворот рубахи, рванул так, что нательный крест выпал в проём на всеобщее обозрение.
Оманец обидно захохотал и, замахнувшись, погнал Семёна в сторону торговой слободы.
В одном Семёну повезло, янычара в нём не признали, а если и признали, то сочли за благо промолчать. Много ли корысти глядеть, как красуется на колу отрубленная голова, а живой раб ценой равен трём верблюдам. Деньги дороже справедливости.
Горбоносый на большой лодке отвёз Семёна в персидский город Гурмыз, чтобы продать, не боясь султанских сбиров.
Гурмыз стоит на острове, дважды на дню вода подтопляет его стены. Зато народ живёт безопасно, и торговля во всякое время идёт бойко. Гурмыз – город купеческий, шахский паша следит за порядком, получает налог сразу от базарных старейшин и в дела отдельных купцов не мешается. За то и любят торговцы низкий остров, почтительно величая его Дар-ал-Аман – Обитель безопасности.
В старые времена слава гурмызская по миру гремела, корабли со всего света сбегались, дорогой товар сюду и онуду перевозя. Но потом пал город перед португальскими пушками, и на сто лет замерла жизнь. Лет с двадцать тому кызылбаши вернули островную крепость, и хотя прежнего величия город не достиг, но торговая жизнь на безводном острову вновь зашевелилась.
Там на базарной площади свела нелёгкая судьба Семёна с ыспаганским гостем Мусою.
Был Муса самовластен, складного торга не признавал, товарищев не имел: сам большой, сам маленький; доход весь мой, и протори – в ту же голову.
Семёна он перекупил после долгого торга, накинув сверх других торговцев разом тридцать динаров. Затем, слова не сказав, отвёл его в кузнечный ряд, где Семёну наклепали медный ошейник с петлёй, чтобы не заковывать каждый раз раба, а просто продевать цепь – и сиди, как пёс в конуре. Прежде такие кольца Семён видал только у скоморохов, вставленными в медвежью ноздрю, на случай ежели мишка шалить вздумает.
С первой минуты полюбил Семён нового хозяина всей ненавистью, что в душе жила, и за последующие годы ничего не растерял, а лишь приумножил.
Но покамест было только начало. Муса привёл Семёна в караван-сарай и прикрутил к коновязи рядом со всяким вьючным скотом. Сам поднялся на помост, уселся на вышитые подушки и велел принести кальян. Курил. Потом кушал виноград и творожные шарики с кардамоном. Пил шербет и снова курил. А Семён даже сесть не мог, поскольку земля вокруг была залита ослиной мочой.
– Теперь тебе понятно, кто ты есть передо мной? – наконец снизошёл Муса к невольнику. – Помни это всегда, и спина твоя будет целой.
Семён молчал, вспоминая добродушного Фархад-агу и сытное янычарское бытьё. И неумный поймёт, что те времена кончились. Не всё кушать пирога, отведай и батога.
* * *
– Что разлеглись, свиньи, твари вонючие, божье наказание, дети греха? Живо вставайте! Или вы собрались до скончания веков дрыхнуть?! – Голос у Мусы зычный и, кажется, мёртвого может поднять и заставить приняться за работу. Жирный голос, рокочет, что базарный барабан, не подчиниться ему нельзя. Всякое слово Муса произносит так, словно его только что праотец Адам сочинил и оно ещё новизны не потеряло, не превратилось в ту брань, что на вороту не виснет. Поименует тебя Муса свиньёй или иным нечистым животным, и чувствуешь, что готов захрюкать в ответ. Недаром среди базарных завсегдатаев ходит слух, что ыспаганский гость Муса в чернокнижии всякого магрибца превзошёл и единым словом может навести сугубую порчу.
Рокочущий голос вырвал из забытья, вернул Семёна в залитую убийственным солнцем преисподнюю Руб-эль-Хали. Люди завозились, глядя окрест смурными глазами. Верблюды, хрипло рыдая, поднялись на ноги. Им, злосчастным, капли воды не досталось из тех двух вёдер, что принёс Дарья-баба. Да и то сказать – что такое два ведра воды? Хорошему верблюду, чтобы напиться, впятеро надо.
Тронулись в путь. Поплыли, закачались перед глазами пески, словно все исхоженные тропы вновь развернулись перед усталыми путниками. Из Багдада в Ляп-город, из Муслина в царский Ыспагань, из многопечального Гурмыза в далёкий, а на деле – ближайший к дому персидский город Ряш.
Самый первый Семёнов поход в новой рабской жизни приключился как раз в Гилянь, в прохладный город Ряш. Персы иначе его и не называют, как только «прохладный», хотя, на русский взгляд, жары летом стоят невыносимые. Однако море рядом, а невысокие увалистые горы покрыты густым лесом – дубом, орешником, дикой грушей с несъедобными каменными плодами. В лесу и впрямь жара терпится легче, и потому шах Аббас построил там свои летние дворцы, и в знойное время года персидская столица переезжает в Ряш.
В эти дни торговля в обычно тихом городе оживляется, бойко идут на местном базаре благовонные притирания, узорчатые товары, дорогие ткани, бахрейнский жемчуг – сканый и барокко. Всё это Муса привёз с собой преизобильно, благо что не только в Гурмызе закупил, но и крюка дать не поленился через Басру и Багдад. Всюду часть товара сбывал и набирал нового. Везде узнавал, что сколько стоит, обещался на обратном пути тоже привезти всякого товару: чеканщикам – зелёной иссык-кульской меди, буры и нашатыря, суконщикам – какой-то особой каратальской шерсти; везде присматривал, какой товар сбыт имеет.
Мавла Ибрагим при Мусе был чем-то вроде цепного пса. Служил не за страх, а за совесть, и всякую болтливость с него как рукой снимало, ежели дело доходило до хозяйских секретов. Муса к мавле относился снисходительно, как и должно относиться к собаке, покуда она дело исполняет и без толку не брешет. Семёна хозяин тоже держал за животное, но уже не за собаку, а скорее за вьючного верблюда: нара или аира. Покуда верблюд идёт, на него кричат, но не бьют, как замешкался – кричат и бьют палкой. Да ещё нагружают – сколько снесёт. Потому, должно, Семён на верблюдов и не кричал: свой своего понимает без слов.
В Ряше остановились в загородном караван-сарае, откуда Муса ежедневно отправлялся на базар. Ради лишнего пятака Муса отказался от назойливой помощи гилянских мальчишек, велев Семёну быть при верблюдах днём и ночью – кормить, поить, вычёсывать шерсть на впалых боках. Покуда караван стоит, верблюды должны отдыхать, нагуливая в горбах жир в преддверии завтрашних трудов. А рабу – труд каждый день, ему жирка нагуливать не положено.
И всё-таки Семён улучил минуту и сбежал на базар. Надеялся встретить кого ни есть из русских купцов, передать весточку на родину. Хотя сам понимал, богатый гость, снаряжающий за море расшивы с товарами, в сельцо Долгое заехать никоим образом не сможет – нечего ему там делать, в Долгое и коробейники-то редко захаживали. А и узнают родные, что их Семён у злого Мусы в неволе – что с того? Ну, посудачат промеж себя, повздыхают… на том дело и покончится, мужицкая туга до бога недоходчива.
Однако недаром говорится: «Чем чёрт не шутит, пока бог спит», – вышла у Семёна встреча, да такая, что до гроба не позабыть. Спешащий к городу Семён издали заметил, как по дороге, ведущей к летним садам падишаха, ленивой трусцой едет всадник. Шестеро пеших аскеров с палками и обнажёнными саблями бежали по сторонам, оберегая жизнь едущего. Семён вгляделся в надменное лицо и ахнул: Васька Герасимов, приказчицкий сын и приятель по первой неволе, ехал в окружении грозной стражи. Васькино лицо округлилось, раздобрело, но по-прежнему оставалось безбородым и глуповатым, лишь глаза утонули в жирных складках и смотрели по-новому, с осознанием собственной значимости. И одет был Васька не по-рабски и даже не по-приказчицки, а так, что хану впору: шёлковый, подбитый ватой халат, дорогой, но по летнему времени невыносимый, широкий миткалевый пояс, на белобрысой голове хитро навёрнутый тюрбан, на ногах сапожки, и не юфтяные, а сафьяновые, в каких на лошади ездить – только добро переводить.
Всё это Семён припомнил потом, а в первый миг так обрадовался, что, не подумав, заорал:
– Василий, здорово! Вот встреча-то, а?!
Ничто в Васильевом лице не дрогнуло, лишь взгляд блудливо метнулся, колюче зацепив Семёна, отметив всё разом: драный халатишко, истоптанные сапоги и, главное, – медный ошейник. Как бы не узнавая старого знакомца, Васька процедил что-то по-персидски сквозь сжатые зубы. Персидского языка Семён в ту пору ещё не разбирал толком, но сказанное и без толмача понял – успел отшатнуться, когда аскер замахнулся палкой, чтобы согнать с начальственного пути грязного оборванца.
Васька проехал мимо, не покосив глазом.
– Эх, Василий Яныч, кровь твоя приказчицкая! – пробормотал вслед Семён.
Некоторое время он стоял на дороге неподвижно, потом вдруг махнул в сердцах рукой, как бы шапку оземь грянул и побежал следом за Василием и его аскерами. Догнать не сумел – поезд скрылся в шах-ин-шаховых садах, куда Семёну пути не было. Турецкий бостан – это по сути просто огород, там столовый овощ садят, яблоки и виноград, а у шаха сады для прохлажения во время летних жаров, стороннему человеку туда вход заказан. Сады эти не столько для пользы, сколь для красы. Там персик растёт, абрикос, гранат; цветёт сладкий каштан и грецкий орех. Там же и вовсе никчемушное дерево – магнолия, платан с ободранной корой, веретённый тополь и кипарис. В середине сада выстроен дворец, и тоже не по-людски. На Руси люди в деревянных избах живут, а царю строят каменные палаты, да не простые – в два разряда. А на востоке всё на голову поставлено – последний бедняк ютится в слепленной из каменья сакле, а царю рубят деревянную избу и расписывают поверху вапой и золотом. Сперва такое видеть дико, но потом вдумаешься – так и должно быть. Камней в горах – труба нетолчёная, а леса стройного нет, дорогонек на востоке лес, вот для царя и устраивают деревянный дом.
В этот-то государев дом и канул Васька – приказчицкий сын.
Семён остановился перед узорным забором, глядя в просвет между деревьями. Нет, ничего не видать. И кругом – как повымерло, словно и охраны нет. На самом-то деле и стража есть, и всякий работный люд, только прячется, чтобы без дела глаз не мозолить. Падишах любит отдыхать привольно.
Между деревьями показалась одинокая фигура. Старик в киндячном халате и убогой чалме, накрученной на лысой макушке словно кукиш. В руках мотыга – видать, садовник. Не обращая на Семёна внимания, старик шёл бережком арыка, время от времени пробивая воде путь к древесным корням.
– Уважаемый! – позвал Семён по-арабски. – Кто этот человек, что въехал сейчас во дворец?
Старик остановился, утёрся рукавом и ответил:
– Мин бэсмен.
«Не понимает», – догадался Семён.
Садовник тем временем присел на край дувала, вытащил пенковую трубочку, плотно набил тютюном и раскурил. Такие дела Семёна уже давно не удивляли. На святой Руси табашников немного, да и тех драть велено за служение Белиалу, а чем ближе к туретчине, тем больше этой пакости. В Малороссии казаки за честь считают пить табак, а в самой Турции и стар и млад смолят трубку, глотают вонючий дым, не иначе – заранее принюхиваются, каково будет дышаться в аду.
– Ох-хо-хо!.. – вздохнул садовник, выпустив клуб вонючего дыма. – Грехи наши тяжкие!
Семён бросил озадаченный взгляд сквозь узорчатую решётку, спросил по-русски:
– Откуда будешь, старче?
– А из тех же ворот, что и весь народ, – ничуть не удивившись, ответствовал старик.
– Ты, никак, русский? – пытал Семён.
– Был русский, да весь вышел, – садовник окутался дымным облаком и в свою очередь поинтересовался: – Сам-то откудова явился?
– С караваном пришёл из Гурмыза.
– Вот оно как… По всему свету наш брат гуляет. Я так думаю, что, если бы не русские полоняне, от бусурман одно поименование бы осталось. Только нами и держатся…
– Я о чём спросить хотел, – осторожно перебил Семён. – Тут в ворота всадник проехал с охраной – кто таков?
– А-а!.. – протянул садовник, выпуская новые клубы самосадного дыма. – Это, паря, большой человек. Шахский домоправитель, Васаят-паша. Летний дворец со всем хозяйством в его управлении. Это, считай, не меньше, чем везир. А прежде тоже был православным.
– Знаю. Мы с ним вместе в полон попали в ногайской степи, – проговорил Семён, незаметно отмахиваясь от дыма, – а теперь он меня и признать не захотел…
– Скажешь тоже! Он при шахском величестве, а ты кто? Ясно дело, что не признает тебя.
– Ведь на одном базаре продавались, в одни руки попали.
– А дорога каждому своя вышла, – разумно подтвердил садовник, усаживаясь поудобнее в предвидении долгой беседы.
* * *
Добрый сала-уздень Фархад Нариман-оглы богатство своё приумножал не столько за счёт имения, сколько тем, что поставлял лес на ремонт и строительство шахских дворцов. Гилянь лесами по всей Персии славится, но потому лишь, что в персидском царстве больше никакого леса нет. А так – свали трёхохватный дуб из гилянских лесов, а внутри у лесного великана труха – стоя сгнил. Бывает, что и на дрова нечего выбрать. Немногим лучше обстоит дело и в иных подвластных шаху областях – Ширванском ханстве, Шемаханских владениях, не говоря уже о южных, вовсе безлесных, приобретениях воинственного Аббаса – Басре и Кандагаре. Лишь в шемхальстве Тарковском да в Дербентском присуде горы покрыты счётным лесом, дорогим и годным во всякое дело. Этим лесом и торговал Фархад-ага. Ездил в Ряш, встречался с пашами, неуклонно торговался за каждый ствол, норовя, как говорят мудрые узбеки, выдать ильм за карагач, а карагач за ильм. Однако к старости задумался о душе, захотел покоя. Из поместья уже не выезжал, старался посылать других. К тому же нашлось-таки кого посылать. Русский невольник Васаят оказался толковым парнем и большим хитрецом. И языки ему тоже давались – в три года превзошёл и турецкий, и фарси, и армянский. Фархад-ага все дела перепоручил услужливому Васаяту, а сам почил на лаврах, вовсе не думая, какую змеюку пригрел на своей широкой груди.
Оказавшись на узденевой службе, Василий быстро понял, что о родных местах лучше поскорей позабыть и устраиваться, куда господь приткнул. Тем более что о родном доме Васька тужил не то чтобы очень крепко. В богатом дедилинском тереме младшему приказчицкому сыну было не разгуляться. Хмельное у Янко Юрьича водилось лишь для дорогих гостей и самого хозяина – взрослым сынам Янко и в Христово воскресенье чарки понюхать не давал. А насчёт сладкого греха сам Васька был не боек. Попробовал раз зажать в уголке мясистую кухонную девку, но вместо ласки получил увесистую плюху. Да ещё и батюшка собственноручно отходил арапником. Потом-то Васька спознал, что не ту девку щипать принялся, не углядел сдуру, что с этой родной отец грех тешит. Но с тех пор поселилась в душе неизбывная робость перед бабским полом, а вернее – перед арапником, и до семнадцати лет Васька уже никому из девок руки под подол не запускал. Но хотелось – инда душу выворачивало! А тут ещё и Дунька, стерва, масла в огонь подлила – блядским манером выскочила за холопа Сёмку, а Василию, хоть он ничем Семёна не хуже, такую дулю вывернула… э, ну да что говорить!







