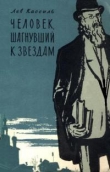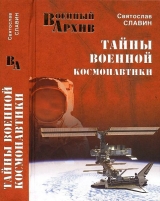
Текст книги "Тайны военной космонавтики"
Автор книги: Святослав Славин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
Ракеты устремляются ввысь
ЗНАМЕНИТАЯ Р-7 И ЕЕ ТРУДНОСТИ. Тем временем 13 февраля 1953 года было принято постановление правительства о создании двухступенчатой баллистической ракеты. Согласно ему, НИИ-88 приступил к работе по теме Т-1: «Теоретическое и экспериментальное исследование по созданию двухступенчатой баллистической ракеты с дальностью полета 7000–8000 км». Параллельно велась тема Т-2: «Теоретические и экспериментальные исследования по созданию двухступенчатой крылатой ракеты с большой дальностью полета».
И вот после неизбежных в таких случаях согласований 20 мая 1954 года ОКБ-1 Сергея Королева приступило к проектированию баллистической ракеты большой дальности Р-7. Задания на разработку крылатых ракет большой дальности получили ОКБ-301 Семена Лавочкина (проект «Буря») и ОКБ-23 Владимира Мясищева (проект «Буран»).
Во время разработки боевого ракетного комплекса Р-7 была официально оформлена и «большая шестерка». Теперь она называлась Советом главных конструкторов под председательством С. П. Королева.
Проектированием ЖРД, как и прежде, занимался главный конструктор ОКБ-456 Валентин Глушко. Он уже имел опыт разработки большого кислородно-керосинового двигателя РД-110. Керосин заменил применявшийся на первых баллистических ракетах этиловый спирт, вызывавший немало усмешек и нареканий начальства: «Знаем мы, куда у вас спирт утекает…»
В январе 1954 года на Совете главных конструкторов было также принято решение об использовании унифицированного ЖРД для обеих ступеней.
Конструктивно теперь ракета виделась такой. Пакет из четырех одинаковых блоков первой ступени, оснащенных ЖРД тягой по 80 т, которые симметрично располагались вокруг центральной второй ступени. После старта и выработки топлива блоки первой ступени отстреливались и ракета продолжала полет на двигателе второй ступени.
Такая компоновка заодно упростила и процесс сборки Р-7 на стартовой позиции. На пусковой стол доставляли все блоки поодиночке, а затем стыковали их со второй ступенью в двух точках – внизу (на уровне крепления двигателей) и в самой верхней точке каждого блока.
Для управления полетом ракеты решено было использовать рулевые двигатели малой тяги с поворотными камерами. На старте они включались одновременно с маршевыми двигателями и стабилизировали полет ракеты.
Вопрос об оснащении боеголовки решался в самых верхних эшелонах власти. В конце концов заместитель Председателя Совета Министров СССР Вячеслав Малышев предложил Королеву оснастить «семерку» термоядерным зарядом, испытания которого были успешно проведены на Семипалатинском полигоне. Однако, чтобы ракета подняла термоядерную бомбу, величину полезной нагрузки Р-7 нужно было увеличить с 3 до 5 т.

Межконтинентальные ракеты «Буря» и «Буран».
Конструкторам пришлось модернизировать ракету, значительно увеличив ее стартовую массу. Но при этом пришлось пересмотреть и прочностные характеристики. Тогда стало ясно, что собирать ракету в вертикальном положении будет уже невозможно. Решили монтировать все блоки в горизонтальном положении и в таком же виде транспортировать ракету из монтажного корпуса по железной дороге к стартовому столу. Здесь же не ставили ракету, а подвешивали вертикально за специальные силовые пояса.
Так у нас появилась своя, оригинальная технология сборки и транспортировки ракеты на стартовую позицию. Она в корне отличается, например, от американской, где ракета и монтировалась и транспортировалась в вертикальном положении.
ОТКУДА ЗАПУСКАТЬ? Пока конструкторы делали и переделывали ракету, встал вопрос, откуда ее запускать. Возможности полигона Капустин Яр были исчерпаны.
В 1954 году специальная комиссия под руководством Василия Вознюка, начальника полигона Капустин Яр, стала искать территорию для нового космодрома. Было перебрано множество мест, пока не остановились на четырех вариантах. Для окончательного решения были предложены пустоши на территории Марийской АССР, Дагестанской АССР, Астраханской области и Кзыл-Ординской области Казахстана, неподалеку от железнодорожной станции Тюратам.
Наиболее подходящим был признан Тюратам. Во-первых, он находился южнее других участков, а ракеты, как известно, лучше всего запускать с экватора – здесь им больше всего помогает вращение Земли. Во-вторых, Казахстан удален от наиболее населенных областей СССР, что немаловажно на случай аварии, схода ракеты с управляемой траектории. И, наконец, в-третьих, удаленность космодрома позволяла лучше оберегать его секреты от чересчур любопытных посторонних глаз.
Во всяком случае, чтобы навести лишний раз тень на плетень, будущий ракетодром даже назвали не Тюратам, а Байконур. Между тем само селение Байконур находится в нескольких десятках километров от станции Тюратам.
Теперь оставалась остановка за немногим: нужно было в кратчайшие сроки построить невиданное, грандиозное по своему размаху сооружение в местах, где привольно жилось лишь верблюдам да ящерицам, где температура летом запросто переваливала за сорок градусов жары, а зимой опускалась до минус сорока.
Однако приказ был отдан, и военные строители под командованием Георгия Шубникова в июне 1955 года приступили к делу. На строительных площадках порой работали более 10 000 человек. Строительно-монтажные работы велись зачастую в авральном режиме, иногда круглые сутки. Такой нагрузки не выдержал даже крепкий организм начальника строительства. В 1965 году он тяжело заболел, ослеп и вскоре умер. Рядовых же строителей приходилось менять каждые несколько месяцев.
Под поля падения отработавших ступеней были отведены участки в Акмолинской области. Местами падения головных частей стали участки полуострова Камчатка.
Кроме основного космодрома, два года спустя началось строительство и запасного. Он же одновременно предназначался и для боевых пусков.
Боевые стартовые комплексы поначалу предлагалось прятать в специальном гроте, вырубленном в скале. А после объявления боевой тревоги выдвигать вбок, на свободное пространство специальными механизмами. Потом этот экзотический проект заменили стартовыми шахтами, которые и построили позднее во многих местах Союза. Но для начала решили ограничиться просто прикрытием наземного стартового комплекса круговым земляным валом.

Космодром Байконур. Ракета на стартовом столе.
Разместили же все это хозяйство в архангельских лесах, неподалеку от железнодорожной станции Плесецк. Здесь и начали строить в январе 1957 года четыре боевых стартовых комплекса.
ИСПЫТАНИЯ НАЧИНАЮТСЯ. Первым начальником полигона Байконур был назначен генерал-лейтенант Алексей Нестеренко. Для проведения пусков ракет сформировали 39-ю отдельную инженерно-испытательную часть. Председателем Государственной комиссии по проведению испытаний стал Василий Рябиков. В марте 1957 года на полигоне завершили монтаж оборудования стартового комплекса. Административным центром полигона стал город Ленинск.
В начале марта 1957 года на Байконур с завода в Подлипках прибыла по железной дороге первая, разобранная на блоки ракета. А когда ее смонтировали, Государственная комиссия подписала акт о готовности первой очереди полигона к пуску.
Старт ракеты Р-7 был назначен на 15 мая 1957 года. Сначала все шло вроде нормально, но на 103-й секунде полета нарушилась герметичность магистрали горючего. После аварийного выключения двигателей ракета грохнулась на землю и развалилась на куски.
Второй пуск, намеченный на 9 июня 1957 года, не состоялся из-за выявленного в процессе подготовки к старту заводского дефекта. Третий пуск – 12 июля 1957 года – хоть и состоялся, но ракета опять развалилась вскоре после старта.
Только 21 августа 1957 года состоялся первый успешный пуск. Преодолев расстояние в 5600 км, макет боеголовки достиг цели на камчатском полигоне Кура.
ТАСС отозвалось на это событие таким сообщением: «На днях осуществлен запуск сверхдальней, межконтинентальной, многоступенчатой баллистической ракеты. Испытания ракеты прошли успешно. Они полностью подтвердили правильность расчетов и выбранной конструкции. Полет ракеты происходил на очень большой, еще до сих пор не достигнутой высоте. Пройдя в короткое время огромное расстояние, ракета попала в заданный район».
Впрочем, несмотря на победные реляции, специалисты отлично понимали, что боеготовность Р-7 оставляет желать много лучшею. В самом деле, какое это оружие, если его, как пишет Борис Черток, надо было готовить к старту почти 10 суток. И даже работая в авральном режиме, этот срок удавалось сократить не более чем вдвое.
А главное, запуск 21 августа 1957 года выявил самую серьезную проблему «семерки»: головная часть с макетом термоядерного заряда не долетела до Земли, сгорела при входе в плотные слои атмосферы. То есть, говоря попросту, вместо боевого залпа получился пшик. И тогда Совет главных конструкторов решил на время отвлечь внимание руководства страны от этой проблемы запусками геофизических и прочих научных ракет, а также искусственных спутников Земли.
Впрочем, специалисты и сами не ожидали, что эффект «отвлекающих маневров» окажется столь ошеломляющим.
«Собаконавты»
Так иногда называют четвероногих лохматых испытателей, которые первыми испытали и стартовые перегрузки и космическую невесомость.
ПЕРВЫЕ ИСПЫТАТЕЛИ. Для запусков на суборбитальную орбиту было решено использовать модификацию тактической ракеты Р-11, которую в начале 50-х годов Михаил Янгель, главный инженер НИИ-88, сконструировал для сухопутных войск. По сравнению с Р-1 новая ракета имела в 2,5 раза меньшую стартовую массу при той же дальности полета.
Эксплуатационные особенности ракеты Р-11, в частности, возможность ее запуска с колесного или гусеничного транспортера, железнодорожного спецвагона, надводного и подводного корабля, позволяли расширить область ее применения и для научных исследований. Особый интерес представляла возможность геофизических наблюдений в тех районах Земли, куда доставлять ранее разработанные ракеты было практически невозможно, например, в Заполярье.
Ракета Р-11А, созданная на базе Р-11, была запущена с полигона на Новой Земле в октябре 1958 года и поднялась выше 100 км.
При этом, помимо изучения верхних слоев атмосферы, запуски геофизических ракет преследовали еще одну важную цель. Все конструкторы космической техники понимали, что когда-то придет день и на ракете в космос взлетит человек. А чтобы приблизить эту дату, необходимо было как можно раньше накопить сведения о том, как обеспечить человеку нормальные условия жизнеобитания.
По рекомендации академиков В. Черниговского и В. Парина для проведения экспериментов с живыми существами были взяты дворняги – беспородные собаки, поскольку именно эти животные отличаются большей устойчивостью к влияниям внешней среды, чем псы «благородных кровей». Кроме того, дворняжки, как правило, – собачки относительно небольших размеров. Их довольно легко разместить в специальном отсеке ракеты.
В то же время собаки быстро дрессируются, их можно приучить к существованию даже в непривычных условиях. Как рассказывал один из участников первых экспериментов над «четвероногими аэронавтами», доктор медицинских наук Виктор Борисович Малкин, поначалу хотели по примеру американцев использовать для подобных экспериментов небольших обезьянок. Но оказалось, что они очень нервные, от неожиданного стресса могут получить даже инфаркт. А потому академик О. Г. Газенко сказал, что нам ближе собаки, их физиология прекрасно изучена еще академиком И. Павловым.
«Звездный час» для «собаконавтов» пробил 22 июля 1951 года. Именно тогда на полигоне Капустин Яр состоялся первый полет «собачьего экипажа» на геофизической ракете с вертикальным запуском. Всего с июля 1951-го по сентябрь 1960 года состоялось 29-го так называемых собачьих пусков. Восемь собак из космоса так и не вернулись…
Готовили космических первопроходцев в Институте авиационной и космической медицины, расположенном за стадионом «Динамо». До революции здесь в красном кирпичном особнячке помещалась гостиница «Мавритания».
В советские времена гостиница оказалась за высоким забором. Эксперименты настрого засекретили. Первый «собачий» запуск состоялся ранним утром, когда небо чисто и ракету видно далеко-далеко. С рассвета у ракеты, торчком поставленной на бетонную тарелку стартового стола, копошились наладчики. Начальство обступило двух псов – Дезика и Цыгана, которым предстояло занять место на самой верхушке сооружения. Дворняги были одеты в специальные костюмы, помогающие удерживать на теле датчики, накормлены тушенкой, молоком и хлебом.
Королев подошел к руководителю медицинской программы Владимиру Ивановичу Яздовскому. «Знаешь что, а вдруг собаки чужих рук не послушаются? Я человек суеверный, полезай сам!..»

Научно-исследовательские ракеты СССР, созданные на базе боевых ракет в период с 1949-го по 1970 год: 1 – В-1А; 2 – В-1В; 3 – В-1Е; 4 – В-2А; 5 – В-5А; 6 – В-5В; 7 – «Вертикаль».
Яздовский с механиком Воронковым взобрались на верхотуру, к люку кабины. Им подали собак, уже закрепленных ремнями в особых лотках. Щелкнули замки. Яздовский на прощание провел рукой по собачьим мордам. «Удачи вам!»
И вот старт. Через несколько томительных минут ожидания в безоблачном небе забелел парашютный купол. Все побежали к месту приземления контейнера. «Живы!!!»
Так в одно утро была решена судьба пилотируемой космонавтики, получен ответ на главный вопрос: живые существа могут летать на ракетах.
А спустя неделю, во время второго испытания Дезик и его напарница Лиса погибли, открыв скорбный список жертв космоса. Во время их спуска не раскрылся парашют.
Тогда было решено первопроходца Цыгана больше в полет не отправлять. Пса забрал председатель Госкомиссии академик А. А. Благонравов. И говорят, что до конца дней своих первый «собаконавт» отличался суровым нравом и жутко не любил начальства. Когда однажды виварий посетил с инспекцией солидный генерал. Цыган тут же, недолго думая, вцепился в генеральский лампас. Но генерал пинать пса не стал – как-никак первопроходец космоса.

Схема полета геофизической ракеты с животными на борту.
ЭПИТАФИЯ ЛАЙКЕ. Всего, как уже говорилось, с июля 1951 года по сентябрь 1960 года состоялось 29 собачьих полетов на высоту 100–150 км. Часть из них закончилась трагически: собаки гибли из-за разгерметизации кабины, отказов парашютной системы, неполадок в системе жизнеобеспечения.
Но все это проходило в обстановке строгой секретности. Первой «рассекреченной» жертвой стала дворняга Лайка. Но и тут все было не совсем так, как писали газеты того времени.
После того как на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли, тогдашний руководитель СССР Н. С. Хрущев потребовал от Королева следующего, не менее эффектного старта. Тогда главный конструктор решил отправить на втором спутнике собаку. С самого начало было ясно – собака погибнет: возвращать объекты из орбитального полета тогда не умели.
Из десятка подготовленных «испытателей» отобрали сначала трота – Альбину, Лайку и Муху. «Но Альбина уже дважды летала и достаточно послужила науке, – рассказывал Владимир Иванович Яздовский. – К тому же у нее были щенята. Решили ее пожалеть. В качестве космонавта выбрали двухлетнюю Лайку. Была она славной, ласковой. Жалко было ее…»
О том же вспоминал и один из непосредственных участников подготовки того полета, мастер сборочного производства Юрий Силаев: «Есть вялые собаки, а Лайка была бойкой собакой. И выбирали таких – шустрых… Перед самым стартом Сергей Павлович сказал мне: „Юра, лезь, закрывай свой лючок. Опломбируй все как следует. Посмотри, чтобы все было герметично. Постучи ей, чтобы она поднялась. И мне доложишь“.
Я полез, говорю: „Ну, посмотри на меня, посмотри“. Стучу по контейнеру, чтобы у нее хоть какие-то были эмоции. А она все время лежит на кормушке своей… А я ее все тормошу. Наконец она встряхнулась два раза, как обычно собаки встряхиваются. „Ну, вот и хорошо, милая. А теперь я тебя закрою и будешь дышать уже не атмосферой, а другим воздухом, который будет тебе подаваться…“ Тем временем ракета заправлялась. У меня было всего минут 15–20 на всю эту операцию. В глазах отражение света от фонарика. Глазки блестят. Такие вроде плачевные, а вроде и нет.

„Космонавтка“ Белка перед запуском в космос.
Ну, в общем-то, у нее было нормальное состояние. Так я и доложил Сергею Павловичу…»
И 3 ноября 1957-го Лайка отправилась на орбиту. Несколько часов она жила в невесомости, а потом, как гласят официальные сообщения, «космонавтку» усыпили. Но это было благообразное вранье. «В полете корабль сильно нагрелся – отводить лишнее тепло мы еще не умели, – вспоминал корифей космической медицины академик Олег Георгиевич Газенко. – Собачка умерла от жары…»
Еще несколько месяцев спутник с телом погибшей Лайки накручивал витки над Землей. Только в апреле 1958-го он вошел в плотные слои атмосферы и сгорел.
ДАМЫ – ВПЕРЕД! После старта Лайки в Советском Союзе почти три года не отправляли на орбиту биологические объекты: шла разработка возвращаемого корабля, оснащенного системами жизнеобеспечения. В начале 1960 года он был разработан. На ком его испытывать? Конечно же, на собаках!
Интересная деталь – в полеты на космическом корабле стали отправлять только самок. Объяснение простое: для женской особи оказалось проще сделать скафандр с системой приема мочи и кала.
В середине лета 1960 года в сборочном цехе уже стояло сразу три объекта. И С. П. Королев впервые сказал, что на таких кораблях уже полетят люди. «Но сначала пусть собачки освоят эти корабли. А уж когда будет уверенность, что они благополучно возвращаются назад, тогда можно будет поговорить и о космонавтах», – уточнил он.
«Помню, привезли как-то в корпус собак десять, – продолжает Силаев. – Выпущенные из клеток, они с лаем кинулись бегать по цеху. Ну, конечно, все рабочие прекратили работу, смотрят. „Приехала псарня!“».
И все они были такого роста, как и Лайка.
Их отправляли в катапульте, как потом Гагарина.
Перед тем как полететь человеку, состоялось несколько предварительных пусков. Но о первом (28 июля 1960 года) советская пресса промолчала – на 19-й секунде полета у ракеты «Восток» отвалился боковой блок, она упала и взорвалась. При этом погибли собаки Чайка и Лисичка. Их дублеры, Белка и Стрелка, удачно слетали на следующем корабле и стали знамениты. Они остались жить в институте и умерли от старости. А вот стартовавшим вслед за ними на третьем корабле 1 декабря 1960 года Пчелке и Мушке не повезло. Они погибли от удушья и жары, так как спусковой отсек из-за сбоя тормозной системы перешел на более высокую орбиту и не приземлился, как было намечено.
На следующих кораблях собак запускали уже по одной. Клетки с ними помещали в ногах у манекена, сидевшего в кресле и изображавшего космонавта. Последней в космосе за три недели до старта Гагарина побывала Звездочка.
После проведения этой серии экспериментов было доказано, что необходимые условия для жизни животных в течение 4 часов и более могут быть эффективно обеспечены с помощью герметических кабин регенерационного типа и системы спуска головного отсека с помощью парашюта.
Программа медико-биологических экспериментов на геофизических ракетах показала, что высотный полет с перегрузками и невесомостью не оказывает заметного влияния на поведение и физиологию животных. Обычно животные спокойно лежали в скафандрах и лишь в некоторые моменты инерционного движения ракеты становились беспокойными и проявляли «значительную двигательную активность», покачивая головой и подергиваясь.
У собак, летавших несколько раз, стрессовые отклонения физиологических реакций в повторных полетах были значительно меньше, чем поначалу. Собака по кличке Отважная, слетавшая в космос четыре раза, с каждым полетом адаптировалась к состоянию невесомости все легче. На основании этого медиками было высказано предположение о целесообразности повторных полетов космонавтов будущего для более быстрой адаптации организма к состоянию невесомости. И надо сказать, оно подтвердилось затем на практике.
А сам Ю. А. Гагарин, говорят, однажды сострил в неформальной обстановке уже после полета: «Так и не пойму до сих пор, кто я – то ли первый космонавт, то ли последняя собака…»
Сага о спутниках
Впрочем, мы с вами несколько забежали по времени вперед. Вернемся снова в середину 50-х годов прошлого столетия и посмотрим, как готовились к выходу на орбиту первые спутники.
«ОБЪЕКТ Д». Когда однажды журналисты попросили С. П. Королева рассказать о том, как рождался первый спутник, он, в частности, сказал следующее:
«Я пришел в ракетную технику с надеждой на полет в космос, на запуск спутника. Но долго не было реальных возможностей для этого, о первой космической скорости можно было лишь мечтать. С созданием мощных баллистических ракет заветная цель становилась все ближе. Мы внимательно следили за сообщениями о подготовке в Соединенных Штатах Америки спутника, названного не без намека „Авангардом“. Кое-кому тогда казалось, что он будет первым в космосе.
Я попросил подобрать мне материал об этом будущем спутнике. Мне приготовили. Мы посчитали и убедились, что американские ракетчики могут вывести на орбиту… апельсин.
Все было ограничено у них до предела. Главное, что их сковывало, – это ракета. Ее тяга такова, что не дает никаких резервов и предъявляет огромные требования к точности, к разъединению ступеней.
Посчитали и мы, чем располагаем. Убедились: можем вывести добрую сотню килограммов на орбиту…»
Однако когда Королев обратился с таким предложением к вышестоящему руководству, то идея была встречена в штыки. Убеленные сединами академики считали это предложение абсурдом, генералы из Министерства вооружений вообще не видели какого-либо смысла в подобном запуске. И только определенная «настырность» Королева позволила ему «продавить» противодействие власти.
Для этого, в частности, он прибег к помощи М. К. Тихонравова, который подготовил подробную докладную записку «Об искусственном спутнике Земли». И 26 мая 1954 года Сергей Королев отправил ее в Центральный Комитет КПСС и в Совет Министров. В сопроводительной записке он, в частности, писал: «Мне кажется, что в настоящее время была бы своевременной и целесообразной организация научно-исследовательского отдела для проведения первых поисковых работ по спутнику и более детальной разработки комплекса вопросов, связанных с этой проблемой».
В ответ ему указывают, что создание боевой ракеты, способной достичь Америки, куда более важная задача, чем какие-то «игрушки». Но с боевой ракетой, как мы знаем, пока далеко не все получалось, «как надо». И Королев проявляет настойчивость – «наверх» уходит очередная докладная, подготовленная уже сотрудником ОКБ Ильей Лавровым. В ней всячески подчеркивалась мысль, что «создание ИСЗ будет иметь огромное политическое значение как свидетельство высокого уровня развития нашей отечественное техники».
Но когда даже этот «убойный» аргумент не подействовал.

Первый советский спутник.
Королев решил зайти с другого хода – через Академию наук.
Тридцатого августа 1955 года в кабинете тогдашнего главного ученого секретаря президиума АН СССР академика Топчиева собрались ведущие специалисты по ракетной технике, в том числе Королев, Келдыш и Глушко.
Сергей Павлович выступил с кратким сообщением, в котором подчеркнул: «Я считаю необходимым создание в Академии наук СССР специального органа по разработке программы научных исследований с помощью серии искусственных спутников Земли, в том числе и биологических, с животными на борту…»
Королева поддержал Келдыш, которого тут же и выбрали председателем комиссии по разработке подобной программы.
Королев сделал правильный ход. С декабря 1955-го по март 1956 года Мстислав Келдыш провел ряд совещаний с учеными разных специальностей, так или иначе заинтересованными в космических исследованиях. Такой серьезный подход к делу привел к тому, что правительство уже не могло просто отмахнуться от «фантастического прожекта». И 30 января 1956 года было принято постановление Совета Министров № 149-88 СС, которым предусматривалось создание «Объекта Д» – неориентируемого искусственного спутника Земли. По первым прикидкам, он должен был весить 1000–1400 кг, из них примерно треть отводилась под научную аппаратуру. Старт первого пробного пуска назначили на лето 1957 года.
НАПЕРЕГОНКИ С АМЕРИКАНЦАМИ. В определенной степени подкорректировали ситуацию и данные из-за рубежа о том, что в США тоже проявляют интерес к подобной программе.
Королев тут же сформировал в ОКБ-1 отдел разработок искусственных спутников Земли под руководством М. К. Тихонравова. Причем по предложению Келдыша отдел начал работу сразу над несколькими вариантами «Объекта Д», один из которых предусматривал наличие контейнера с «биологическим грузом» – подопытной собакой.
В начале 1957 года Королев направил в правительство очередную докладную записку, в которой просил «разрешить подготовку и проведение первых пусков двух ракет, приспособленных в варианте искусственных спутников Земли, в период апрель-июнь 1957 г., до официального начала Международного геофизического года, проводящегося с июля 1957 г. по декабрь 1958 г.».
Заодно Королев намекнул, что в Соединенных Штатах Америки тоже ведется весьма интенсивная подготовка к запуску искусственного спутника Земли. Наиболее известен проект под названием «Авангард» на базе трехступенчатой ракеты, где в одном из вариантов в качестве первой ступени используется ракета «Редстоун». Спутник представляет собой шаровидный контейнер диаметром 50 см и весом около 10 кг.
Действительно, в сентябре 1956 года американские конструкторы сделали попытку запустить на базе Патрик, штат Флорида, трехступенчатую ракету и на ней спутник. Однако тот на орбиту не вышел, хотя заинтересованные лица и дали сообщение в печать, подчеркнув, что ракета пролетела около 3000 миль (примерно 4800 км), что является выдающемся рекордом.
Тут уж и до наших политиков постепенно начало доходить, что американцам вовсе не вредно было бы «утереть нос». Королеву перестали ставить палки в колеса – напротив, его стали торопить.
Да он и сам спешил, опасаясь, что американцы действительно опередят его. Поэтому он отказался от первоначальных планов по запуску на орбиту сразу тяжелой научной лаборатории. Созвав своих сотрудников, занятых проектированием спутника, Сергей Павлович предложил работы по «Объекту Д» временно остановить, а сделать за месяц «хоть на коленке» маленький легкий спутник.
Руководство работами по конструированию и изготовлению «ПС-1» («Простейший спутник первый») поручили двум инженерам – Михаилу Хомякову и Олегу Ивановскому. Подачу радиосигналов продумывал Михаил Рязанский Головной обтекатель ракеты, защищающий спутник от воздействия окружающей среды, проектировала группа Сергея Охапкина.
В итоге получалось, что вместо действительно полезного груза будет водружен шар чуть больше футбольного мяча, но это уже никого не волновало. Главное было – опередить американцев.
Кроме того, Королев велел навести на шар спутника зеркальный блеск: он должен был предстать перед объективами кинокамер и фотоаппаратов в идеальной чистоте.
«Через три дня здесь все должно блестеть, повесьте белые шторы на окна, оденьте всех, кто здесь работает, в белые халаты и перчатки, а подставку под спутником покрасьте белой краской и ложемент обтяните бархатом», – велел Королев.
ЗАЖГЛИ СВОЮ ЗВЕЗДУ. И вот 20 сентября 1957 года на Байконуре состоялось заседание специальной комиссии по запуску спутника. Все подтвердили готовность к старту. Тогда же (на всякий случай) было решено сообщить о запуске спутника в печати только после выхода его на орбиту.
И вот наконец 4 октября 1957 года маленькое чудо состоялось. Сначала ярчайшая вспышка осветила ночную казахстанскую степь, и ракета-носитель M-1СП ушла вверх.
Наблюдения на первых витках показали, что спутник вышел на орбиту с наклонением 65,1°, высотой в перигее 228 км и максимальным удалением от поверхности Земли 947 км. На каждый виток вокруг Земли он тратил 96 минут 10,2 секунды.
И лишь после этого, 5 октября в 0 часов 58 минут по московскому времени ТАСС в специальном выпуске сообщило: «В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли. 4 октября 1957 года в Советском Союзе произведен успешный запуск первого спутника».
И весь мир услышал знаменитое: «Бип… бип… бип…»
Хотя запуск не обошелся без некоторых технических сбоев, о которых стало известно лишь сравнительно недавно, главное было сделано: мы ошеломили американцев. Да что там США. Люди во всем мире выскакивали из домов в ночь-полночь, чтобы указать друг другу в ночном небе: «Вон летит русская звезда!» Слово «спутник» мгновенно стало понятным всем без перевода.
По всему Советскому Союзу прошли спонтанные, действительно никем не организуемые демонстрации. Народ радовался: «Вот мы, оказывается, что можем!»
Американцев же, напротив, этот запуск поверг в уныние. Пресса была полна ядовитых упреков правительству, которое, дескать, только и может, что хвастаться по пустякам. Были обеспокоены и военные: они поняли, что у русских есть ракеты, которые способны достигнуть Америки, с любой стороны обогнув Землю.
ДАВАЙ, ЕЩЕ ДАВАЙ!.. Самую бурную деятельность теперь, пожалуй, развил Н. С. Хрущев. Он понял, какой мощный козырь попал ему в руки. И тут же пригласил в Кремль Королева и Келдыша, настойчиво намекнув им, что теперь необходим космический подарок советскому народу и к сороковой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Королев пытался было возражать: осталось меньше месяца, повторять такой же пуск нет никакого смысла, а «объект Д» еще не готов. Однако Хрущев был неумолим.
В этих условиях 12 октября и было принято решение о запуске к 40-й годовщине Октябрьской революции второго искусственного спутника. Оно, по существу, стало смертным приговором для одной из еще не выбранных в тот момент беспородных собачек.
А сам спутник ПC-2 создавался даже без предварительного проекта. Проектанты переместились в цеха, там рисовали эскизы, а сборка шла путем подгонки деталей друг к другу по месту.
Делать сам спутник времени тоже не было, а потому под ПС-2 трансформировали головную часть последней ступени ракеты Р-7.
Пуск состоялся 3 ноября 1957 года. И вот тут выяснилось, что Никита Сергеевич несколько просчитался. Хотя американцев и посрамили во второй раз, по миру прокатился гул неодобрения по поводу гибели симпатичной собачки. В ответ на это советская табачная промышленность срочно выпустила сигареты «Лайка» с изображением на упаковке портрета самой героини. Но членов Общества защиты животных такая мемориальная память не успокоила.