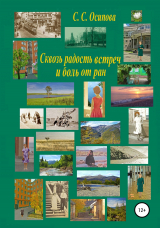
Текст книги "Сквозь радость встреч и боль от ран"
Автор книги: Светлана Осипова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Я на руках у мамы, она прижимает меня так сильно, что мне больно. Я открываю глаза, вижу совсем рядом её лицо, бледное и счастливое, и прижимаюсь к нему, вот мой мир, моя защита и радость.
Потом мне разъяснили, что это – змея, она очень опасная, могла меня укусить, и я бы умерла. Я не знаю, что такое "умерла", но тот ужас, который вкладывали в эти слова, пронизал и меня.
В тот раз вслед за мамой на поляну пришли все, с кем мы приехали на лодке. Они шумно переговаривались и смеялись. Змея, наверное, испугалась и быстро скрылась, и они испугались. Но их испуг опоздал, он пришёл, когда змеи уже не было. Я этого не увидела, а когда стала способна воспринимать мир, все уже смеялись и тормошили меня, обнимали и успокаивали маму.
В начале 1942 года в Искитим приехал эвакогоспиталь № 3903. Тётя Феня и тётя Лиза, которые так и не нашли работу до этого времени, устроились в госпиталь. Тетя Лиза – кастеляншей (была такая должность, означавшая, что под её надзором находится всё бельё, что в условиях госпиталя – дело серьезное). Тётя Феня работала в хирургическом отделении с 17 марта 1942 года по декабрь 1943 года, сначала санитаркой, а потом медсестрой в операционной и перевязочной. У неё не было медицинского образования, но её аккуратность, точность в исполнении всех указаний врачей, смышлёность и обучаемость в этом деле, ловкость в уходе за больными скоро сделали её незаменимой и бесценной медсестрой.
К концу 1942 года стало ясно, что выехать из глухого сибирского городка будет невозможно. По нескольким причинам, начиная с разрешения и кончая деньгами на дорогу. Правда, во всё время отсутствия в Москве мама и все наши родственники продолжали платить за своё жильё в Москве – кто-то их надоумил. Так что жильё оставалось за ними. Но требовался ещё вызов и разрешение на приезд в Москву. Кто и как должен был "вызывать", не знаю.
В это время стало известно, что госпиталь скоро должен двигаться вслед за фронтом на запад. Госпиталь был военной частью и не подчинялся местной администрации. В какой-то мере там были "свои", приехавшие с "большой земли". Мама и дядя срочно пошли устраиваться на работу в госпиталь, в котором всегда не хватало кадров, тем более что принятые на работу местные жители поехать с госпиталем не могли.
23-го января 1943 года мама приступила к работе в бухгалтерии эвакогоспиталя. Дядя устроился возчиком: со станции раненых и медикаменты привозили на лошадях, на лошадях же доставляли продукты.
Когда прибывал состав с ранеными, весь персонал переключался на их приём и обработку. Дорога была длинная. Раны много дней не обрабатывались. Сами солдаты были прямо из окопов: немытые, завшивевшие, с загноившимися ранами, под гипсовыми накладками завшивевшими и зачервивевшими. Их переносили в зал (госпиталь размещался в помещении школы), разрезали и скидывали гипсы, зачерствевшие бинты и одежду, брили и мыли. Потом разносили по палатам. Все работники госпиталя несли ночные дежурства.
Главный хирург госпиталя Пётр Исаакович и его заместитель Галина Михайловна были родом с Западной Украины. По нескольку суток не отходили они от операционного стола. А потом наступала работа сестёр. Медсёстрами становились все, от главного бухгалтера до поварихи, квалификацию заменяли доброта и смекалка.
Мама рассказывала, как часто по ночам раненые не могли заснуть от болей, просили обезболивающие лекарства. Их едва хватало на операции. Раненые стонали, просили, умоляли сестричек. Однажды мама, не выдержав просьбы очень тяжело раненного солдата, достала безобидные желудочные таблетки и дала ему, убедив, что это очень хорошее средство, скоро боль пройдет, он уснет. И как она удивилась, когда через полчаса увидела сладко спящего солдата. А утром он трогательно благодарил сестричку. Она поделилась своим открытием с Галиной Михайловной, и та подтвердила, что психика человека может творить чудеса: уверенность, что лекарство поможет, сделала невозможное. К сожалению, этим методом пришлось пользоваться часто – лекарств катастрофически нехватало.
Я умудрилась заболеть скарлатиной. Чудесные, добрые, отзывчивые люди Галина Михайловна и Петр Исаакович лечили меня, скрывая, что это скарлатина: барак, где мы жили, был полон детей, все боялись заразиться, нас бы просто выкинули. Но никто больше не заболел, а едва у меня спала температура, госпиталь получил приказ на перемещение. Врачи выдали маме два тёплых одеяла, чтобы завернуть меня, и велели уложить на повозку вместе с ранеными. Это было запрещено, но они сделали так.
Весной 1943-го года госпиталь прибыл в посёлок Чебаково, под Ярославлем. Это было близко от Москвы, родная земля, даже если придётся здесь остаться. Кончился сибирский кошмар.
Маленький посёлок. Госпиталь снова разместился в помещении школы. Рядом со школой, на одной с ней территории – несколько избушек. Наверное, в них жили учителя или другие работники школы. Сейчас в них живет персонал госпиталя. Мы живём в домике вместе с Петром Исааковичем и Галиной Михайловной. Наша комната – первая, проходная, большая, с большой русской печкой. Их комната – следующая, они проходят через нас, печка выходит к ним одним боком. Нас много, мы пока в том же составе. Но вскоре, вызванная своим мужем, Гришей (с начала войны он редактор какой-то газеты, и на некоторое время получил назначение в Москву), уезжает тётя Лиза. Из Новосибирска вместе с киностудией уезжает в Москву тетя Рая, ей удаётся получить пропуск на свою маму, то есть мою бабушку. Остаёмся мы с мамой и дядя с тётей Феней. Наш папа где-то на фронте и до Москвы ему ещё очень далеко. Сыновья дяди и тёти тоже на фронте, им оттуда не суждено вернуться никогда. Они погибнут в начале 44-го года. Нас вызывать некому.
Условия размещения госпиталя и жизни здесь более хорошие. Школа двух или трёхэтажная, кирпичная. В школе – госпитале тепло и светло. Классы поделены перегородками на несколько палат, узких и длинных, но зато в каждой есть, хотя бы, часть окна, раненые лежат по 2– 3 человека. Вся территория школы, вместе с нашими домами, огорожена. Посторонние не допускаются. Поэтому нам, детям, разрешают одним выходить и играть во дворе.
Госпиталь работает напряженно. Фронт ближе, составы приходят чаще. Мама работает бухгалтером и медсестрой одновременно. Домой забегает на минуточку, иногда её отпускают поспать, чтобы не упала. Она и тётя Феня стараются ночные дежурства делить так, чтобы кто-то был со мной. Это не всегда получается. Тогда утром я вскакиваю и бегу в госпиталь.
В госпитале меня уже все знают и любят. Сначала я иду в бухгалтерию. Если там мамы нет, значит, она дежурит в палатах. Тогда мой путь определён – на кухню, к Анне Григорьевне, завтракать. Анна Григорьевна усаживает меня в тёмный уголок у самого окошка сдачи грязной посуды. На всякий случай, чтобы легко можно было меня спрятать, если какая проверка: посторонних здесь кормить нельзя.
Но какая же я посторонняя? Мне этого не понять. Ведь я почти всех раненых знаю, и они знают и любят меня. Я часто прихожу к ним. Заглядываю то в одну палату, то в другую. Вот весёлый пожилой солдат. У него забинтовано полголовы, но один глаз под кустистыми бровями щурится добротой. Он шевелит свободным пальцем забинтованной руки, подзывая меня. Каким-то образом умудряется достать из-под подушки кусочек сахара, протягивает мне. Просит посидеть с ним. Я знаю, он любит, когда я читаю стихи. В госпиталь приносят газеты, где печатаются разные стихи. Мне стоит один раз услышать, и я запоминаю все, сразу. Вот и сейчас солдат показывает своим единственным глазом на тумбочку, где лежит газета. Лежащий рядом другой солдат, совсем молодой парень, выздоравливающий, скоро выпишется, берёт газету, тихо читает вслух стихотворение:
Пожар стихал. Закат был сух.
Всю ночь, как будто, так и надо,
Уже не поражая слух,
К нам долетала канонада…
И между сабель и сапог,
До стремени не доставая,
Внизу, как тихий василёк,
Бродила девочка чужая
Где дом её, что сталось ней
В ту ночь пожара мы не знали.
Перегибаясь к ней с коней,
К себе на седла поднимали…
Пожилой солдат говорит: «Олеся». А молодой читает ещё раз, чтобы я запомнила. Про автора стихотворения никто не говорит, никому невдомек, что автора стоит знать. Просто есть хорошее, берущее за душу стихотворение. Так оно и запомнилось, так меня и просили: «Почитай про Олесю».
Уже много позднее, в сборнике стихов К. Симонова я прочла знакомые строчки и узнала, что стихотворение называется "Через двадцать лет".
Потом я перехожу в другую палату, там просят "Алешу":
Ты помнишь, Алеша дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди….
А ещё просят прочитать про седого мальчишку, которого раненный отец вез на пушечном лафете, как самом надёжном месте на этой земле. Это тоже был Симонов.
Видавшие виды, покалеченные солдаты потихоньку утирают слёзы. И я, конечно не до конца понимая, сколько стоит за этими строчками, проникаюсь в их боль, страдания, чувства. И уж что, я знаю, приободрит их, что я читаю почти в каждой палате, (я знаю, что написал эти строчки Константин Симонов):
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди…
. . . . . . .
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Простые слова хорошо понимались, принимались. Вскоре я научилась читать и уже сама прочитывала и запоминала стихи.
А ещё я пела и танцевала. Что я пела? Детских песенок я не знала, пела то, что услышала и запомнила по радио. Самой любимой была песня про синий платочек. Тоже много позднее я узнала, что по радио, как и на фронтах, эту песню пела Клавдия Шульженко. А танцевала – я танцевала под музыку, лившуюся из громкоговорителя. Мелодии были разные. Были песни, марши, музыка без слов. Марши я не любила. А вот музыка без слов будила во мне потребность движения. Я невольно погружалась в мелодию, и руки, ноги, тело начинали петь эту мелодию. Я даже не всегда понимала, как это происходило, был ли кто-нибудь рядом. Музыка кончалась, я замирала с последними тактами и только тут замечала, где я. Это могла быть палата, мог быть коридор. Но плотное кольцо солдат было всегда. Часто сёстры, проходя мимо или заходя делать уколы, задерживались в дверях, слушали, смотрели. Подходили уже передвигающиеся раненые из дальних палат. Звучали по радио и различные народные песни. Конечно, меня никто не учил национальным танцам, но солдатам очень хотелось их увидеть. Наверное, это было прикосновение к родному дому. Я вслушивалась некоторое время в звучащую музыку и начинала двигаться. Солдаты, для которых эта музыка была родная, утирали невольные слезы, иногда показывали некоторые характерные движения. Особенно много было русских, украинских, татарских мелодий. Кто-то раздобыл для меня узорчатый, красно-белый платочек, и я, то повязывала его на голову, то несла в руке, разнообразя и расцвечивая движения в танце. Но были и кавказские, и восточные мелодии Средней Азии, которые призывали двигаться совсем по-другому. Раненые из этих мест, кто незабинтованной рукой, кто ногой, показывали некоторые движения. Солдаты научили меня матросскому танцу. Так что репертуар мой был довольно богатый, эти спонтанные концерты происходили к всеобщему удовольствию. Когда мама освобождается, по толпе у дверей палаты или в коридоре она безошибочно определяет, где её дочь.
В одной из палат лежит совсем молоденький латышский мальчик. У него нет обеих ног и левая рука только до локтя. Мама и тётя Феня родом из Латвии, из городка Кандава. Они часто приходят к нему, он как бы родной. Они разговаривают с ним по-латышски, и он радуется возможности поговорить на родном языке. Его ярко-синие глаза полны такой тоски и боли! Мама попросила меня заходить к нему почаще. Сначала он молчал, хотя присутствие маленькой девочки, её голос и танцы смягчают его взгляд. Постепенно стал разговаривать. Потом попросил станцевать под мелодию, которую он напоёт. В это время подошла моя мама. Оказалось, что она помнит эту мелодию. Мама стала подпевать её и танцевать, а я повторять за ней. Он стал ждать нашего прихода и очень был рад, кто бы из нас ни пришёл. Я стала часто навещать его, особенно когда узнала, что его скоро выпишут. Потом он уехал, не знаю, как и куда. Но тогда это была судьба многих.
Иногда мой "обход" продолжался до обеда. Кто может, уходит в столовую, другим приносят обед в палату. А я, утомившись, часто засыпаю на освободившейся на время обеда койке. Вернувшиеся с обеда солдаты не хотят будить ребёнка, терпеливо сидят на соседней койке. Мама находит меня, поднимает, ведёт полусонную домой. Пётр Исаакович встречает нас в коридоре, уставший после бесконечных операций, находит в себе силы улыбнуться и сказать, что я помогаю им лечить солдат, и мне полагается орден, так же как ему (у него их было несколько, только я не знаю, каких).
Кроме меня на территории госпиталя была ещё одна девочка, Таня, на три года постарше меня. Она дочь сестры-хозяйки Галины Петровны. Они вместе с их бабушкой Елизаветой Ивановной живут в том же доме, но с другой стороны. Почему-то бабушка не пускала Таню в госпиталь. Таня с нетерпением ждала, когда я приду домой, чтобы чем-то заняться.
Бабушка Тани по профессии учительница. Её внучке давно пора в школу, которой нет. Она решила обучать нас грамоте и арифметике. В каком-то бывшем классе лежала груда не сожжённых при растопке книг. Сестра-хозяйка принесла несколько из них, не очень разорванных и грязных. Учиться чтению можно. Бумаги, конечно, нет. Перья и огрызки химических карандашей, выброшенные за негодностью из канцелярии, нам приносит мама. Перья мы прикручиваем ниткой к прутикам – получается ручка. Из кусочков грифеля разводим чернила. На чём писать? Используем поля в книгах и выбеленные стены избы. В сарае осталась побелка, и мы время от времени приводим стенку в первозданную белизну. С русским языком, литературой и арифметикой у нас всё в порядке. Но почерк! Это останется навсегда. В школе урок чистописания будет потом для меня и моих учителей самым мучительным предметом.
Наступило лето. Весь двор покрылся высокой, густой травой. Во двор на солнышко стали выходить раненые. Мы с Таней носились по зарослям травы, которая почти скрывала нас, бежали к маленькому прудику в дальнем конце огороженного бывшего сада. На прудик нам категорически запретили ходить. Но около него в особенно высокой траве стояла маленькая скамеечка. Я очень полюбила сидеть там, невидимая, не слыша никого и ничего. Иногда я долго сидела там, дремала, вдыхая дурманящий запах разогревшихся на солнце трав, слушая нескончаемый стрекот кузнечиков и птичьи песенки. Единственный недостаток этого уединения – множество комаров. Но это были мелочи, я приучила себя не обращать на них внимания и находить приятное в их жужжании.
Кончилось это тем, что у меня начался сильный озноб, высокая температура. Меня знобило так, что не помогали сваленные не меня одеяла и пальто, тёплые платки. Галина Михайловна и Петр Исаакович определили: малярия. Хорошо, что в госпитале были препараты на разные случаи жизни, точнее, болезни. Их было не так много, но малярией солдаты не болели.
В сумерки озноба и бреда иногда врывались светлые пятна. Галина Михайловна выкраивает время в своей непомерной нагрузке хирурга, забегает ко мне, даёт жутко горькую таблетку (хинин) и, чтобы порадовать меня, развевает надо мной и опускает в руки широкую, тончайшего шёлка, ярко-малиновую ленту. Какой же это прекрасный подарок! Много лет мне сначала завязывали из неё красивый бант, а потом я вплетала эту ленту в косу. Или вот посредине рабочего дня приходит тётя Феня, споро затапливает русскую печь. Берёт огромную сковороду и на сливочном масле жарит полную сковороду лука. Масло и лук ей выдают на складе для меня, и для меня же, чтобы накормить чем-то питательным, её отпускают на время с работы. Днём мне немного полегче. Я сквозь сон чувствую чудесный аппетитный запах. Открываю глаза и вижу высокую статную фигуру тёти Фени, склонённую к печному проёму. Её круглая голова с иссиня-чёрными, гладко собранными в аккуратный пучок волосами, выныривает из печи, затем появляются руки с вкусно шипящей золотистым луком огромной сковородой. Это тоже светлым пятнышком памяти осталось с того времени.
– Ланочка, сейчас будем кушать. Посмотри, какая красота! На кухне хлеб дали, целых три куска! Вот я ещё чайник поставлю, Анна Григорьевна морковного чаю дала. Будем пировать!
Мама приходит вечером, когда я уже ничего почти не вижу от бешеного озноба, только слышу её ласковый голос. Кто-то, кажется, все та же сестра-хозяйка, подарила мне толстую книгу русских народных сказок. (Я и сейчас помню эту потрёпанную книгу в сером коленкоровом переплете. Мы потом её взяли с собой в Москву, и она долго была у нас. Во время переезда, почти через 30 лет, я обнаружила, что её нет. Наверное, кто-то не вернул.) Мама пытается отвлечь меня от бредового забытья, рассказывает и читает мне сказки, рассказывает о знакомых мне раненых; вдруг в моё сознание яркой вспышкой врезается слово "папа". Я пытаюсь сосредоточиться, мама поняла это, повторяет: "От папы пришло письмо".
Болезнь отступила, но на всю оставшуюся жизнь у меня иногда возникают ознобы, без температуры, чаще по ночам, в первой половине сна. Связано ли это с перенесённой малярией? Не знаю.
Когда госпиталь ещё был в Искитиме, в обозе раненых поступил совсем молодой, лет 16-ти, мальчишечка, Алёша. Ранен он был очень тяжело, от долгой дороги развился сильный воспалительный процесс в истощённом организме. Принимала его тётя Феня. Отмыв от грязи и присохших бинтов, отнесла его на руках на срочную операцию. Операцию ему сделали, но сказали, что шансов у него практически нет. С этим тётя Феня не хотела согласиться ни за что! Взяла его под персональную опёку, дежурила, не отходя от него много дней и ночей, получая выговоры за то, что всё её внимание и забота отданы этому мальчику (персонала было мало, а раненых, наоборот, много). Она не могла допустить, чтобы этот совсем ещё ребенок ушёл из жизни. Её беззаветный уход дал результат! Во-первых, он не умер вскоре после операции, как предполагалось. Это уже было достижение. Потом, очень нескоро, но он начал поправляться. Тётя Феня терпеливо учила его подносить ложку ко рту, садиться и потом вставать, учила делать первые шаги. Это было чудо, сотворенное тётиными руками. Оказалось, что он из-под Смоленска, родители погибли, а он примкнул к военной части и остался там. Его брат был призван в армию незадолго до войны, связь с ним он потерял, знает лишь, что перед войной Николай был в Москве.
В середине лета он готов был к выписке, но куда его выписывать – неизвестно. Назад в военную часть и на фронт он не годился ни по возрасту, ни по ещё не окрепшему здоровью. Дома у него нет, где брат – неизвестно. Госпитальная военная служба (политрук или ещё кто-то, не знаю) запросила военкомат Москвы в поисках его старшего брата Николая. Тётя Феня, дядя и мама, пообсуждав, решили пока взять мальчика к себе. Алёша поселился у нас и стал тётю Феню звать мамой. Мы вместе, оба после тяжёлой болезни, выходили сначала на завалинку у дома, потом прогуляться по саду. К концу лета нашёлся его брат, оказалось, что он служит в комендатуре Кремля. Алёша уехал. Вскоре мы получили письмо от его брата. Он писал, что бесконечно благодарен тёте Фене за жизнь братишки, что и для него она теперь – мама, и если ей нужна любая помощь, он сделает всё, что может и что не может.
Единственное, что хотела тётя Феня, это вернуться домой. Им с дядей был нужен вызов. От их сыновей уже больше года не было никаких известий.
В начале декабря для тёти и дяди пришёл заветный вызов. Николай оформил его как для своих родителей. Мы остались одни.
В начале октября мы получили письмо из госпиталя, где лежал папа, раненый и контуженый. Подробностей я, конечно, не знаю, так как была слишком мала, чтобы понять и запомнить то, что объясняла мама. Госпиталь находился не очень далеко от нас, где-то на Волге. Мама хотела поехать к папе, но не знала, как быть со мной. Оставить меня – не с кем. И тут сотрудники госпиталя, несколько человек, пришли к нам. Галина Михайловна сказала их общее решение:
– Поезжай, Ира. Я, Пётр Исаакович, Галина Петровна и Елизавета Ивановна – мы все будем смотреть за Светкой.
– А в столовой я её всегда накормлю. Что, не найдется для ребёнка лишняя порция? Да и приведу её в столовую, чтобы голодная не ходила. Поезжай, – вставила своё окончательное решение повар Анна Григорьевна.
Мама решилась ехать. Начальник госпиталя выдал ей предписание для поездки по служебным делам в госпиталь, где был папа (иначе её не пропустят, завернут обратно или ещё хуже – арестуют). Общими усилиями собрали её в дорогу. Купили в деревне картошку, какие-то яблоки, яйца, хлеб. Мама уехала. Я не помню своей жизни без мамы. И уж точно не было никаких отрицательных ощущений. Значит, действительно меня окружили такой заботой и вниманием, что я не горевала в мамино почти двухнедельное отсутствие.
В начале 1944 года тот же Николай оформил вызов и нам.
Галина Михайловна и Пётр Исаакович собрали в теперь уже только их комнатках многих сотрудников госпиталя, с кем проработали уже несколько трудных лет. Расставаться было жаль. Но их сообщество образовалось в общей беде войны и не могло быть постоянным. Все были из разных концов страны, и с окончанием войны все должны были разъехаться по своим домам. Многие обменялись, как водится, своими домашними адресами, не представляя, что можно просто расстаться, как будто и не встречались. Впоследствии, после войны, многие продолжали переписываться, но постепенно связь угасла. У каждого был свой путь. Общим его сделала война.
Вскоре после нашего отъезда госпиталь снова отправился догонять линию фронта, работал уже на передовой. В самом конце войны в Москву проездом во Львов приехали демобилизовавшиеся Галина Михайловна и Пётр Исаакович. Он в самом конце войны был ранен и прихрамывал, опираясь на тросточку. Но это всё ещё только будет. А сейчас мы уезжали в Москву.
В трудовой книжке мамы появилась запись: "от 10.02 1944г.: Уволена в связи с переездом на постоянное место жительство в г. Москву".
Возвращение домой
В середине февраля 1944 года мы возвратились в Москву.
Мы снова дома. Наш дом на Восточной улице. Точнее, это адрес у него такой: Восточная улица, корпус 4. На самом деле дом расположен на углу Ослябинского и 1-го Восточного переулков.
На другой стороне Восточной улицы находится дворец культуры ЗиС. Адрес его – Восточная, дом 4. Вплотную к ДК примыкала бывшая трапезная Симонова монастыря, в которую во время войны заселили множество семей из разрушенных домов и беженцев. Там был настоящий муравейник, по несколько семей в узких пеналах-комнатушках, с одним узким окном. Этот дом тоже имел адрес ДК. Такая адресная система не могла не создавать некоторой путаницы. Но наши почтальоны в этом хорошо разбирались. Хотя это было не просто. Почту в жилой дом и ДК различить не сложно, а как разобраться с жилыми домами? Но почтальоны умудрялись разбираться, почти не ошибаясь. То ли помнили имена жильцов, то ли знали, откуда и куда приходили письма. Потом нашему дому присвоили № 1/7, корп. 4. Но мы упорно придерживались привычного адреса.
По Ослябинскому и 2, 3-м Восточным переулкам – деревянные домики с палисадниками, садиками и верандами. Наша сторона – тоже деревянные, но двухэтажные городские дома. За ними, на углу – пожарная часть и наш кирпичный дом, объединённые общим двором. Дом наш в то время имел форму буквы Г. В Ослябинский переулок выходит торец длинной ножки Г, которая тянется вдоль 1-го Восточного переулка, и вместе с ним поворачивает короткой полочкой в один подъезд.
В доме 5 этажей и 5 подъездов, по 10 квартир в каждом. Квартиры почти все коммунальные, по 3 комнаты, то есть семьи. Только в угловом 2-м подъезде квартиры 2-х комнатные. Мы живём в этом подъезде на 4-м этаже в квартире 17. Угол дома изломанной формы: два короба здания состыкованы не полностью, образуют внутренний угол, куда поместили выступающий, тоже углом, подъезд с застеклённой лестничной клеткой. В подъезде двери во двор и на улицу. Мне нравилось, когда можно было входить с улицы, но уличную дверь часто закрывали, и мы входили через двор. Окно нашей комнаты на торце короткой секции, смотрит на Восточный переулок, а слева углом выступают стеклянные переплёты лестницы. Комната, расположенная на стыке углов, имеет форму прямоугольника с прилепленным к нему гипотенузой треугольником, что оказалось удобным. Светлая, с большим окном (хотя и на север), почти 17-ти метровая комната на 4-м этаже в 2-х комнатной коммунальной квартире с весьма ограниченными удобствами (только туалет и водопровод) кажется нам раем. После всех скитаний и лишений.
Кончается зима, пригревает солнышко. Выхожу во двор, тихо привыкаю к старому – новому месту. И тут из соседнего 1-го подъезда выбегает моя подружка Эля, с ней у нас разница в возрасте всего три месяца. Наши семьи дружат, и мы с первых месяцев жизни проводили время вместе, сначала в колясках, а потом и в совместных играх и драках. Эля замирает, что-то прокручивается в наших головках, мы бросаемся друг к другу. Ведь столько всего произошло в наших маленьких жизнях! Мы почти уже не помним друг друга, нам надо заново привыкать, учиться понимать и даже играть. И столько надо всего рассказать! Мы неохотно расстаемся на ночь и утром снова спешим друг к другу. Иногда родители оставляют нас ночевать вместе в одном или другом доме. Вот тогда совсем праздник! Настроение приподнятое, ожидание чуда, радости.
Чудо и радость на грешной земле! Ещё идет война. Снова нет известий от папы. Мама переживает, плачет, а для меня слово "папа" стало совершенно отвлечённым. Тем более что ни у кого из ребят во дворе это слово никак не материализуется: папы все на фронте. Мама пока не может найти работу. Нет карточек, без которых не купить даже хлеба. Карточки дают только при наличии работы. Есть, правда, рынок, где можно купить еду и одежду, но это только теоретически. Цены там сумасшедшие, а денег нет никаких. Как мы жили и что ели? Мама относила на рынок вещи, оставшиеся с довоенных времён. А осталось только то, что мама успела второпях засунуть в комод. Комод старинный, отделанный красным деревом и карельской березой, с резными узорами, обрамляющими высокое зеркало и украшающие передние панели ящиков вокруг запоров. Вот эти-то запоры и не смогли открыть. Хотя пытались, и не один раз, но только повредили резные узоры.
Во время бомбёжек были уничтожены некоторые деревянные домишки в районе окружной железной дороги, использовавшейся ЗиС-ом (позже переименованным в ЗиЛ) для завоза материалов и вывоза готовой продукции. Людей, оставшихся без жилья, заселяли в пустующие комнаты, вскрывая замки. Конечно, они не прочь были поживиться, чем ни попадя, главное, задаром. Всё, что было в комнате, исчезло. Только с огромным комодом ничего не могли поделать, ни вынести, ни открыть.
Мама идёт здороваться с соседями по подъезду, по дому, добрыми друзьями, знакомыми, узнавать, кто приехал, кто оставался.
Первым делом поднимается наверх, где прямо над нами жила её старшая подруга, почти сестра, Виктория Ивановна. Её нет. Виктория Ивановна – немка, из давно обрусевшей немецкой семьи. Её сын – офицер Красной Армии. Он был призван в армию за несколько месяцев до войны, служил переводчиком. 22-го июня Александр забежал ненадолго проститься с матерью и ушёл на фронт. Когда мы уезжали, уже ходили упорные слухи, что всех немцев из Москвы вышлют. Соседка по квартире рассказала, что в самом конце августа 41-го года Викторию Ивановну выслали. Ей было уже за 50, почти никаких вещей взять с собой не позволили, куда отправляют – не сообщили. Так что она даже для сына не смогла оставить никаких координат, да и его адрес был засекречен. Через некоторое время ей удалось переслать с кем-то на свой московский адрес короткое письмо для Иры, то есть моей мамы, где она просит, когда появится её сын, Александр, сообщить её местонахождение.
Их поселение находилось в горном районе Киргизии. Она коротко сообщала, что её посылают на очень тяжёлые работы в каменоломнях, там сыро и холодно, очень холодные ночи. Она простудилась, сильный кашель, болят все суставы, работать нет сил. И жить – тоже. Записка пришла весной 42-го года.
Соседка сберегла письмо и сейчас отдала маме. Она передала и несколько писем от Александра, тоже от 42-го года, которые мать так и не получила. Заодно у этой соседки оказался наш шкаф и ножная швейная машинка ″Зингер″. Соседка сказала, что забрала к себе, что могла, для сохранности, когда вскрыли нашу комнату. Она посоветовала маме походить по всем соседям, которые, кто в добрых, кто в своих целях, разбирали наши вещи.
Мама написала по указанному номеру полевой почты в слабой надежде, что адрес сохранился, или ему перешлют. Александр приехал в конце сентября 45-го года. Мамино письмо до него не дошло, и он ничего не знал о судьбе своей матери. Он только теперь смог приехать, чтобы узнать о ней. Пришёл он к нам, так как знал, что его мама дружила с нашей семьей, и надеялся, что, если кто и может ему что-то сказать, то это будет тётя Ира. Саша был в шоке, узнав о случившемся и прочитав письмо матери. Он, офицер Красной Армии, выполнял специальные секретные задания, значит, ему доверяли! А его мать в это время оказалась виноватой в том, что родилась немкой. Их семья уже много поколений назад поселилась в России! И он не защитил свою мать! Саша уехал в полном отчаянии, отправился в Киргизию её разыскивать. Он вернулся через месяц, совершенно почерневший, удручённый. Долго сидел у нас, опустив голову на руки. Его спина глухо постанывала. Меня выслали погулять. В тот же день он уехал. Мама сказала, что Виктория Ивановна умерла в конце 41-го года, наверное, от воспаления легких. Больше об Александре и его семье мы ничего не слышали.
Заходя поздороваться с соседями, мама обнаруживала то тумбочку, то стол, а то и диван. Кто-то, увидев соседку, сразу говорил, что вот решили сохранить до её приезда, а кое-кто говорил, что не знает, чья вещь и как попала к ним. Самым сложным, как ни смешно, оказалось, вернуть диван. Его забрала наша соседка по площадке, дружившая с нашей семьей, тётя Оля. Она утверждала, что этот диван она купила, он просто похож. Маме было очень обидно за такой обман. Потом она вдруг вспомнила, что когда приходили к нам с обыском, то грубо ножом отковыривали внутренние обивки, там остались зарубки, порезы. Переборов свою щепетильность, мама пришла к Ольге и попросила показать ей диван внутри. Зарубки оказались на месте, отрицать принадлежность злополучного дивана было бессмысленно. Диван вернулся, а многолетняя дружба разрушилась. Только вернувшийся с фронта муж Ольги, дядя Миша, сначала просто здоровался с нами, потом пришёл к Ире с Семёном и извинился за свою жену. Постепенно отношения наладились.








