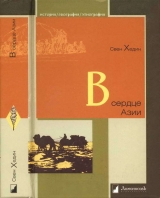
Текст книги "В сердце Азии. Памир — Тибет — Восточный Туркестан. Путешествие в 1893–1897 годах"
Автор книги: Свен Хедин
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 35 страниц)
XII. Экскурсия на челноке по Илеку, Тариму и Южному Лобнору
4 апреля мы открыли ту часть древнего Лобнора, которая по имени одного туземца называется Авулу-куль, и в течение трех дней следовали вдоль восточного берега этого озера. Местами, где песок несколько отступал от воды, по берегу рос тополевый лес, а где барханы были низкие, показывались кусты тамариска, возвышающиеся на вершинах бугров, остовом которых служили корни самых растений. Эти тамарисковые бугры иногда были расположены так часто, что мы оказывались в настоящем лабиринте и нередко даже предпочитали делать небольшие обходы по пустыне.
Лишь с вершин высоких барханов можно было видеть открытую воду в самой середине. Мы несколько раз и пробовали в тех местах, где вода была мелкая или совсем высохла, продираться сквозь тростник, хотя он вдвое превышал рост верблюдов и образовывал чащи, вроде стен туземных жилищ. Один из наших проводников шел вперед и высматривал дорогу. За ним люди вели верблюдов, которые своими мощными громоздкими туловищами раздвигали тростник и приминали его ногами, так что кругом стоял треск и хруст. Идешь за ними по образовавшемуся тесному коридору и ждешь не дождешься, когда наконец опять выйдешь на простор.
Верблюды были так изнурены этим продиранием сквозь чащи тростника, что пришлось им дать день отдыха 6 апреля. Мы разбили стоянку, по обыкновению, под открытым небом, на высоком бархане, под тенью старых тополей, недавно одевшихся свежей зеленью.
Отсюда нам открывался обширный вид на Кара-куль, а вдали на западе виднелась чаща тростника, окружавшая, как стеной, озеро Чивилик-куль. Жара уже стояла удушливая, в воздухе не шелохнулось, что бывает здесь редко в это время года. Особенно донимали нас в эту тихую погоду комары. Во время перехода эти ненавистные насекомые вились около нас тучами, а когда мы располагались на привал, они набрасывались на нас миллиардами с такой бесцеремонностью, точно мы только для этого и явились в эти страны, чтобы предложить им ужин. Удобно ли, спрашивается, писать, когда в одну руку тебе впиваются тысячи жал, а другая должна безостановочно махать во все стороны тряпкой? И мало удовольствия окружать в такую жару свой лагерь цепью горящих костров и задыхаться от дыму!
Около Кара-куля мы, однако, додумались до утонченного способа разделаться с комарами. На закате мы подожгли сухой прошлогодний тростник; огонь разросся в настоящий степной пожар, охватив большую часть озера, а дым легким облаком стлался над нашим лагерем. Я до полуночи лежал с открытыми глазами, любуясь великолепным зрелищем и наслаждаясь злорадной мыслью, что дым гонит сонмы комаров, словно шелуху, на край света. Вообще же мне по ночам приходилось, ради целости моей бедной кожи, прибегать к неприятному средству: я натирал руки и лицо табачным соком.
По поводу пожара в тростнике проводники мои рассказали, что раз тоже подожгли таким образом тростник на Кара-куле в ветреную погоду и пожар свирепствовал три лета и три зимы. Разумеется, рассказ этот был не более как басней, сочинять которые азиатские народы, как известно, горазды, но вообще-то действительно нелегко потушить огонь, разгулявшийся в сухом тростнике. Огонь пожирает его до самой поверхности воды, и тростник трещит, стреляет и разбрасывает искры, а длинные хвосты из дыма и сажи так и вьются по воздуху.

Лоплык в своем челноке
В течение недели мы не видали ни души человеческой. 9 апреля мы разбили лагерь около Кум-чеке, где на берегу Илека проживали три рыбацких семьи. Хрустально-прозрачная, темно-синяя река, воды которой прошли сквозь фильтр камышей, струилась по глубокому руслу по направлению к югу, чтобы затем снова слиться с Таримом в двух днях пути отсюда, образовав по пути еще цепь мелких озер.
Отсюда я послал Ислам-бая с караваном вперед к месту слияния рек, а сам с двумя гребцами отправился по реке в челноке и в восемь дней, не считая дней отдыха, добрался до самого конца нового Лобнора, или Кара-кошуна.
Прогулка вышла чудесная. Никогда ни одно судно не носило на себе более благодарного пассажира. Что за отдых, что за спокойствие после тяжелого, трудного душного перехода по песку!
Туземцы, проживающие около нового Лобнора, как и проживающие около старого, называют себя лоплыками, а челноки свои кеми; слово это означает и лодку, и паром, и вообще судно. Челноки, разумеется, бывают различной величины. Самый большой из виденных мной имел почти 8 метров в длину и 3/4 метра в поперечнике. Челнок, в котором я совершил свою экскурсию, имел едва 6 метров длины и не более 1/2 метра в поперечнике.
Выдолбить годный для плавания челнок из хорошего, свежего, не дуплистого тополевого ствола могут при усердии трое людей в пять дней. Парусов туземцы никогда не употребляют, но ловко управляются одним веслом. Последнее имеет тонкую, широкую лопасть и называется «гиджак» (то же слово обозначает несколько схожую с ним формой скрипку). Плывя по открытой воде, гребец стоит обыкновенно в челноке на коленях, но, попадая в тростниковую заросль, он выпрямляется во весь рост, чтобы лучше различать фарватер, поворачивается лицом к носу судна и держит весло в воде вертикально. На каждом челноке бывает обыкновенно по двое гребцов, и находящийся на корме стоит, так как иначе передний мешал бы ему править.
Сделав в день отдыха несколько пробных экскурсий на челноке, чтобы узнать среднюю его скорость, другими словами, найти единицу времени для определения проходимого пространства, мы отправились в путь 11 апреля. Один из гребцов занял место на носу, другой на корме, а я посреди челнока, где расположился на своих подушках и войлоках. Дневник, компас и перо были у меня под руками, а во все свободные уголки челнока насованы разные приборы, линь для промера глубины и продовольствие дня на два.

Лоплыкский мальчик с берегов Садак-куля
Приятным товарищем в пути оказался для меня Джолдаш № 3, щенок китайской породы, ярко-рыжего цвета, взятый мной из Курли. Он не мог угнаться за караваном во время долгих утомительных переходов, и поэтому его сажали в особую корзину, подвешенную к верблюду. В первые дни пути щенок страдал от морской болезни, потом привык. Устав бежать вприпрыжку, он преспокойно садился около какой-нибудь кочки, дожидаясь, пока кто-нибудь из людей не вернется за ним и не отнесет его в корзину. Эта собака составляла мне самую приятную компанию в течение всего остального путешествия по Азии и не разлучалась со мной почти никогда. И теперь она плыла со мной в челноке, по-видимому очень довольная новым удобным способом передвижения. Потом Джолдаш совершил со мной длинный путь обратно в Хотан, затем по Тибету, Цайдаму, Китаю, Монголии и Сибири. Большую часть этого огромного пути он проделал вприпрыжку и тем не менее в здравии прибыл в Петербург.
К сожалению, законом воспрещено ввозить в Швецию собак из России, и мне в самую последнюю минуту пришлось покинуть моего верного спутника. Но столь много путешествовавший пес здравствует и сейчас, найдя счастливый приют у директора Пулковской обсерватории г. Баклунда. Там Джолдаша скоро отучили от его азиатских повадок, и он с нетерпением дожидается следующего путешествия по бесконечным пустыням.
Когда все было в порядке, гребцы погрузили весла в воду, и челнок легко и быстро, точно угорь, заскользил по извивающейся темно-синей реке. Но тут тихой погоде настал конец. Как раз в эту ночь поднялась с востока «черная буря», заволокшая все небо и заставившая старые величественные тополи смиренно поникнуть головами. Пока мы плыли по реке, мы были в безопасности, так как ее глубоко врезавшееся в почву русло ограждено от ветра и песку стеной камыша.
По реке, однако, нам предстояло плыть всего несколько часов, а затем тянулись почти до самого конца открытые озера. Их-то и боялись мои гребцы, и мне, стоило больших трудов убедить их в том, что бояться нечего. Впрочем, мы все трое умели плавать, и Джолдаш также.
Итак, мы быстро подвигались по торной речной дороге. Тростник окаймляет реку узкой, но густой зарослью, и река часто становится похожей на пустынную улицу-канал в Венеции. В некоторых местах мы останавливались, чтобы сделать промер глубины. Раз гребцы остановились, не дожидаясь моего приказа, и сообщили, что «как раз тут» в то время, когда река и озера были еще сухи, «находилась соленая лужа».
Один из моих гребцов, охотник Курбан, который бродил в этих местах в течение пятидесяти лет, т.е. и тогда, когда здесь еще была пустыня, и тогда, когда, девять лет тому назад, сюда вновь прибыла вода, рассказал мне, что Пржевальский посылал в эти места его и еще нескольких охотников из Абдала, чтобы добыть шкуры диких верблюдов. Они застрелили одного и за его шкуру получили богатые подарки и деньгами и кожами и пр. С тех же пор, как сюда вместе с водой вернулись и люди, дикие верблюды исчезли бесследно, найдя себе более безопасные убежища в глубине пустыни к востоку отсюда.
Между тем мы уже скользили по первым озерам, пенящиеся волны которых катились к западу. Тут гребцам надо было глядеть в оба за вертлявым челноком, так как озера очень мелководны, а если бы челнок ткнулся о голое песчаное дно, он непременно перевернулся бы под напором бури и волн. Мы поэтому старались держаться по возможности поближе к восточному берегу – с той стороны мы были защищены от ветра высокими барханами.
Мало-помалу мы счастливо добрались до безымянного селения у начала Садак-куля, где проживало в камышовых хижинах несколько семейств. Они приняли меня с безыскусным радушием, приготовили для меня свежую рыбу и угостили утиными яйцами, нежными молодыми побегами тростника и хлебом. Когда я принялся за этот простой, но в высшей степени вкусный ужин, меня окружила целая толпа веселых, болтливых лоплыков разного пола и возраста. Даже молодые девушки, не стесняясь, показывали свои цветущие, но далеко не красивые лица.
Это необычайное отсутствие всякого страха и застенчивости объяснялось очень просто. Они никогда не видали европейца и представляли его себе совсем иным, наслушавшись рассказов о Чон-тюре – Большом господине, т.е. Пржевальском, который явился к их южным родичам в сопровождении двадцати вооруженных с головы до ног казаков, длинного каравана верблюдов и вообще в полном блеске европейского престижа.
А тут вдруг они увидали меня одного, как перст, без слуг, без каравана, прибывшего на челноке с двумя из их родичей; я говорил на их языке, ел их пищу и казался почти таким же неимущим, как и они. Они, верно, нашли, что разница между лоплыком и европейцем на самом деле не так уж велика!
12 апреля буря так свирепствовала, что мы не могли отправиться в путь. Но день спустя она немного поутихла, так что мы могли спустить челнок на воду. По окончании плаванья челнок обыкновенно вытаскивают на берег и опрокидывают кверху дном; время от времени его поливают водой, чтобы он не дал трещин. Больше десяти лет челнок редко может прослужить.
Водная поверхность сильно волновалась. Волны так и кипели вокруг челнока и обдавали нас брызгами и клоками пены. Надо было глядеть в оба. Мы поснимали с себя лишнюю одежду, чтобы, в случае нужды, было легче плыть. Приходилось также сильно балансировать всем телом и веслами, чтобы сохранить равновесие челнока среди этих волн, и зорко следить за тем, не стережет ли нас где предательская мель.
Пока, однако, все обходилось благополучно. Мы проплывали один залив за другим. Только посреди большого озера Нияз-куль пришлось нам с час стоять на месте, держась в защите небольшого песчаного островка. Но затем озера стали уменьшаться, и наконец мы опять очутились на реке Илек. По ее спокойным водам мы плыли до селения Ширга-чапкан, где уже с нетерпением и тревогой ожидал нас Ислам-бай с караваном.
После двухдневного отдыха караван продолжал путь посуху, а я на лодке по реке. Чон-Тарим все время делает самые причудливые завороты и извилины, иногда описывая чуть ли не полный круг, так что курс приходилось держать попеременно на все четыре стороны света. Буря свирепствовала с удвоенной яростью, и мои гребцы, отправляясь в путь, приняли меру предосторожности, связав вместе два челнока. Последние были поставлены бок о бок, но с расстоянием в один фут, и с борта одного перекинули на борт другого два шеста, которые затем прикрепили к самым бортам. Такой парный челнок, называющийся кош-кеми, требовал уже четырех гребцов, которым и приходилось в бурю напрягать все свои силы, так как судно на заворотах реки к западу, подхватываемое ветром, летело мимо берегов с головокружительной быстротой.
Проведя ночь в селении Чай, мы проплыли в течение следующего дня при чудной погоде 60 километров (по прямой линии всего 39,8 километра) по Тариму, который к востоку становится все уже и глубже; пустынные берега его были почти совсем лишены растительности. Вечером, когда мы достигли Абдала, на берегу собралось все население. Я, выходя на берег, указал на маленького старичка, которого видел в первый раз, и воскликнул: «А вот и Кунчикан-бек!» – чем привел всех в немалое изумление. Но его характерные черты нетрудно было узнать по портрету, помещенному в описании четвертого путешествия Пржевальского. Кунчикан-бек со своей стороны встретил меня, как старого знакомого и повел в прибранный «покой» в своей просторной камышовой хижине.
Кунчикан-бек был поистине славный старик. Он говорил без умолку и сообщил много интересных сведений. Пржевальский подарил ему свой портрет и несколько фотографий, изображавших сцены из морского быта, а также рыбачьи сети, котел и много других полезных вещей. И старик хранил все эти драгоценности в песчаном бархане к северу от Абдала; там они были в безопасности от пожара и от грабителей-дунган.
Когда я стал описывать ему наши лодки и наш способ грести, он отмахнулся рукой и воскликнул самым уверенным тоном: «Да я давно уже знаю все это. Чон-тюря уж рассказывал мне. Я отлично знаю, как у вас там на родине; я сам стал чуть ли не таким же русским, как вы!»
21 апреля мы сделали экскурсию по реке до довольно большого селения Кум-чапкан, причем старик Кунчикан-бек – «вождь восходящего солнца» сам действовал одним веслом с такой же силой и ловкостью, с какой, вероятно, действовал и 65 лет тому назад… Я мог всласть нежиться на своих коврах и подушках, прислушиваясь к шепоту тростника, плеску воды о борта челнока и любуясь переливами прозрачной воды, отливавшей в глубоких местах цветом морской воды, а в мелких, вследствие рефлексов от желтого камыша, цветом желе из рейнвейна.
XIII. Возвращение в Хотан. Правосудие Лю-дарина
Итак, первые четыре месяца года мы целиком провели в дороге, все более и более удаляясь на восток от Хотана. В конце концов мы очутились у конца лобнорской цепи озер, в тысяче верст с лишком от названного города, где я оставил почти все свои пожитки и свои деньги. В течение этого долгого путешествия мне посчастливилось разрешить поставленные мной себе задачи. Мы побывали на развалинах древних городов, следовали по течению Керии-дарьи до самого ее конца, пересекли пустыню Гоби, уяснили себе сложную речную систему Тарима и загадку, представляемую озером Баграш-куль, и, наконец, исследовали Лобнорскую область.
Форсированный, трудный переход по пустыне порядком истощил наши силы; приближалось лето с удушливыми жарами, тем более неприятными для нас, что мы захватили с собой лишь зимнюю экипировку; все мы и горели желанием отдохнуть в Хотане. Будь у нас крылья, мы бы с радостью перелетели туда по воздуху, так как оба пути вдоль северной подошвы Куньлуня исследованы и описаны Пржевальским, Певцовым, Дютрейль-де-Рином и Литледэлем, да и кроме того, представляют мало интереса. Тем не менее выбора не было, и приходилось ехать. 25 апреля, сердечно распрощавшись с престарелым Кунчикан-беком, мы с караваном из трех верблюдов и двух лошадей оставили Абдал.
Приятно все-таки было сознавать, что находишься на пути к западу; по благополучном возвращении в Хотан мне оставалось выполнить только еще одну задачу моей программы – исследовать Северный Тибет. Кроме того, в Хотане, как я узнал из сообщения, посланного мне в Карашар генеральным консулом Петровским, меня ждала солидная кипа писем из Швеции. Эти письма магнитом тянули меня на запад. И как только мы выехали из Абдала, поднялся упорный ветер с востока, гнавший нам вслед тучи песку и пыли, словно само небо подгоняло нас к западу.
В такую бурю нельзя чувствовать себя в седле особенно прочно: ветер, того и гляди, сорвет тебя. Лошадь шатается, как пьяная, а верблюды широко расставляют ноги, чтобы не потерять равновесия.
Хотя, вследствие бури, Кара-буран и стал обильнее водой, мы все-таки пересекли озеро, т. е. те его части, которые со времени Пржевальского успели высохнуть. Затем мы достигли низовья речки Чакалык, которая впадала бы в Кара-буран, если бы не иссякала раньше в низменной равнине. Буря и эту речку заставила свернуть в сторону от русла и залить всю низменность кругом, так что исчезла под водой и тропа.
Мы поэтому ехали больше наугад по воде. Всюду, куда ни погляди кругом, волновалось настоящее море. Пена так и кипела вокруг нас, водяные брызги взлетали на воздух и рассыпались мелкой пылью. В течение целых трех дней буря не стихала ни на минуту, и температура не поднималась выше 15–18°, так что нам было довольно прохладно.
27 апреля вечером мы прибыли в Чакалык, небольшой городок, населенный сотней семейств. Прежде всего нам предстояло сбыть здесь своих трех верблюдов, сослуживших нам с того времени, как мы оставили Хотан, неоцененную службу. Истинными философами шагали они целые месяцы по ужасной пустыне, величественно рассекали мощные заросли и чащи, безбоязненно шли по воде и болотам, никогда не роптали, никогда не причиняли нам никаких затруднений и часто еще ободряли нас самих своим спокойствием. Но мы слишком уж использовали их силы, и им теперь нужен был отдых; тащить их с собой до Хотана было бы варварством – верблюдов никогда не употребляют в дело летом, но дают им полные каникулы, которые они и проводят на подножном корму в горах.
Особенно мне было жаль расстаться с моим верховым верблюдом, великолепным самцом 10 лет. Как я уже упоминал, верблюды не любят людей и никогда так не приручаются, как лошади. Но у нас с моим верблюдом была большая дружба. Зато, когда к нему подходили мои люди, которые обыкновенно вели его за веревку, продетую в нос, он сердито ревел и плевался. Убедившись, что я никогда не трогаю веревки, он уже встречал меня совершенно иначе. Я мог гладить его по морде и по лбу, и он не выказывал при этом ни малейшего неудовольствия. Каждое утро я давал ему два больших ломтя маисового хлеба, и он под конец так привык к этой подачке, что в известный час сам подходил к моему войлоку и напоминал о себе. Иногда он даже будил меня, изрядно толкнув мордой.
И вот теперь приходилось расстаться с этими тремя заслуженными слугами, делившими с нами и горе и радость. Купил их у меня один андижанский купец за полцены против заплаченной нами, а мы взамен приобрели еще четырех лошадей. Но я почувствовал себя просто осиротевшим, когда покупщик увел наших верблюдов; двор опустел без них.
К счастью, у меня оставался Джолдаш, который постоянно лежал рядом со мной в лачуге, где я помещался. Раз я сидел на своем войлоке и писал, вдруг Джолдаш вскочил и начал ворчать, тыкая носом в землю. Я сначала не обращал на него внимания, но он мало-помалу приблизился ко мне вплотную, выказывая все признаки сильнейшего беспокойства.
Тогда я стал осматриваться и почти у самых ног своих увидал двухвершкового отвратительного скорпиона, который вилял своим ядовитым хвостом, защищаясь от собаки, которая, однако, инстинктивно остерегалась укусить его. Скорпион был раздавлен, а Джолдаш награжден куском мяса и ласками, показавшими ему, что он вел себя молодцом.
Чакалыком правит китайский амбань Ли-дарин. Кроме того, со времени вспыхнувшего в декабре 1894 г. в области Синин-фу дунганского восстания китайцы держат в городке гарнизон из 265 солдат, вооруженных старыми, забракованными английскими ружьями 60-х годов. По своему обычаю и соблюдая долг вежливости, я немедленно по прибытии послал Ли-дарину мою китайскую визитную карточку и местный паспорт, выданный мне Хуэнь-дарином карашарским, и поручил осведомиться, когда я лично могу сделать амбаню визит.
На это Ли-дарин через своего переводчика ответил, что предварительно требует от меня большого, годного и для здешних областей паспорта. Я попросил переводчика, оказавшегося любезным беком-мусульманином, объяснить амбаню, что мой большой паспорт из Пекина и Кашгара остался в Хотане, так как, выезжая оттуда, я не предполагал забираться так далеко, и что я лучше сумею объяснить все это при личном свидании с амбанем.
Ответ гласил, что лицо, не имеющее настоящего паспорта, является субъектом подозрительным, что амбань меня не примет и что южная дорога в Хотан для меня закрыта, но что я, в силу имеющегося у меня местного паспорта, могу получить разрешение вернуться в Кара-шар и затем направиться в Хотан той же дорогой, какой пришел.
Вот так славно! Употребить в летнюю жару целых три с половиной месяца на путешествие по пустыне, по уже исследованному пути, тогда как по южной дороге через Черчен мы могли добраться до Хотана в один месяц! Я и поручил переводчику передать своему амбаню, что, во-первых, я презираю его, а во-вторых, что я во всяком случае завтра же выступлю в Черчен. Лаконическим ответом было: «Выезжайте, но я арестую вас и с десятью солдатами отправлю в Кара-шар!»
Тут надо было подумать да подумать! Скоро, однако, я сообразил свое положение и принял следующее решение: выступить в Черчен на следующий день и дать Ли-дарину арестовать себя и отправить в Кара-шар; оттуда я отправлюсь в Урумчи и там с помощью русского консула не только добьюсь свободного пропуска через Черчен в Хотан, но и устрою, что Ли-дарин получит заслуженный нагоняй и должен будет возместить мне убытки, причиненные задержкой и лишней дорогой.
Согласно с этим я и условился, что упоминавшийся выше андижанский купец побережет наши пожитки и наших лошадей. Сопровождать меня должен был один Ислам-бай; крохотный багаж наш поместился позади нас на седлах.
Сначала я был очень рассержен перспективой такой значительной задержки в пути, тем более что ни силой, ни хитростью ничего нельзя было поделать с упрямым мандарином, у которого имелось под руками 265 солдат. Но к вечеру мысли мои прояснились, и путешествие в Урумчи представилось мне совсем в ином свете. Отделявшие нас от него 700 верст сулили мне новые пути и интересные области; я мог ознакомиться с главным городом китайской части Внутренней Азии, который кишит знатными мандаринами и в котором находится небольшая русская колония. Все это было очень заманчиво, хоть сердце и болело по письмам с родины.
Но моя счастливая звезда оказалась сильнее Ли-дарина, амбаня чакалыкского. Поздно вечером во двор к нам явился мандарин лет 50, с тонкими интеллигентными чертами лица, и назвался Ши-дарином, комендантом гарнизона. Он сообщил мне, что получил приказ арестовать меня завтра и явился теперь выразить мне свое сожаление по поводу грубого поступка Ли-дарина, обещаясь при этом постараться уговорить последнего.
Беседа перешла на другие предметы. Ши-дарин очень заинтересовался моим путешествием и расспрашивал меня обо всем. Когда я рассказал ему о своей первой попытке пересечь Такла-макан, он вскрикнул и чуть не бросился мне на шею. «Так это вы были? Я как раз находился тогда в Хотане и слышал разговоры о вашем несчастном путешествии. Лин-дарин тоже рассказывал о вас, и мы оба надеялись увидеть вас в Хотане».
Этот Лин-дарин был не кто иной, как Павел Сплингерт, бельгиец, который находился в Хотане 30 лет, четыре года разделял, в качестве переводчика, экспедиции Рихтгофена и теперь был влиятельным мандарином в Са-чжоу. Он в конце концов стал настоящим китайцем, женился на китаянке и имел от нее одиннадцать детей. Некоторые из них были отданы в католическую миссионерскую школу в Шанхае.
Сплингерт и Ши-дарин имели поручение отурумчийско-го генерал-губернатора обревизовать Восточный Туркестан, особенно южные его границы, и ознакомиться с условиями добывания золота. В течение тех недель, которые я провел в лесах Буксама, они находились в Хотане. Когда же они прибыли в Кашгар, я только что выступил оттуда в Памир, а когда я осенью вернулся в Кашгар, они уже успели выехать оттуда. Мне давно хотелось встретиться со Сплин-гертом, тем более что я привез ему поклоны от Рихтгофена. Но удалось мне это лишь год спустя, когда мы встретились с ним в русском посольстве в Пекине. Сплингерт собирался тогда переселиться в Тянь-цзинь, где Ли-Хунг-Чанг давал ему выгодное место.
Поговорив о наших общих знакомых, мы с Ши-дарином подружились так, как будто знали друг друга много лет. Он просидел у меня до полночи. Мы поужинали вместе, закурили трубки и продолжали беседу. Я показал ему свои маршруты и эскизы и развил перед ним весь лобнорский вопрос, который заинтересовал его тем более, что он сам знал, что озеро в прежние времена имело иное положение.
Вместо того чтобы отправиться в Урумчи, мы остались на другой день в городе, и я отдал визит Ши-дарину. Он принял меня как нельзя любезнее и показал мне собственноручно выполненные съемки своих маршрутов по горным областям к югу от Чакалыка и Черчена. Я был просто поражен. Не будь на картах китайских надписей, никто бы не поверил, что это сделано не европейцем; горы были нанесены на карту по современным методам.
Затем Ши-дарин показал мне свои английские компасы, диоптры, измерительные приборы и пр. и пр. Наконец, он повел меня осматривать крепость, склады амуниции и оружия и во время обхода выказал себя совершенно свободным от всяких предрассудков; словом, это был необычайный китаец. Он скорее производил впечатление европейца, нежели сына Поднебесной империи. Он долго служил в Кульдже, где свел знакомство со многими русскими, что дало ему возможность научиться, как должно, ценить преимущества цивилизации. Долговременные сношения со Сплингертом только укрепили его взгляды на Европу.
За обедом я нашел своевременным спросить, как же теперь насчет моего ареста. Ши-дарин сообщил, что все утро провел у амбаня, но тот стоит на своем, говоря, что имеет приказ на все время восстания дунган охранять дорогу в Черчен и Хотан. Ши-дарин старался втолковать ему, что тут нет никаких дунган, а есть только мирный европеец. Но амбань заявил, что не может знать, кто я, так как у меня нет паспорта.
«Ну, так придется, пожалуй, отправиться в Урумчи!» – сказал я.
«В Урумчи? Вы в уме?! – воскликнул Ши-дарин и принялся хохотать. – Нет, отправляйтесь преспокойно в Черчен, я отвечаю за последствия! Амбань, правда, приказал арестовать вас, но ведь я начальник гарнизона и не дам ему для этой цели ни одного солдата. А если он захочет арестовать вас с помощью туземных беков, я дам вам охрану из своих солдат».
Кто бы мог надеяться на такой оборот дела! Те же самые солдаты, которые по приказу надменного Ли-дарина должны были арестовать меня, употребив в случае надобности даже силу, становились теперь моей защитой! Случаи такого разлада между представителями гражданской и военной власти, однако, нередки в Китае. В Кашгаре и в Хотане я наблюдал такие же обостренные отношения.
На другой день все было готово к отъезду. Ши-дарин, как будто мало сделал для меня, прислал мне богатый запас сахару и табаку, в чем я как раз нуждался, а взамен получил несколько мелких вещиц и карт, без которых я мог обойтись.
Затем мы выступили на запад. В роще на окраине города стояли трое бывших наших верблюдов, пощипывая листву. Мы послали им грустное «прости», но они не удостоили нас даже взглядом, продолжая свою сочную трапезу.
Миновав Ваш-шари, где посетили развалины и купили у одного земледельца старинный медный кувшин, мы достигли Черчен-дарьи и по ее редким лесам направились к городу Черчену. Из Черчена ведут две дороги в Керию. Следуя по северной, пустынной, которую, по-видимому, избрал Марко Поло, можно достигнуть Керии в 10 дней. Но так как в это время года она являлась совершенно безлюдной, вода в колодцах была соленой и нас всю дорогу донимали бы полчища комаров, то мы выбрали более южную дорогу, ведущую вдоль хребта Куньлунь и лежащую средним числом на тысячу метров выше северной.
Мы направились к золотым приискам Копы, где туземцы, ищущие счастья и золота, роют колодцы (кан) до 50 саженей глубиной, пока не дойдут до жилы. Узкие туннели, похожие на подземные ходы кротов, идут по направлению старого речного русла, в котором и находится золотой песок. Проехав через Соургакское золотое поле, мы опять спустились в низменные области и пустыню, где чудеснейшим убежищем от песков явился маленький оазис Яс-улгун (Летний тамариск).
27 мая мы прибыли в Хотан, здоровые, но усталые, с несказанным чувством удовольствия предвкушая отдых на некоторое время.
Читатель, без сомнения, помнит, что мы в несчастное наше странствование по пустыне в апреле и начале мая 1895 г. оставили между барханами палатку, почти весь наш багаж стоимостью до 5000 крон и двух людей, умиравших от жажды. Вдовы последних являлись ко мне в Кашгаре и с плачем и рыданьем просили вернуть им покойников. Я помог им по возможности деньгами, потом собрался в новое путешествие, и новые приключения почти стерли из моей памяти события первого.
Летом 1895 г. неожиданно вынырнул на свет Божий шведский офицерский револьвер, находившийся во вьюке Нэра, и у нас зародились подозрения. И генеральный консул Петровский, и дао-тай послали приказы в Хотан о новых розысках, но розыски эти не привели ни к чему. В начале января 1896 г. я вернулся в Хотан и снова выступил оттуда, оставаясь в полной уверенности, что палатка, багаж и оба умершие были давно засыпаны песком. Судите же о моем удивлении: в самый день моего прибытия в Хотан 27 мая Лю-дарин прислал на мою квартиру значительную часть пропавших у меня вещей, которых я не видал уже бол ьше года.
Спешу прибавить, что, принимая вещи, я испытывал самые смешанные чувства. Ясно было, что с находкой этой связано было разоблачение интриги и что мы были обмануты. И действительно, открылась целая запутанная история, настоящий уголовный роман, о котором я расскажу вкратце, так как он освещает характер туземцев-мусульман не меньше, чем правосудие китайских властей.
Купец Юсуф, напоивший умиравшего Ислама водой, вернувшись в Хотан, подарил шведский револьвер аксакалу западнотуркестанских купцов Сейд-Ахрам-баю, с явным расчетом обеспечить себе его доверие и молчание. Но аксакал, вовремя предупрежденный Петровским, не дался в обман. Он подверг Юсуфа строгому допросу, и купец наконец признался, что получил револьвер от Тогда-бека, управлявшего селением Тавек-кэль. Аксакал передал затем револьвер Лю-дарину, который через дао-тая доставил его мне в Кашгар. Когда Юсуф увидел, что дело возбудило некоторые подозрения, он счел за лучшее уехать в Урумчи. Так как больше о нем не было ни слуха ни духа то у аксакала зародились новые подозрения, и он послал в Тавек-кэль лазутчика с поручением следить за Тогда-беком и его домом. Одетый в рубище лазутчик так хорошо сыграл свою роль, что Тогда-бек взял его к себе в услужение, в пастухи. В качестве пастуха лазутчик и бродил по области со стадами бека, выполняя свои обязанности к полному удовольствию нового хозяина.








