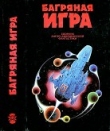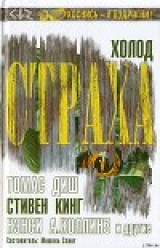
Текст книги "Холод страха"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: Томас Майкл Диш,Стивен Ридер Дональдсон,Нэнси Коллинз,Сэйра (Сара) Смит,Патрик Макграт,Мервин Пик,Рэй Рассел,Эрик Маккормак,Т. Паркинсон,Валери Мартин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Дверь гулко захлопнулась.
Лицо герцога омрачила скорбь.
– Ты говоришь, мертвы? И она, и он?
– Да, обои, ваша светлость, – ответил тюремщик. – Сами себя прикончили. Я было отвернулся, а они руки меж прутьев просунули да и ухватили ножики, которые я по приказанию вашей светлости положил у них на виду. Да помилует Господь их душеньки.
Герцог перекрестился, отослав тюремщика, и обернулся к прелату с аккуратной тонзурой.
– Вы слышали, монсеньор? Мучимые раскаянием, в ужасе перед своим грехом они наложили на себя руки.
– И как самоубийцы, – торжественно возгласил прелат, – прямо отправились в Адское пламя, дабы там терпеть кару, бесконечно более суровую, чем казнь, на которую могли бы обречь их вы.
– Истинно, истинно! Бедные, ввергнутые в вечное пламя души, – сказал герцог. – А ведь, как вам известно, я не собирался причинять им ни малейшего телесного вреда.
– Ну, разумеется, нет. Такая жестокость повредила бы доброй славе, которая повсюду сопутствует вам.
– Эти жуткие описания якобы уготованных им кар, которыми по моему приказу потчевал их тюремщик, эти скелеты и все прочее имели лишь одну цель: в течение ночи исполнить их сердца ужасом и смирением. О, как я раскаиваюсь…
– В безобидных россказнях и костях?
– Не столько в них, монсеньор, сколько в своей излишне доверчивой натуре, которая толкнула эти юные создания на тропу соблазна. Не моя ли вина? Не моя ли рука привела их к развращенности, обличению и смерти?
Прелат сказал категоричным голосом:
– Нет! Бесхитростная доброта вашей светлости не может считаться причиной чужих грехов.
– Вы так милосердны!
– Вы ведь не могли ни предвидеть смерть вашей юной супруги, ни тем более желать этой смерти.
– О нет, нет!
– Вы ведь никак не могли пожелать того, чтобы еще раз стать вдовцом!
– Оборони меня Бог.
– И в очередной раз жить в печальном одиночестве.
– О злополучный день!
– Ни один человек во всей стране не обвинит вас.
– Молю Небо, чтобы это было так.
– Сердца ваших друзей, ваши верные придворные, бедняки крестьяне, знатнейшие вельможи, его величество, сама Церковь – все скорбят с вами в этот тяжкий час.
– Благодарю вас, святой отец.
– Однако если мне будет позволено коснуться вашего положения овдовевшего супруга, чья рука внезапно стала свободной для нового брака, посмею напомнить вашей светлости о том, что теперь перед вами открылась возможность породниться через брак с семейством столь высоким, что мне нет нужды его называть…
– В подобное время, – сказал герцог, – не должно помышлять о браке. Но когда мое горе поутихнет, тогда мы сможем поговорить об августейшей особе, вами упомянутой, чья сестра, если не ошибаюсь, как раз достигла пятнадцати лет, а потому вполне созрела для вступления в брак. Вам, монсеньор, я поручаю все приготовления к брачной церемонии, которая, нет нужды напоминать об этом, может состояться лишь после того, что принято называть положенным сроком.
– После положенного срока, разумеется, – ответил прелат.
Магия ужаса
Клодия О'Киф
Озеро последнего желания
Ночью Вилона, очнувшись от реальной жизни, снова оказалась у того же озера, что и в прошлый раз. И хотя берег был жестким, колюче-холодным, сырым, под стать окружающей тьме, она лежала на мягком мху, укрытом бледной россыпью лепестков магнолии, лежала, преклонив голову на малахитово-зеленую подушку из чего-то, напоминающего нежную замшу. Одинокий лепесток, слетевший сверху с почти невидимых ветвей, скользнул по ее шее и, беззвучно упав, смешался с другими. Она села.
Напряженная. Застывшая в ожидании.
Поднялась. Взглянула на недвижную озерную гладь, темную, отливающую перламутром, как черная жемчужина, на замерзшие отражения тростников и камышей. На мгновение задумалась – а какова же она сама? Но стоит ли спускаться к воде, стоит ли глядеться в нее? Нет. Как и прошлой ночью, Вилона почему-то ощутила, что бояться нечего. Она будет прекрасна. Много, много прекраснее, чем в реальной жизни.
Волосы – длинные, прямые, разметавшиеся, цвета красного золота. Лицо тонкое и удлиненное, скулы – высокие и крутые, словно выточенные величайшим из скрипичных мастеров. Линии, смягченные прозрачными тенями. Кожа, точно шерсть сиамской кошки, бледная, на щеках – лишь чуть-чуть темнее. Тонкое, хрупкое тело.
Одежды из великолепной ткани, алебастрово-розовой, вырезанной наползающими друг на друга лепестками. Тяжелые, но не для нее. Она сильная. Прижимает к груди книгу, в которой каждое стихотворение, каждая история написаны далеко отсюда, уже не детской, но еще не женской рукой. Ее рукой.
Недолгое ожидание – и вот уже с безоблачного неба опускается черный лебедь, описывает последние круги над водой. Огромный лебедь, широкие крылья, глаза и лапы – серебристо-черные, как озерная вода. Оперение столь темно, что почти неотличимо от ночного неба. Он слетает к камышам и опускается с легким всплеском. Широкая грудь, прикоснувшись к воде, оставляет рябь, изящную, как резьба на старинном женском зеркальце.
Лебедь плавал по озеру туда-сюда, поглядывал на нее со спокойным любопытством. То же самое было и вчера, как она потом обнаружила – целый час, но смотрел он издали, от смущения, из опасения ли, непонятно. А потом, еще до первых проблесков зари, взмыл в небо и унесся к горизонту.
Сегодня, однако, терпение ее лопнуло. Уставшая сидеть и наблюдать, она встала и тихонько подошла к воде. Лебедь заметил – и замер посреди озера.
Непонятно. Ведь каждое мгновение здесь, каждая мелочь подчинялись ее воле. Все – как пожелает, все – предсказуемое, умиротворяющее, в точности, как она придумала. Почему же не подплывает лебедь?
И, не жалея легких серых туфелек, о которых в действительности и мечтать бы не посмела, она ступила в воду – и побрела к лебедю. Новое удивление – он стал стремительно двигаться навстречу.
Вилона, пятясь, вышла из озера – обратно на землю, почти что к самой магнолии.
Лебедь, скользя, доплыл до берега, одним махом крыльев вспорхнул к тростникам – и в следующий миг лебедем уже не был. Так она и думала, так и должно было случиться – юноша. Годом-двумя постарше ее, стройный, широкоплечий, с высокой, царственной шеей, угольно-черные волосы колышутся на ветру подобно лебединым перьям.
Он шел, склонив голову, следя взором, как вода переходит в песок, а песок – в изумрудный мох, и смущение, граничащее со стыдом, она мшистую прогалину – возможно, теперь он подойдет поближе?
Он покачал головой. "Ты же не хочешь…"
Слова, которых юноша не произнес, слова, которые она не услышала ощутила.
"Нет, хочу!" – Она сказала это громко, поднялась, потянулась к нему, обняла… нет, попыталась обнять, потому что плечи его снова обратились в крылья. Прикосновение к человеческому телу длилось лишь долю мига, она успела только дотронуться до черных волос, ощутить кончиками пальцев шелковистые пряди – точь-в-точь перья… и вот уже руки ее обвивают лебединую шею, и клюв легонько прихватывает ее плечо, приказывая остановиться…
Вилона открыла глаза и увидела капельницу над больничной кроватью, пузырьки с лекарствами, выстроенные рядом на столике, ждущие времени очередного укола. Увидела свои руки, сжимающие тетрадь, обложку, давно утратившую цвет от пота горящих в лихорадке ладоней. Ощутила внутри влажное напряжение неслучившегося оргазма. Возможно, медсестры что-то заметят – но точно ничего не скажут. Медсестры, которые, похоже, знают о ней все.
Вилона успела записать в тетрадь лишь несколько строк – и снова в болезненный полусон. Очнулась, написала еще немножко – и опять почти что лишилась чувств. Вытащила себя из слабости и жара в третий раз – и заметила родителей, сидящих по обе стороны ее кровати. Сердитое, как обычно, лицо отца, полного злости не на нее, злости вообще, взгляд матери, горестно изучающей нарывы у дочери на руках, все увеличивающиеся. Все больше, все воспаленнее – стрелки на часах, отсчитывающие, сколько дней жизни осталось.
"У этих бессердечных сволочей законников, может, ни совести нет, ни стыда, – отец опять за свое, – но что ж у них… – помолчал, – …дочерей, что ли, нет?" Говорит – и, сам того не замечая, припечатывая каждое слово, ручкой красного дерева стучит по тыльной стороне руки, оставляет короткие чернильные шрамы, что так не вяжутся с шикарным маникюром.
Она глядит на отцовские руки, потом – на материны. Смешно – чем больше нарывов расцветает на руках Вилоны, тем одержимее ее отец холит свои собственные. А вот мать – наоборот, никакого вам больше лака, никакого маникюра, никакого даже крема для рук, ха! Не руки – символ покаяния, безмолвное заявление о тоске-печали, об отчаянии, в которое приводит ее доченькина болезнь. Ну, может, еще и попытка хоть как-то скрасить жуткий контраст между здоровьем и умиранием.
Как много говорят эти руки! Вилоне противно. Но она понимает, что отец и мать правда любят ее, – и улыбается им.
"Богом клянусь, – рычит отец, – попадись мне только в руки кто-нибудь из этих идиотов, которым на все плевать, я…"
Мать прерывает: "Как ты сегодня, радость моя? Еще не отошла после беспамятства?" На слове "отошла" внезапно сводит горло, сработала внутренняя цензура, дошло, похоже, что за страшным словом умудрилась назвать происходящее. "Может, мне поговорить с доктором?.."
…НАСЧЕТ МОРФИЯ, – не произносится, но подразумевается.
"…Но народ, вся остальная страна – с тобой, Вилли, детка. Ты посмотри, какой сегодня поток!" – Отец потрясает двумя огромными мешками пыльными, похоже, по полу волочил. А внутри – открытки, конверты, подарки – все, что приходит по почте.
Она задумалась обо всех этих диких газетных историйках – про то, как письма проникшихся читателей спасают жизнь смертельно больным людям, чушь какая, человеческое тело – не телесериал, ему письмами жизнь не продлишь.
Голову давило – так отчаянно, что слушать отца было мукой. Так, словно мозги медленно выдавливают изнутри черепа – в область лба, что, собственно, и делали стремительно разбухающие лимфатические узлы. Чтобы как-то ослабить боль, хотелось набрать в грудь побольше воздуху, как после самого тяжкого физического усилия, как если бы спринтом бежала по кругу, снова и снова, без остановки. Так бы и самый выносливый спортсмен сломался, захлебнулся бы стоном. Но она-то, она ж и дышать глубоко не может, и быстро – тоже! Болезнь уже и легкие ее зацепила, так что каждый вздох делать приходится осторожно.
Даже перевести взгляд на лица родителей – и то невыносимо, а она пытается, пытается, пытается! Невозможно поверить, что просто поднять глаза может быть настолько трудно.
Так что она продолжает смотреть на руки – и понимает, что совершенно не в силах, как бы там ни было, понять, о чем вещает голос отца, и опускает веки.
"Так что же, поговорить мне с доктором?" – Мать снова задает вопрос, шепчет, наклонившись к самому уху Вилоны.
"Нет, мама". Больше ей не хочется говорить. Слова из-за болезни нечеткие, смазанные. Мать слишком сильно испугается.
И она разрешает себе уплыть в тишину, надеясь только, что улыбка ее сохранится, возможно, и в беспамятстве…
Лебедь кружил и кружил над головой – спокойно, однообразно, избегая тратить силы. Парил в воздухе, шевеля крыльями только изредка, только чтобы удержаться на лету. Выжидал. Опасался спуститься на землю.
Но, раз уж она позвала его, рано или поздно спуститься на землю придется?
Пришлось. И он спустился – в самом дальнем от нее конце озера, так далеко, что она не услышала даже с плеском хлестнувших по воде крыльев. Принялся бесцельно плавать по крошечному заливчику, всячески демонстрируя, что ее тут вроде бы и нет. Однако время от времени долгая шея грациозно изгибалась – лебедь делал вид, что, по птичьей привычке, клювом чистит перья, но она знала – на самом деле он смотрит на нее.
Наконец Вилона решилась обогнуть озеро и подобраться к лебедю поближе. Странно – нынче ночью ее одежды словно бы стали тяжелее, и воздух уже много теплее, чем раньше. Окружающий пейзаж не казался таким дружелюбным, как в прошлый раз. А шаги как будто делались все короче и короче – пока она не осознала, что, сколько бы ни старалась, не может заставлять ноги двигаться снова и снова. Чтобы обогнуть озеро, ушла почти что вся ночь.
Лебедь и не подумал улетать. Он даже не выплыл из своего заливчика. Уже почти на рассвете она присела у самой воды на скамью, сложенную из светлых округлых камней, и принялась смотреть, как он скользит по воде – футах в двадцати. Она наблюдала, зачерпывая воду горстью, прислушиваясь, как капля за каплей утекают между пальцев, возвращаясь в свою, озерную стихию.
"Почему же ты так стыдишься? Почему не приблизишься?" – спросила она наконец.
Не отвечая, он одним взмахом крыльев перелетел на берег и, коснувшись земли, обратился в того же юношу, что и раньше. Отвернулся – и пошел мимо нее к невысокому холму, поросшему огромными маками. Поднявшись на вершину, знаком поманил ее – и исчез на той стороне.
Она последовала за ним – и вскоре дошла до персикового дерева, одиноко стоявшего на равнине, дерева, чьи длинные узкие листья были так темны, что разум подсказывал – для жизни им нужен не свет, как другим растениям, но мрак. На ветках тяжелели спелые плоды. Юноша сорвал один – и протянул ей. Пушистая кожица была бархатистой и – черной. Она уже подставила было руку, помедлила… и опустила.
Он, ощутив ее страх, протянул персик более настойчиво.
"Красивый, – сказала она неуверенно, – но…"
Он поднес персик к губам и, серьезно и печально глядя на нее, надкусил сам. Проглотил кусок, чуть откинув голову, очень в этот момент похожий на лебедя. Мякоть под черной кожицей оказалась густого оранжево-розового цвета.
Он вновь протянул персик ей – протянул кончиками пальцев, стараясь, если она возьмет плод, не дотронуться до ее руки. На этот раз она не отказалась.
"Красивый, – шепнула она, и проскользнула под протянутой рукой юноши, и легко поцеловала измазанные соком губы. – Красивый. Но мне нужно не это".
Потрясенный, он отшатнулся, роняя персик.
"Что с тобой?" – спросила она.
"Не заставляй меня касаться тебя. – Голос, ясный и звонкий, эхом раскатился в ее сознании. – Это тебя убьет".
"Но теперь-то мне не страшно. Думаешь, я боюсь?"
"Я говорю не о твоем страхе. Зачем ты призвала Смерть? – Голос его дрогнул. – Смерть – это я".
Стремительное превращение в лебедя вышло неудачным – лицо так и осталось человеческим, когда он взмывал над деревом, да и на груди сквозь редкие перья просвечивала кожа.
Интересно, а хоть в небе он превратился в лебедя до конца? Так и не разглядев, она подняла персик. Мягкая фруктовая плоть была покрыта тонким налетом пыли, и она аккуратно отерла ее. Втянула ртом вкус персика, вкус юноши – сладостный до ожога, до невозможности проглотить, слишком густой, точно чай, заваренный на меду вместо воды…
Очнувшись, она увидела, как медсестра возится с ее капельницей и ампулами. Стало быть, уже морфий. Тело и сознание расслабились от полной бесполезности. Наркотик не избавит ее от боли настолько, чтоб затмить эту боль окончательно. Наркотик лишь… УМЕНЬШИТ ее ощущения, уменьшит ее саму, потому что чем меньше чувствуешь – тем меньше тебя.
"Практикуешься в активном сновидении?" – Мужской голос, совсем близко.
"Что, простите?"
В кресле у ее кровати снова сидел психотерапевт.
"Привет", – улыбнулся он.
"Привет", – ответила она.
"Так ты пробовала?" – Он спросил это с неподдельным интересом, и тогда она впервые заметила его волосы, длинные, черные. Может, это он стал прообразом лебедя из сна? Она усомнилась, размышлять на эту тему было неохота, и вообще он в свои двадцать восемь явно староват – и, мелькнула у нее зловредная мыслишка, малость тяжеловат, чтоб летать.
"Сновидение?" – повторила она.
"Ну да. Мне интересно – ты пробовала? И что – получается?"
"Нет", – устало сказала она.
Поверил или нет? Непонятно. Сидит, терпеливо ждет, когда она заговорит. Ждет темы, в которую можно вцепиться и мусолить. Она не сказала ничего – и в зародыше пресекла саму идею сеанса. (А он-то собирался обсуждать проблему гнева, проблему неприятия ею самой идеи болезни, то, как научиться изживать ярость, отравляющую оставшееся у нее время – без упоминания того, сколько времени осталось у нее вообще и сколько уйдет на изживание.)
На следующий день мать пришла снова, что-то подавленно бормотала – не иначе, врачи оглушили ее новостями еще у дверей палаты.
Мать сказала: "Мы с твоим папой тут подумали… ну, насчет твоей тетради. Ты всегда так замечательно писала, и я как-то случайно посмотрела… ты уже почти все страницы исписала… Может, хочешь, чтобы мы как-то это использовали, когда ты… ну… допишешь до конца?"
Противно демонстрировать остатки собственнического инстинкта – и все равно Вилона крепко стиснула тетрадь под одеялом.
"Может быть, в издательство послать?" – предложила мать.
Слава Богу, разговор на этом оборвался – точнее, разразилась в коридоре перебранка меж санитаром и кем-то, кого катили в кресле на колесах. Который же сейчас час, подумала Вилона, что-то около семи утра? Время процедур, время, когда каждый едет в своем медицинском направлении?
"Блин, я способен ходить!" – орал мужской голос, в котором, похоже, негодование сожрало все остальные эмоции.
Шлепанье больничных туфель. Скрип резиновых шин. Звуки резкие, как удары мяча в спортзале.
"Почему бы тебе не позволить мне просто толкать коляску? – Другой голос. – Хочешь выжить – соображай, не трать силы на ерунду. Береги, пригодятся, когда действительно понадобятся".
"Я свои силы что – на банковский счет кладу?! Два дня уже так, блин! Мне осточертели кровати. И кресла осточертели. И бездельничать осточертело. А теперь – будьте любезны. Сам пойду!"
Пара секунд тишины – лишь отдаленный больничный шум. Медсестра переходит от кровати Вилоны к следующей. Наконец снаружи – тяжелый вздох.
"Ладно, Брайс. Если так, за что борешься – на то и напорешься. Давай поднимайся. – Приглушенный шорох. Кресло, откатившись, вмазывается в стену – чуть левее открытой двери Вилониной палаты. Неуверенно ступают ноги в шлепанцах. – Но если у тебя опять начнется слабость или, как в прошлый раз, понос, я ответственность на себя НЕ ВОЗЬМУ".
"Вот что я люблю в тебе, Гарольд, так это развитое чувство ответственности", – острит высокий парень, которому мужик постарше помогает пройти мимо двери. Как там санитар его назвал – Брайс? Года двадцать четыре – и старше, и моложе, чем представляла себе Вилона. Моложе – потому что широкая кость, словно назначенная нести изрядный мускулистый вес, сейчас веса не несла почти никакого. Старше – потому что страдальческие морщины уже отметили лицо, уже посерела кожа у глаз и губ.
Похоже, настоящие симптомы проявились у Брайса совсем недавно – судя по тому, насколько прилично еще он выглядел. Волосы, отхваченные бритвой, прядями стоящие дыбом, прядями спадающие на глаза, – сияющие, густые, темно-каштановые, пока еще не сухие, не безжизненные. Да, похудел он здорово, но плечи – еще литые, спортивные, ноги под больничным халатом сильные, как у того вратаря, по которому она тайком вздыхала на втором курсе.
В этот момент Брайс, небрежно отмахнувшись от санитара, заглянул в палату Вилоны – и, конечно, первым делом уставился на нее по той простой причине, что ее кровать стояла ближе всего к двери. В глазах ненадолго возникла неловкость – уж очень жутко она теперь выглядит, – а потом появилось узнавание, твердое, железное узнавание человека, который пытается вспомнить, откуда тебя знает.
Он сделал еще несколько шагов – и вспомнил, кто она. Лицо, показанное по всем программам новостей. Та, которая на всю страну кричала, что федеральные службы здравоохранения жалеют денег на пропаганду безопасного секса среди подростков. Та, которая требовала больше ассигнований на больницы и хосписы. Та, про которую говорили – девчонка использует свою ужасную болезнь, как тактику индивидуального террора.
Последнее, что она увидела в его глазах, – СТРАХ. Отчаянный страх за свою жизнь. Ничего, еще привыкнет, времени хватит. Она резко отвернулась.
Не надо на меня смотреть, подумала она. Пожалуйста…
Мох у озера высох, побурел. Листья магнолии, раньше казавшиеся зелеными, живыми, вечными, теперь опадали, края их сделались острыми, как скальпель, как те иголки, которые вонзают в палец, чтоб взять на анализ каплю крови. Раз с десяток Вилона оцарапалась, но все равно, перекатившись, села. Каждое ее движение поднимало рассыпающийся мох облаком пыли.
Сырость исчезла, остатки прохлады – тоже. Жара висела над озером, низкие, чернильно-синие тучи все чаще закрывали закатное солнце. Солью пахло от камышей и тростников. Небо горело в жаре, как тело – в жару.
Часы шли. Она сидела у озера, беспомощно мечтая проснуться. Что хорошего здесь осталось? Болезнь взяла над нею верх. Лебедь не прилетает. Вот уж никогда не думала, что опавшие лепестки магнолии на ощупь точь-в-точь обрывки воздушных шариков, старая, отслужившая резина.
Несколько раз казалось, что в небе мелькнуло движение, далекий, знакомый крылатый силуэт. Но лебедя не было – то ли игра ее воображения, то ли марево, дрожащее в раскаленном воздухе…
Она очнулась от странных звуков – кто-то кашлял, хрипел, захлебываясь, ловил воздух ртом.
Кто-то? Она сама.
Я ЗАДЫХАЮСЬ.
Она чувствовала, легкие – твердые, мокрые, как сырая доска посреди груди. Непрестанно, с той минуты, как доктор рассказал, какими побочными эффектами чревата ее болезнь, Вилона жила в страхе – в постоянном, оправданном ужасе того, что воздуха однажды не хватит. Что войну между самым безусловным в мире инстинктом – инстинктом дыхания – и телом, почти не способным дышать, выиграет тело.
Она схватилась за грудь. Попыталась позвать медсестру. Судорожно надавила на кнопку срочного вызова. Невидимая сила стряхнула ее руку с пульта. Она стала бороться – с силой, что дается только отчаянием, дотянулась снова, вдавила пальцы в кнопку, и еще, и еще.
Наконец почувствовала, как в нос вставляют кислородную трубку. Воздух хлынул в носовые пазухи, в дыхательное горло. "Тише, Вилона, – принялась успокаивать медсестра, – тише, кислород пошел. Через минуту придет доктор, деточка. Только не бейся так, милая".
Она честно старалась успокоиться, старалась вести себя как надо, старалась слушаться, но ужас не уходил. Она осознавала, что уже не контролирует собственные эмоции, да это в действительности и не было больше эмоциями – так, бессвязные вопли смятенного сознания, дикие, пугающие.
Появился доктор. Объявил, что это – пневмоцитоз, и "к нему мы были готовы, Вилона". ("Мы"!) Заверил – "Врасплох нас не застали. Мы знаем, как с этим бороться".
Какая глупость, подумала она. Ну почему они все говорят такие глупости?
День, наполненный страхом, отдыха не принес. Сплошные попытки дышать поглубже. Сплошные безуспешные старания сморгнуть пелену, застилающую глаза.
Первое сражение с пневмонией она выдержала. Антибиотики помогли выиграть время. С глазами стало малость получше, но ненадолго, все равно периферийное зрение она уже утратила, да и приступы помутнения становятся все дольше. Головная боль дошла до точки – до стадии, когда Вилона начала периодически отключаться.
Когда не спала – тосковала по своему озерному миру получалось заснуть не получалось туда попасть. Каждый раз, ощутив дремоту, внушала себе, что очнется именно там, и – ничего. Не то чтобы вообще перестала видеть сны. Видела, и даже очень. Видела все, чем должна была бы заняться, все, что когда-то сделать поленилась. Непонятно… а может, та часть мозга, что приводила ее к озеру, уже уничтожена болезнью, мертва еще до ее смерти?
Часами смотрела она на капельницу. Думала – и вот эту штуку из моей руки не вытащат никогда, сколько бы мне ни осталось. Думала – и тихо сатанела. Вот бы вырвать эту иглу! Честно говоря, неплохо бы попробовать, Совсем уж честно – в самые паршивые минутки обдумывала это всерьез. Пару раз чуть не сделала, но оказалась уж очень слаба, не шелохнуться.
На следующий день она поведала о своих намерениях психотерапевту, пропустила мимо ушей все, что наговорил он в ответ, и на автопилоте ответила на все вопросы.
Он говорил и говорил, а она думала – интересно, а каково это, быть психотерапевтом в этой дыре? Странная идея – психотерапия для умирающих. Научно-социальная версия последнего причастия, что ли? Или наоборот анафема таким вот экстравагантным способом?
Пока она не слушала, психотерапевт, похоже, с кем-то переговорил, и когда ей чуть полегчало, для нее сделали особое исключение – вывезли на каталке в зимний сад. Медсестре пришлось сидя рядом, проверять ее самочувствие.
Вилона еще со времен пневмонии все собиралась вернуться к записи своих снов, но со сном об умирающем озере как-то не выходит – вот уже несколько дней. А раньше ведь чего хотела – того и добивалась. Как гордились родители! Да и сама-то она… Достигала десяти целей за раз, всегда так было.
"Ты ощущаешь гнев, не правда ли? – Психотерапевт спрашивает раз за разом. – Ты злишься на болезнь, на то, что она с тобой делает?"
Надо же – ни разу не спросил, злится ли Вилона на себя.
Ни разу – про то, что ее действительно мучило. Про чувство вины.
Чувство вины оттого, что ничем сейчас не занимается. Что потеряла колледж. Что не выполнила своих планов. Самая настоящая неудачница.
Ладно. Что бы там ни было, а сегодня она напишет что-нибудь важное, хотя что теперь важно? Несколько абзацев про последний сон? Важно ли объяснять, почему важно было для нее придумать тот озерный мир?
Она принялась усиленно убеждать себя: пребывание в садике, с этими его фикусами, камелиями и папоротниками, словно потягивающимися под скупыми, тепличными солнечными лучами, должно помочь, должно дать энергию для работы. Бери свою ручку и подноси с энтузиазмом к первой чистой строчке на странице, на странице, которую, черт подери, и разглядеть толком не можешь!
Через несколько секунд мышцы ослабели – и она не удержала ручку. Успехи – два предложения. Ручка, свалившись, покатилась по полу.
"Вот сейчас подниму", – знакомый мужской голос. Пойманная ручка ложится на подлокотник ее кресла рядом со слабой рукой.
Так и есть – Брайс.
"Вроде бы не сломалась". – И он снова берет ручку, осматривает, втягивает и выпускает стержень, кладет на прежнее место.
Вилона не шевельнулась, не взяла ручку. Потому что все силы ушли на одно – заставить руку не задергаться в судороге. При нем – не надо.
А выглядит он все еще здорово. Относительно, конечно. Ну ясно – сколько ж это воды утекло с того дня, как он прошел мимо ее двери, – недели две с половиной? Хотя нет, видела она уже такой тип, такие остаются почти красивыми до самого конца.
"Послушай, если хочешь, можешь мне диктовать". – Он говорит, а сам незаметно старается прочесть через ее плечо.
"Нет. – И нормальной рукой она захлопывает тетрадь, мимолетно ужаснувшись тому, что он уже мог там вычитать. – Но все равно спасибо".
"А что там такое? – спросил он. – В смысле, о чем ты пишешь?"
"Это личное".
Кивает. Когда возвращал ручку – стоял, когда заговорил – оперся на спинку ее кресла (от волос неуместно пахнуло "Физодермом" – не шампунем больничным и, слава Богу, не бесконечными ночами метаний во сне). Теперь, опустившись на белые плитки пола, уселся по-турецки напротив нее.
"А о чем ты пишешь? – Он настаивал. – О том, как тебе страшно? Или послание тем, кто будет жить, когда… ну, в общем? Просишь у них прощения? Счастья им желаешь? А может, просто что ты чувствуешь каждый день?"
"Сны", – сказала она односложно.
Он поглядел на нее – внимательно, в глазах – странная озабоченность, взгляд человека, понимающего, о чем речь.
"И что у тебя за сны?"
Она ответила – зло и горько, гордясь своей прямотой, своей правотой. Такой злости нечего стыдиться.
"Сны о том, чего у меня уже не будет".
Брайс дернулся – и уставился на свои колени. Замолчал. Молча поднялся, молча отошел на другой конец садика.
Его реакция сначала поразила ее, потом – резанула. И сразу погасла ее уверенность в силе, что появляется, когда выплескиваешь свой гнев. Погасла так же быстро, как появилась в свое время…
Лилово-белые молнии бились в небе, сверкали снова и снова, через каждые несколько секунд. Гроза приближалась. Гром гремел совсем рядом, словно запертый с нею в одной комнате, словно пытался взорвать небосвод озерного мира. Дождя все не было, тучи казались тонкими, полыми, не наполненными водой. Ни ветерка, нечему оборвать последние листья с магнолии, нечему развеять лепестки, безжизненной грудой валяющиеся под деревом, по берегу.
Вилона присела у корней дерева, принялась лениво ощипывать траву, обрывать стебелек за стебельком. Как много значила для нее эта трава, пока в озерном мире еще теплилась жизнь! А теперь она ощущала одну лишь злость – злость на листья, затвердевшие и растресканные, как кожаная куртка, высохшая после дождя. Трудно даже разорвать.
Наверное, надо бы отойти от магнолии, ведь дерево – единственный здесь, кроме нее, вертикальный объект, прекрасная мишень для молнии. Но уж свой-то собственный мир она знала как себя – и потому преотлично понимала, что от молнии не уйти. Молния была болезнью, прорвавшейся наконец в ее ночное королевство. Это же все-таки сон. Не реальность – преломление реальности. Молния найдет – и ударит. Она даже знала, как это будет.
Как? Как острые иглы, вонзающиеся в кровь, как боль, терзающая изнутри, ранящая там, куда ни ей, ни врачам не добраться, боль, от которой она взвоет не голосом – каждой мышцей, каждой артерией, каждой костью. Мука, которая утопит ее сознание в ирреальной черноте, где обитают только безумцы, откуда уже не будет избавления. Здоровые люди видят кошмары только во сне – а она не проснется.
И она горько рассмеялась над возникшей в воображении картинкой – как мечется по застывшему пейзажу, по оголенным холмам, как ищет, где бы укрыться, как бесполезно пытается вжаться в песчаную отмель… Мерзость. Лучше уж просто сидеть и ждать.
Лебедь спикировал на нее откуда-то сзади, совсем не оттуда, откуда появлялся раньше. Крылом хлестнул ее по щеке, облетая вокруг дерева, коготками зацепил прядь ее волос – специально, что ли? От перьев остро пахнуло озоном.
Уже на бреющем полете добрался до берега и приземлился – уже человеком, спиной к ней. Спина выражала ярость. Бешенство.
"Кто ты такая, чтоб звать меня снова и снова? Звать, зная, что я этого не хочу!" – слова, ожегшие ее сознание.
"Я – та, что правит этим миром, здесь все подчиняется МНЕ. Я зову тебя, зная, что ты один можешь дать мне то, чего другие не могут. Или не хотят".
"Дать избавление от страданий? – Голос его обвинял. – Избавить тебя от боли, избавив от жизни?"