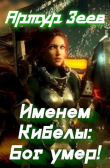Текст книги "Пыль грез. Том 1"
Автор книги: Стивен Эриксон
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Глава вторая
Не приходи сюда старый друг
Принося дурную погоду
Я был где бежала прежде река
И больше не бежит
Помнишь пролет моста?
Остались лишь серые камни
Рассыпанные по песку
И не перебраться
Ты можешь пойти вдоль потока
Степенно стекающего к морю
И найдешь то место
Куда уходит умирать погода
Если снова увижу тебя
Пойму что настало твое воскресение
В слезах омывающих мои ноги
В темнеющем небе
Ты идешь как человек с выжженными глазами
Ощупывая воздух руками
Я повел бы тебя но река
Не будет ждать
Понесет меня в глубокое море
Под улетающими белыми птицами
Не приходи сюда старый друг
Принося дурную погоду
«Мост солнца»Рыбак кель Тат
Он стоял среди гниющих остатков корабельного леса, высокий, но сгорбившийся; если бы не изношенная одежда и развевающиеся на ветру волосы, его можно было бы принять за статую из белого мрамора, выброшенную из города мекросов и волшебным образом приземлившуюся на ноги посреди выцветшего лёсса. За все время, что Удинаас смотрел на него, он ни разу не шевельнулся.
Зашуршал гравий: кто-то еще шел со стороны деревни, и через мгновение рядом очутился Онрак Т’эмлава. Воин некоторое время молчал – спокойно, солидно.
В этом мире, давно понял Удинаас, не стоит спешить; впрочем, он сам в жизни никогда не был сорвиголовой. Долгое время после появления здесь, в Убежище, ему казалось, будто он таскает за собой цепи или бредет по шею в воде. Медленное течение времени в этом месте гасило беспокойное чванство и принуждало к смирению; а Удинаас прекрасно знал, что смирение всегда является непрошеным, выбивая двери и дробя стены. Оно объявляет о себе кулаком по голове, коленом в пах. Не буквально, разумеется, но итог тот же самый. Стоишь на коленях, ловишь ртом воздух, слабый, как сопливое дитя. А весь мир нависает над идиотом, грозя пальцем.
И это все неспроста. Вот если бы я был богом всех богов, только этому я и учил бы – столько, сколько потребуется.
Хотя тогда я бы стал жутко занятым ублюдком – и это справедливо.
Солнце над головой уже не грело, предвещая приход зимы. Поплечницы говорили, что в ближайшие месяцы ляжет глубокий снег. Высохшие листья в бурой траве на вершине холма дрожали и трепетали, словно в испуганном ожидании. Удинаас никогда не любил холод: даже в едва прохладном воздухе его руки немели.
– Чего он хочет? – спросил Онрак.
Удинаас пожал плечами.
– Мы должны прогнать его?
– Нет, Онрак, не думаю, что это необходимо. Сейчас, пожалуй, в нем не осталось боевого духа.
– Об этом ты знаешь больше меня, Удинаас. Но все же разве он не убил ребенка? Не пытался убить Трулла Сэнгара?
– Он скрестил оружие с Труллом? – спросил Удинаас. – А то сам я помню смутно. Был очень занят: меня душил дух. Что ж, мой друг, я понимаю, как тебе хотелось бы увидеть его в последний раз. А про Кубышку… не думаю, что все так просто, как казалось. Девочка была уже мертва, давно мертва, когда Азаты посеяли ее. Силкас Руин всего лишь расколол скорлупу, так что Дом смог пустить корни. В нужном месте и в нужное время, чтобы владение выжило.
Имасс смотрел внимательно; мягкие карие глаза прятались в печальных морщинах – свидетельствах того, как близко к сердцу он принимает многое. Дикий воин, бывший просто обтянутым кожей скелетом, стал ранимым, как ребенок. Пожалуй, это верно для всех имассов.
– Так ты все знал, Удинаас? Про то, какая судьба ждет Ку-бышку?
– Знал? Нет. Только подозревал.
Онрак зарычал.
– Твои подозрения редко бывают ошибочными. Тогда ладно. Поговори с ним.
Удинаас ухмыльнулся.
– Ты и сам редко ошибаешься, Онрак. Подождешь здесь?
– Хорошо.
Онрак согласился охотно, ведь хоть он и был уверен, что Силкас Руин не замышляет насилия, ничего точно в отношении Белого Ворона сказать было нельзя. И если Удинааса прирежет один из поющих мечей, его смерть, по крайней мере, не останется незамеченной, а в отличие от его сына, Руда Элаля, Онрак не так глуп, чтобы подставляться, ища отмщения.
Подходя ближе к альбиносу тисте анди, Удинаас все отчетливей понимал, что Силкас Руин пережил нелегкие времена после того, как внезапно покинул это владение. Большая часть доспехов была потеряна, оставив руки обнаженными. Пятна спекшейся крови покрывали плетеный кожаный воротник обожженной поддевки. Сам он был покрыт новыми, еле зажившими ранами, порезами, и пятна синяков прятались под кожей, как грязная вода подо льдом.
И только глаза остались жесткими, непреклонными, они горели кроваво-красным огнем в глубоких глазницах.
– Тоскуешь по старому кургану Азатов? – спросил Удинаас, остановившись шагах в десяти от сурового воина.
Силкас Руин вздохнул.
– Удинаас. Я уж забыл про твой яркий дар управляться со словами.
– Не припомню, чтобы хоть кто-то называл это даром, – ответил Удинаас, решив не замечать сарказма, как будто пребывание в этом месте лишило его природной остроты ума. – Проклятием – да, называли постоянно. Даже удивительно, что я еще дышу.
– Да, – согласился тисте анди, – удивительно.
– Чего ты хочешь, Силкас Руин?
– Мы долго шли вместе, Удинаас.
– По кругу, да. И что с того?
Тисте анди взглянул в сторону.
– Я… ошибался. Из-за всего, что видел. Мне не хватило изощренности. Я считал, что остальные миры не отличаются от Летера… пока не появился этот мир.
– Летерийская версия изощренности уж точно полна безудержной любви к себе. К самому большому куску дерьма во всей куче. Как принято говорить.
Руин поморщился.
– Дерьма, раздавленного теперь каблуком.
Удинаас пожал плечами.
– Все там будем, рано или поздно.
– Да.
Повисло молчание; Руин по-прежнему отводил взгляд. Удинаас прекрасно понимал его; понимал и то, что не стоит показывать хоть какую-то радость при виде унижения Белого Ворона.
– Она станет королевой, – отрезал Силкас Руин.
– Кто?
Воин заморгал, словно удивившись вопросу, и теперь снова смотрел нечеловеческими глазами на Удинааса.
– Твой сын в большой опасности.
– Прямо сейчас?
– Я думал, что, придя сюда, поговорю с ним. Предложу хоть какой-то совет, поделюсь мудростью, какой обладаю. – Он указал на место, где стоял. – Хотя бы это я мог предложить.
– И что сдерживает тебя?
Руин снова поморщился.
– Для крови элейнтов, Удинаас, любое подобие сообщества – проклятие. Подобие любого союза. Если у летери и есть предки по духу, то это элейнты.
– Да, понятно. Именно поэтому Быстрый Бен сумел победить Сукул Анхаду, Шелтату Лор и Менандор.
Силкас Руин кивнул.
– Каждая хотела предать остальных. Этот порок заложен в крови. И порок обычно смертельный. – Он помолчал и продолжил: – Так же вышло со мной и моим братом Аномандром. Когда кровь драконов обуяла нас, мы разошлись в разные стороны. Андарист встал между нами, двумя руками пытался помирить, но наше новообретенное высокомерие оказалось сильнее. Мы больше не были братьями. Стоит ли удивляться, что мы…
– Силкас Руин, – прервал Удинаас, – почему мой сын в опасности?
Глаза воина сверкнули.
– Мой урок смирения чуть не убил меня. Но я выжил. Когда настанет время для Руда Элаля, ему может не так повезти.
– У тебя были дети, Силкас? Думаю, нет. Давать советы ребенку – как швырять песок в обсидиановую стену. Ничего не прилипает. Грубая правда в том, что каждый получает собственные уроки – и от них не скрыться. Не убежать. Невозможно наградить ребенка своими шрамами; они появляются, словно паутина, которая обволакивает, душит, и ребенок будет бороться и сражаться, пока не избавится от нее. Как ни благородны намерения, единственные шрамы, которые будут полезны, – это те, что он заработает сам.
– Тогда могу я попросить тебя, его отца, об одолжении?
– Ты серьезно?
– Серьезно, Удинаас.
Фир Сэнгар пытался ударить этого тисте анди ножом в спину, стать слабой тенью Скабандари Кровавого глаза. Фир был очень непростым, однако Удинаас, при всех пережитых насмешках и издевках, при горьких воспоминаниях о временах рабства, не испытывал к нему ненависти. Благородством можно восхищаться даже издали. И Удинаас видел горе Трулла Сэнгара.
– Так о чем ты хочешь попросить?
– Отдай его мне.
– Что?
Тисте анди поднял ладонь.
– Не отвечай сразу. Я объясню, зачем это нужно. Расскажу, что грядет, Удинаас, и верю, что ты поймешь.
Удинаас почувствовал, что дрожит. И, слушая Силкаса Руина, ощущал, как твердая земля уходит из-под ног.
Вялость, размеренность этого мира оказалась иллюзией, удобной выдумкой.
А правда в том, что все скачет галопом, сотни тысяч булыжников несутся лавиной. Очень просто, правда ужасна.
Онрак наблюдал за двумя собеседниками. Разговор затянулся куда дольше, чем ожидал имасс, и его беспокойство росло. Ничего хорошего не выйдет, он был уверен. Услышав за спиной кашляющий рык, он обернулся и увидел, как в сотне шагов от него два эмлавы пересекают тропу. Массивные клыкастые головы повернулись к нему; звери смотрели настороженно, словно прося разрешения, – но по неуверенной поступи и поджатым обрубкам хвостов было ясно, что они отправляются на охоту. Виноватое выражение казалось таким же инстинктивным, как и агрессия в широко распахнутых глазах. Они уходят, может, на день, а может, на несколько недель. Идут убивать – близится зима.
Онрак снова обратил внимание на Удинааса и Силкаса Руина и увидел, что они уже идут к нему, бок о бок; имасс ясно видел, что Удинаас упал духом, что он просто в отчаянии.
Нет, ничего хорошего не выйдет.
Он услышал за спиной шуршание: эмлавы достигли места, где могут скрыться с глаз Онрака; звери стремились избежать его возможного внимания. Но он и не собирался запрещать им что-то. И никогда не запрещал. Тупые звери не могли этого понять.
Захватчики вливались в это владение темным приливом, как авангард легионов хаоса. Изменение окрашивало мир в кровавые тона. А ведь все имассы желали только мира, подтвержденного простыми ритуалами жизни, безопасного и стабильного, полностью предсказуемого. Пламя и дым очагов, ароматы жареного мяса, корнеплодов, топленого костного мозга. Гнусавые голоса женщин, поющих, занимаясь простыми повседневными делами. Стоны и вдохи тех, кто занимается любовью, песни детей. Кто-то трудится над остриями из рога, кости или кремня. Кто-то стоит на коленях у ручья и обрабатывает шкуру полированным ножом или скребком, а неподалеку – небольшая яма в песке, где зарыты другие шкуры. Если кому-то пора помочиться, он присаживается над ямой и посылает струю вниз. Так обрабатываются шкуры.
Старейшины сидели на валунах и наблюдали, как в поселении все занимаются своими делами, и грезили о тайных местах и путях, открывающихся под гул голосов и бой барабанов, о кружащихся сценах на освещенном факелами камне в бурлящей ночи, когда духи расцветают всеми цветами радуги, когда орнаменты поднимаются на поверхность и медленно плывут в дымном воздухе.
Охота и празднества, собирательство и промыслы. Дни и ночи, рождение и смерть, смех и горе, сказания, повторяемые вновь и вновь; разум раскрывается, словно дар каждому в родне, каждому теплому знакомому лицу.
И только это, понимал Онрак, имеет значение. Любое потакание духам нужно для того, чтобы сохранить прекрасный мир, преемственность поколений. Духи предков стоят часовыми на страже жизни. Пряжа воспоминаний соединяла все воедино – очень крепко, когда воспоминания общие.
В поселении за спиной Онрака его возлюбленная подруга, Килава, отдыхает на груде мягких шкур; лишь несколько дней осталось до рождения второго ребенка. Поплечницы приносили ей деревянные чаши, полные жирных, вкусных личинок, еще дымящихся от раскаленных камней очага. И рожки с медом и пряным чаем из ягод и коры. Ее подкармливали постоянно и будут кормить до начала родов – ей понадобятся сила и выносливость.
Онрак вспомнил вечер, когда они с Килавой пришли в дом Сэрен Педак в том странном, разрушенном городе Летерасе. Когда Онрак узнал о смерти Трулла Сэнгара, это был один из самых тяжелых моментов в его жизни. Но предстать перед вдовой друга оказалось еще ужаснее. Глядя на нее, он ощущал, как внутри все пустеет; и он безутешно плакал, а потом – через какое-то время – поражался стойкости Сэрен, ее неестественному спокойствию, и говорил себе, что она, должно быть, переживала собственное горе в дни и ночи сразу после смерти ее любимого. Она смотрела на плачущего Онрака с печалью, но без слез. Она готовила чай со всей тщательностью, пока Онрак прятался в объятиях Килавы.
Только позже он ругал несправедливость, отвратительную бессмысленность смерти друга. А в ту ночь, пытаясь говорить с ней о Трулле – о том, что они вместе пережили с самого зарождения хрупкой симпатии, когда Онрак решил освободить воина от Острижения, – он снова и снова вспоминал яростные битвы, дерзкие противостояния, проявления умопомрачительного мужества, каждый раз все могло кончиться значительной смертью, геройским самопожертвованием. А Трулл Сэнгар пережил все, заслужил славу среди боли и потерь.
Окажись Онрак там, на залитой кровью песчаной арене, он прикрыл бы спину Трулла. У убийцы не было бы никакой возможности совершить грубое предательство. И Трулл Сэнгар жил бы, видел бы, как зреет его дитя в животе Сэрен Педак, с благоговением восхищался бы светом сосредоточенности на лице аквитора. Разумеется, мужчине не дано познать это чувство завершенности, ведь женщина становится кладезем преемственности, иконой надежды и оптимизма для грядущего мира.
Ах, если бы Трулл мог видеть все это – он заслужил это больше кого бы то ни было, после всех битв, ран, испытаний и бесконечного одиночества, которого Онраку не постичь, – после стольких предательств Трулл остался несломленным и отдавал себя без остатка. Нет, это совершенно несправедливо.
Сэрен Педак была добра и обходительна. Она позволила Килаве провести ритуал на безопасные роды. Однако она четко дала понять, что больше ей ничего не нужно, что это путешествие только для нее и сил ей хватит.
Да, женщины порой пугают. Своей силой, своей волей к жизни.
Как ни стремился Онрак быть сейчас рядом с Килавой, чтобы баловать ее подарками и вкусностями, любую такую попытку поплечницы встречали насмешками, а сама Килава – предупредительным рычанием. Он привык держать дистанцию, поскольку роды были уже близко.
Так или иначе он проникся симпатией к Удинаасу. К человеку, гораздо более расположенному к резким комментариям, чем Трулл, склонному к иронии и сарказму – этим оружием он владел лучше всего. Онраку по душе пришлось его сухое остроумие; более того, этот человек демонстрировал неожиданные достоинства в новой для себя роли отца – их Онрак подмечал и решил поступать так же, когда придет его время.
Этой возможности он был лишен в прошлый раз, и его первого сына, Улшуна Прала, воспитывали другие: приемные дяди, братья, тетки. Даже Килавы, как правило, не было рядом. В итоге, хоть в жилах Улшуна и текла их кровь, сам он больше принадлежал всему племени, чем своим родителям. В этом, подумал Онрак, был лишь оттенок печали; только малую долю сожаления можно найти в воспоминаниях о вечном существовании Ритуала.
Слишком многое изменилось. Мир словно проносится, мимолетный и неуловимый; дни и ночи ускользали из рук. Снова и снова его лишало сил ощущение потери, оглушала боль при мысли о каждом упущенном моменте, оставленном позади. Он старался оставаться внимательным; а нахлынувшие чувства позволяли восхититься каждым благословенным моментом, ощутить его вкус и затопляли Онрака, и он тонул в ослепляющих, оглушающих волнах.
Слишком много чувств, и плач остался единственным ответом в его смертной жизни – в радости и печали, в полученных дарах и перенесенных потерях. Может, он разучился реагировать по-другому. Другие реакции ушли первыми – когда время стало бессмысленным, жестоким, как проклятие, – и остались только слезы.
Удинаас и Силкас Руин подошли ближе.
И Онраку снова захотелось плакать.
Д’рхасиланское побережье казалось покусанным и сгнившим; мутные илистые валы накатывались на известковые отложения и песчаные отмели, заросшие мангровыми деревьями. Шапки пены цвета бледной плоти вздымались и опускались с каждой волной; в подзорную трубу Кованый щит Танакалиан мог разглядеть груды мертвой рыбы на песке и гравии – там копошились чайки и кто-то еще: длинные, низкие – видимо, рептилии, которые то и дело проползали, вспугивая чаек, с криком отлетающих прочь.
Хорошо, что Танакалиан не стоит на том берегу – совсем не похожем на берег, к которому он привык за свою жизнь: вода там глубокая, чистая и смертельно холодная; любой залив и бухта укутаны мраком темных утесов и густых лесов из сосен и пихт. Танакалиан и представить не мог, что существуют такие побережья. Грязные, зловонные, как свинячья лужа. К северо-востоку, у подножия гряды молодых гор, уходящих к югу, похоже, громадная река выливалась в эту широкую бухту, нанося ил. Постоянный приток пресной воды, густой и молочно-белой, отравил почти всю бухту, насколько мог понять Танакалиан. Это было неправильно. Он словно смотрел на место ужасного преступления, громадной несправедливости, распространяющейся, как зараза.
– Какие будут приказания, сэр?
Кованый щит опустил подзорную трубу и хмуро оглядел берег, заслоняющий вид на север.
– Двигайте к устью реки, капитан. Я полагаю, что выводной канал проложен на той стороне, с восточного берега: скалы там отвесные.
– Даже отсюда, сэр, – сказал капитан, – явно видны чуть прикрытые отмели с этой стороны. – Он помедлил. – А гораздо больше меня тревожат те, что не видны, Кованый щит. И даже если дождаться прилива, вряд ли станет легче.
– А нельзя пройти морем дальше и подобраться ближе к восточному побережью?
– Против течения реки? Можно, хотя, сталкиваясь с приливным течением, река становится непредсказуемой. Кованый щит, а эта делегация, которую мы ищем, – полагаю, они не мореходы?
Танакалиан улыбнулся.
– Ряд практически непроходимых гор отделяет королевство от берега, и даже со стороны суши полоску земли у самых гор занимают племена скотоводов – у них с королевством Болкандо мир. Словом, отвечая на ваш вопрос, нет – болкандцы не мореходы.
– И тогда это устье реки…
– Да, капитан. С милостивого разрешения Д’рхасилани делегация болкандцев может встать лагерем на восточном берегу реки.
– Угроза вторжения может превратить исконных врагов в ближайших союзников, – заметил капитан.
– Похоже на то, – согласился Танакалиан. – Странно то, что эти союзы сохраняются даже теперь, когда нет угрозы со стороны Летерийской империи. Видимо, стали очевидны некоторые плюсы мирной жизни.
– Выгода, вы хотите сказать.
– Взаимная выгода, капитан.
– Мне пора заняться судном, сэр, если мы будем искать место для высадки.
Кованый щит кивнул и, проводив взглядом капитана, снова поднял подзорную трубу, опершись для устойчивости о правую носовую фигуру. Море было достаточно спокойным в этом безымянном заливе, однако вот-вот Престол войны двинется вперед; и надо бы пока подробнее изучить отвесные утесы восточного побережья.
Смертный меч Кругава оставалась в каюте. Дестриант Ран’Турвиан, после возвращения от адъюнкт погрузившийся в долгую уединенную медитацию, тоже не появлялся на палубе. Присутствие любого из них добавило бы формальности, которая все больше раздражала Танакалиана. Он понимал необходимость соблюдения правил; груз традиций придает смысл тому, что они делают – и тому, кто они есть, – но он ведь провел какое-то время на флагманском корабле адъюнкт, в окружении малазанцев. Они запросто делили все тяготы службы – сначала Кованый щит поражался, пока не понял, как ценно такое поведение. Охотникам за костями и в голову не пришло бы нарушать дисциплину, когда близится битва. Но сила, действительно сплачивающая их, зиждилась на том товариществе, которое они проявляли в бесконечно долгие периоды безделья, на которое обречена любая армия. И Танакалиан научился радоваться их наглому разгильдяйству, открытой непочтительности и странной склонности наслаждаться абсурдом.
Наверное, он и сам поддался их дурному влиянию: Ран’Турвиан порой неодобрительно хмурился на попытки Танакалиана отпустить ироничный комментарий. Вообще у Дестрианта не было недостатка в претензиях по отношению к новому Кованому щиту Ордена. Слишком молодой, печально неопытный и ужасно склонный к скороспелым суждениям – а это просто неприемлемо для того, кто носит титул Кованого щита.
«У вас чересчур активный ум, сэр, – сказал как-то Дестриант. – Не дело Кованого щита выносить суждения. Не вам решать, кто достоин ваших объятий. Нет, сэр, однако вы не скрываете своих предпочтений. Вот так-то».
Великодушно с его стороны, если хорошенько подумать.
Пока корабль, скрипя, снижал скорость, Танакалиан изучал непривлекательный берег, изрезанные горы – многие пики были окутаны дымом и зловонными газами. Было бы некстати налететь на этот ужасный берег, а учитывая речные течения, вероятность этого весьма велика. Кованый щит снова вынес неприятное суждение, но в данном случае даже Дестриант не стал бы возражать.
Усмехнувшись, Танакалиан снова опустил подзорную трубу и убрал ее в кожаный футляр, прикрепленный под левой рукой. Спустившись с бака, он направился под палубу. Понадобится помощь Ран’Турвиана и его колдовство, чтобы безопасно войти в устье реки; это, рассудил Танакалиан, достаточный повод прервать медитацию Дестрианта, которая длилась уже несколько дней. Хотя Ран’Турвиан высоко ценит свое право на уединение и неприкосновенную изоляцию, но от определенных обязанностей не может уклониться даже Дестриант Ордена. Да и старику на пользу свежий воздух.
Флагманский корабль был один в заливе. Остальные двадцать четыре Престола войны оставались в открытом море; они вполне могли справиться с любой погодой, что предложит южный океан, – кроме, разумеется, тайфуна, но их сезон, по словам местных лоцманов, прошел.
После того как «Пенный волк» был возвращен адъюнкт, флагманом Ордена стал «Листраль». Старейший корабль флота – почти четыре десятилетия минуло с его закладки, – «Листраль» был последним из первой линии тримаранов и сохранил старинные особенности стиля и украшений. Они придавали кораблю устрашающий вид: каждая деталь из железного дерева напоминала голову рычащего волка, а средний корпус по форме был похож на прыгающего волка; он погружался в воду на три четверти, так что пена волн стекала из раскрытой клыкастой пасти зверя.
Танакалиан любил этот корабль, любил и ряды старинных кают, выходящих к среднему корпусу, вдоль коридора первого уровня под палубой. «Листраль» мог брать лишь вдвое меньше пассажиров, чем Престолы войны второго и третьего выпуска. При этом каюты были довольно просторные, почти шикарные.
Дестрианту были отведены две последние каюты в этом, правом корпусе. В переборке между ними проделали узкую низкую дверь. Маленький закуток служил частной резиденцией Ран’Турвиана, а передняя каюта была освящена как храм Волков. Как и ожидал Танакалиан, Дестриант стоял на коленях, склонив голову, перед двухголовым алтарем. Но что-то было не так: в каюте пахло горелой плотью и жженым волосом; а Ран’Турвиан, спиной к Танакалиану, не пошевелился, когда Кованый щит пролез из коридора в каюту.
– Дестриант?
– Ближе не подходите… – каркнул Ран’Турвиан незнакомым голосом, и Танакалиан услышал, как хрипло, с присвистом, дышит старик. – Времени мало, Кованый щит. Я… полагал… что никто меня не побеспокоит, сколько бы я ни отсутствовал. – Резкий, горький смех. – Я забыл о вашей опрометчивости, сэр.
Танакалиан шагнул вперед.
– Что случилось, сэр?
– Не подходите, умоляю! – ахнул Дестриант. – Вы должны передать мои слова Смертному мечу.
Вокруг фигуры на полированном деревянном полу что-то блестело, словно Дестриант протекал со всех сторон – только мочой не пахло, а жидкость, на вид густая, как кровь, казалась почти золотой в бледном свете лампы. Танакалиана охватил настоящий страх, и слова Дестрианта с трудом пробивались через глухой стук его собственного сердца.
– Дестриант…
– Я путешествовал далеко, – сказал Ран’Турвиан. – Сомнения… растущее беспокойство. Слушайте! Она вовсе не такая. Будет… предательство. Расскажите Кругаве! Клятва… мы совершили ошибку!
Лужа растекалась, густая, словно мед, а фигура Дестрианта в мантии уменьшалась, съеживалась.
Он умирает. Во имя Волков, он умирает.
– Дестриант, – сказал Танакалиан, превозмогая страх и сглотнув при виде того, чему стал свидетелем. – Вы примете мои объятия?
В ответ раздался смех – похожий на бульканье грязи.
– Нет. Не принимаю.
Кованый щит пораженно отшатнулся.
– Вы… вы… не подходите. И никогда не подходили – еще одна ошибка Кругавы в… суждениях. Вы подвели меня, подведете и ее. Волки покинут нас. Клятва предает их, разве не понимаете? Я видел нашу смерть – одна перед вами, другие грядут. Ваша, Танакалиан. Смертного меча тоже, и всех братьев и сестер, всех Серых шлемов. – Дестриант кашлянул, и что-то брызнуло, залив алтарь жидкостью и комками слизи, сползшими в складки каменной шкуры на шеях Волков.
Фигура на полу сникла, сложилась в середине под неестественным углом. Лоб Ран’Турвиана ткнулся в пол со звуком разбиваемого куриного яйца, и лицо старика тоже смялось.
Танакалиан, не в силах отвести взгляд, смотрел, как потоки жидкости льются из разбитой головы Дестрианта.
Человек просто… растаял. Было видно, как серая мякоть вскипает и льются потоки жира.
Танакалиану хотелось заорать, поддавшись ужасу, но им овладел другой, более глубокий страх. Он не захотел принять мое объятие. Я подвел его, сказал он. Я подведу их всех, сказал он.
Предательство?
Нет, поверить не могу.
Я не предам.
Хотя Ран’Турвиан был мертв, Танакалиан все равно начал спорить с ним.
– Это ваш провал, Дестриант, ваш, а не мой. Вы путешествовали далеко, да? Полагаю… недостаточно далеко. – Он помолчал, стараясь унять дрожь. – Дестриант. Сэр. Мне приятно, что вы отвергли мое объятие. Ведь теперь я вижу, что вы не заслужили его.
Нет, он не просто Кованый щит, такой, как все, что были прежде, все, кто жил и умирал под тяжестью этого титула. Он не согласен пассивно принимать. Он готов принять смертельную боль, да, но не от всех без разбора.
Я ведь тоже простой смертный. И по своей сути способен оценить свои суждения. Понять, что ценно. А что нет.
И я не обязан быть таким же, как другие Кованые щиты. Мир изменился – и мы должны измениться вместе с ним. Должны соответствовать ему. Он вперил взгляд в кучку грязи – все, что осталось от Дестрианта Ран’Турвиана.
Будет шок. Лица, искаженные отвращением и страхом. Орден охватит беспорядок; и именно Смертному мечу и Кованому щиту придется непросто, пока среди братьев и сестер не отыщется новый Дестриант.
А пока, однако, главная забота Танакалиана – как без колдовской защиты пройти канал. По его суждению – пусть и не слишком в этот момент надежному, – это сейчас главное.
Смертный меч подождет.
В любом случае что он может ей сказать?
«Вы обняли нашего брата, Кованый щит?»
«Разумеется, Смертный меч. Его боль – со мной, как и его спасение».
Разум формирует привычки, а привычки формируют тело. Наездник ходит на кривых ногах, мореход широко расставляет ступни даже на твердой земле. Женщины, любящие теребить пряди волос, со временем привыкают сидеть, склонив голову набок. Некоторые люди во время беспокойства скрипят зубами – и за годы челюстные мышцы ослабевают, а коренные зубы стачиваются до корней.
Йедан Дерриг, Дозорный, вглядывался в край воды. Ночное небо, такое знакомое любому, кто привык бодрствовать в этот отрезок времени перед рассветом, вдруг предстало странным, лишенным ясной предсказуемости; челюсть Йедана ходила в непрерывном ритме.
Отражения бледно-зеленых комет плясали на спокойной поверхности залива, как отблески светящихся духов, обычно собирающихся в кильватере кораблей. В небе появились чужаки. Ночь за ночью они приближались, словно по какому-то зову. Появилась мутная луна – хоть какое-то облегчение, но Йедану по-прежнему не нравился странный прилив: все, что было определенным, стало неясным. Было от чего прийти в волнение.
Страдания придут на этот берег, и они не обойдут шайхов. Об этом знали и он, и Сумрак; и он видел растущий страх в слезящихся глазах ведьм и колдунов – видимо, они тоже ощущали приближение чего-то огромного и ужасного. Увы, общий страх не принес стремления к сотрудничеству: политическая борьба осталась и даже усилилась.
Дурачье.
Йедан Дерриг был немногословен. В голове у него хранилась сотня тысяч слов, которые можно составлять в практически бесконечное множество сочетаний, но он вовсе не стремился их произносить. Не видел смысла; и, по его опыту, понимание уменьшалось по мере того как росла сложность – и Йедан полагал, что дело не в недостатке навыков общения, а в усилиях и способностях. Люди живут в болоте чувств, налипающих комьями грязи на каждую мысль, замедляющих ее и лишающих формы. Внутренняя дисциплина, необходимая, чтобы противостоять таким неуклюжим тенденциям, обычно слишком жестока, утомительна и просто тяжела. Отсюда и нежелание прилагать необходимые усилия. А второе, еще более жестокое суждение связано с тем, что в мире куда больше тупых, чем умных. И трудность во врожденном таланте тупых прятать свою тупость. Правда редко проявляется честным недоумением и наивно вскинутыми бровями. Наоборот, она вспыхивает подозрительностью, намеком на недоверие или извращенным молчанием, за которым как будто скрывается напряженная работа мысли, а на деле нет ничего.
У Йедана Деррига не было времени на эти игры. Идиотов он чуял с пятидесяти шагов. Он наблюдал их увертки, выслушивал их бахвальство и только недоумевал: неужели нельзя сообразить, что лучше использовать усилия, потраченные на маскировку собственной тупости, чтобы пользоваться теми мозгами, что достались. Если, конечно, подобное вообще возможно.
Слишком многое в обществе направлено на то, чтобы беречь и даже пестовать мириады дураков, в частности, потому, что дураки составляют большинство. И вдобавок существует множество разнообразных капканов, ловушек и засад, которые должны изолировать и уничтожить умных. Никаким, пусть и самым блестящим аргументом нельзя отразить нож, направленный в живот. Или топор палача. А рев жаждущей крови толпы всегда громче одинокого голоса разума.
А настоящую опасность, понимал Йедан Дерриг, представляет тайный обманщик – тот, кто изображает дурачка, а на деле обладает своеобразным умом, нацеленным на немедленное удовлетворение собственных амбиций; и он блестяще использует и глупых, и умных. Именно такие жаждут власти и, как правило, добиваются ее. Ни один гений по своей воле не захочет заполучить настоящую власть, прекрасно зная о ее смертельных приманках. А дурак не удержится во власти надолго, если только он – не подставная фигура; и тогда его власть – только иллюзия.