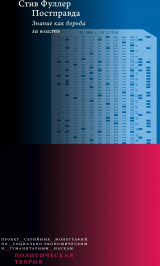
Текст книги "Постправда: Знание как борьба за власть"
Автор книги: Стив Фуллер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Как антиэксперты в игре брекзита в конечном счете забили гол в свои ворота
Ложка дегтя состоит в том, что люди, ставшие предметом только что описанного анализа данных, судя по всему, не разделяют ее попперианскую экспериментальную установку. Именно этот момент волнует теперь антиэкспертов – и должен волновать всех нас. Опиравшиеся на анализ данных стратеги, которые поддержали брекзит, полагали, что они обошли эту проблему, работая преимущественно с выявленными, а не заявленными предпочтениями, то есть обошли любую маскировку респондентов, которая могла бы представить их бόльшими сторонниками ЕС, чем они были на самом деле. Однако сторонники брекзита не предсказали того, что люди настолько сильно идентифицируются с результатом референдума, что повернуть вспять будет сложно. Когда же это случилось, аргументом, наиболее убедительным для тех, кто голосовал за брекзит, оказался, видимо, тот, что не имел никакого отношения к конкретным политическим обещаниям. Если бы дело было в них, можно было бы заметить, что поддержка брекзита спала, когда выяснилось, что исполнить обещания невозможно, по крайней мере, теми относительно дешевыми способами, которые были предложены во время кампании. Тогда мог бы пробудиться интерес к отмене парламентом принятого решения по брекзиту, если не к новому референдуму. Но теперь, когда мы вступаем во второй год переговоров по брекзиту44
Уже после выхода книги Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 г. в 23:00 по лондонскому времени, но при этом оставалась до конца года частью единого экономического пространства. За это время Великобритания и ЕС должны договориться о новых условиях торговли и сотрудничества. – Примеч. ред.
[Закрыть], наблюдается очень мало признаков подобного развития событий. Это говорит о том, что на самом деле брекзит удалось продавить благодаря тому, что в нем увидели возвращение народного суверенитета, понимаемого в качестве самостоятельного блага независимо от его реального применения и последствий для тех людей, которым его всучили. В действительности в политике была стерта граница между мышлением и бытием.
Здесь стоит отдать должное большому преимуществу парламентской демократии: поскольку члены парламента официально являются «представителями народа», обычно у них есть определенное риторическое пространство, позволяющее интерпретировать «общественное благо» по-разному в свете меняющихся обстоятельств, не предполагая при этом, что концепция общественного блага, имеющаяся у самого народа, является хоть в чем-то ошибочной. Действительно, члены парламента готовы стать козлами отпущения в случае провала того или иного политического курса, поскольку регулярные выборы дают населению возможность обвинить их и заменить, в то время как ему не нужно брать на себя личную ответственность за положение страны. Имеющий юридически обязывающий характер референдум подобную удобную уловку устраняет, ведь в этом случае люди лично выносят коллективное решение относительно собственной судьбы.
Ирония в том, что настроенные против ЕС элиты, которые благоволили проведению референдума в основном потому, что стремились превратить Британию в испытательный полигон для новых торговых соглашений и других экономических схем (это так называемый «жесткий», или «чистый», брекзит), на самом деле умудрились разбудить в обществе вкус к тому, что Жан-Жак Руссо называл «общей волей». Это выражение, ставшее одним из лозунгов Французской революции, постулирует безошибочную непогрешимость коллектива, который связан общими ценностями и общим опытом. Противоположное понятие, а именно «агрегированная воля» – это своего рода фальшивый идеал, который Жан-Жак Руссо мог бы приписать ЕС, особенно если смотреть на него с точки зрения его критиков, ведь в нем предпочтения разрозненных партий просто суммируются в процессе выработки политических решений. С точки зрения Руссо, коллективная воля связывается с безошибочной непогрешимостью благодаря общему чувству идентичности, которое реализуется на практике, когда многие действуют заодно: не соглашаться со мной значит в таком случае уже не просто бросать вызов моему личному мнению, от которого я могу отказаться, скорее, это значит бросать вызов самому моему ощущению того, кто я такой, то есть в данном случае мне как «британцу». Стоит напомнить, что общая черта сторонников и Консервативной, и Лейбористской партий, которые поддержали брекзит, заключалась в сильном ощущении угрозы национальной идентичности, которая может исходить как от иностранных мигрантов, так и от либеральных космополитов [Johnson, 2017].
Понимание сторонниками брекзита того, что их работа оборвалась, было продемонстрировано в недавнем диалоге в Twitter, о котором сообщил юридический комментатор Financial Times Дэвид Аллен Грин, ведущий блог под именем Джека Кентского [Green, 2017]. Собеседником Грина был один из самых «бесстыжих» антиэкспертов – Доминик Каммингс, который впервые получил известность в качестве специального советника Майкла Гоува, когда тот был министром образования Великобритании, а потом стал главным стратегом успешной кампании в поддержку брекзита, одним из руководителей которой был и Гоув. Когда Грин спросил Каммингса, считает ли он спустя год после голосования по выходу из ЕС, что британский народ при брекзите станет счастливее, Каммингс ответил, что правительственная стратегия должна заключаться теперь в максимизации «адаптивности» Британии к широкому спектру возможных будущих, каждое из которых обладает собственной формой счастья. На практике это означает, что потенциальные выгоды от выхода из ЕС должны превозноситься, тогда как издержки – затушевываться, даже если выгоды не могут полностью компенсировать издержки, если понимать издержки так, как они понимались в день референдума.
Проверкой для этой стратегии стало предложение о том, что после брекзита Великобритания должна стать открытой для любых договоров по свободной торговле с любыми странами, которые она не могла бы заключить, если бы осталась в ЕС. Очевидную потерю заметного объема торговли с Европой, который напрямую не компенсировался бы торговлей с другими странами мира, можно было бы тогда изобразить в качестве «инвестиции» в долгосрочную концепцию Британии как великой мировой державы, наиболее открытой к торговле с любыми странами. Конечно, такая «инвестиция» по-разному повлияет на разные группы населения, поэтому необходимо не только справедливо распределять издержки, но и соответственным образом приспосабливать описание этих издержек, чтобы люди не думали, что их жизнь будет слишком долго оставаться столь жалкой. В любом случае цель по-прежнему в том, чтобы оградить людей от необходимости признать, что они изначально приняли неверное решение. Но действительно ли необходим этот достаточно хитрый и, вероятно, довольно манипулятивный подход, который заключается просто в сохранении иллюзии безошибочности общей воли?
Подобный подход стал бы доказательством того, что голосование за брекзит было ошибкой. Такое доказательство должно выполняться в два этапа. Во-первых, бывший премьер-министр Кэмерон, который сразу после голосования подал в отставку, должен был признать, что объявил референдум в основном для того, чтобы решить давний внутренний спор в правящей Консервативной партии, разлагающее воздействие которого питало электоральные успехи Партии независимости Великобритании. В то время эта стратегия представлялась Кэмерону вполне реалистичной, поскольку он уже успел провести два референдума: один по независимости Шотландии, а другой по альтернативной схеме голосования, и в обоих одержал победу, что позволило оттеснить противников. Однако Кэмерон недооценил легкость, с которой ЕС можно превратить в козла отпущения за произвольное количество проблем, которые давили на общественное сознание, а потому брекзит стал выглядеть решением-панацеей. Это подводит нас ко второму и определенно более сложному этапу, на котором следовало бы сказать избирателям: мало того, что их подставили, заставив проголосовать по партийной повестке, так они еще и умудрились принять неправильное решение. На этом этапе вопрос о том, было общество введено в заблуждение или нет, становится гипотетическим. Факт остается фактом: девять из десяти регионов Великобритании, которым наиболее выгодно финансирование, поступающее от ЕС, проголосовали за брекзит. Суровый вердикт, гласящий, что это ситуация «пчелы против меда», в этих обстоятельствах не выглядит столь уж необоснованным.
Вопрос, соответственно, в том, сможет ли парламентская демократия Великобритании пережить это двойное признание в ошибке. По-видимому, никто, если не считать бывшего лорда-канцлера тори Кена Кларка, который ныне является парламентарием с самым долгим сроком службы55
Звание старейшего члена Палаты общин (Father of the House) Кеннет Кларк носил с 2017 г. по ноябрь 2019 г., когда оставил пост члена Палаты. – Примеч. ред.
[Закрыть], и лидера либеральных демократов Винса Кейбла66
Винс Кейбл сложил полномочия лидера либеральных демократов в июле 2019 г., а на выборах в ноябре 2019 г. не стал баллотироваться в Палату общин. – Примеч. ред.
[Закрыть], не желает проверить это на практике. Возможно, нежелание политиков всех партий признать ошибку связано с отсутствием в Великобритании писаной конституции. Собственно, беспечности, с которой был проведен референдум столь большого национального значения, как брекзит, мог бы отвечать другой референдум, служащий решительному ограничению полномочий самого парламента, признай он, что голосование по брекзиту было чудовищной ошибкой. В конечном счете, антиэкспертные элиты, представляемые Гоувом и Джонсоном, которые смогли побить Кэмерона в его собственной игре, не смогли понять, что граждане могут воспринять объявление референдума в том смысле, будто они сами обладают собственными экспертными знаниями.
Следует вспомнить о том, что в первой трети XX в. такие сторонники управляемого экспертами массового общества, как Уолтер Липпман [Lippmann, 1922; Липпман, 2004] и Альфред Шютц [Schutz, 1946; Шютц, 2003], были обеспокоены все более чувственным характером новых медиа, когда печать дополнялась, но не заменялась звуком и видеоизображением. По их мнению, такой характер мог привести к приобретению людьми своего рода «псевдоопыта», заставляющего их думать, что они знают больше, чем на самом деле, просто получив возможность заявить, будто «видели» или «слышали» определенные вещи в эфире, а те, в свою очередь, впоследствии смешиваются с их реальным личным опытом, порождая то, что люди считают политически значимыми суждениями. И правда, «эксперт» – этимологически сокращение от слова «опытный» (experienced). Первоначально «экспертами» были люди, которые могли доказать в суде, что ранее они были свидетелями определенной закономерности в поведении, которая значима для принятия решения по рассматриваемому делу [Fuller, 2002, ch. 3]. Также предполагалось, что значение, связываемое с этим опытом, является «надежным», причем в двойном смысле, то есть «повторяемым» и «заслуживающим доверия». Этим уже подразумевались вопросы образования и аккредитации, которые превратили «экспертизу» в эпистемический регион с высокой рентой, тогда как значение того, что, собственно, испытывалось в «опыте», оказалось в этом смысле одновременно неопровержимым и ограниченным.
Итоговая картина, отстаиваемая Липпманом, Шютцем и другими авторами, говорила о том, что социальный порядок в сложных демократиях требует «распределения знаний» или «разделения когнитивного труда». Такое предложение, по сути, порождает феодальную модель, скрытую за картографическими образами, которые по-прежнему заставляют представителей академии называть свои экспертные знания «полями» или «сферами» знания, разграниченными ритуалами взаимоуважения и доверия. Британская парламентская политика тоже в значительной степени опирается на эту модель, которая породила класс «профессиональных политиков», выборных представителей народа, но не делегатов, чей этос служения обществу взращивается с младых ногтей в независимых школах, которые британцы по традиции называют общественными. Конечно, антиэксперты официально против этой модели, несмотря на то что они сами укоренены в этих элитистских умонастроениях. Однако они заодно со сторонниками экспертизы в том, что у них в конечном счете один враг – руссоистское представление о том, что толпы являются носителями особой мудрости, особенно когда они приняли решение о плане действий, даже если остается совершенно неясным, как его осуществить и какими могут быть результаты. Исторически подобный разрыв между волей и знанием часто создавался демагогией, когда фигура диктатора начинала олицетворять публично заявленное устремление. Хотя Великобритания вряд ли свернет на дорожку демагогии, следующие несколько месяцев и лет в жизни страны станут крайне интересным, но при этом очень рискованным экспериментом в области демократии, который многому научит мир, каким бы ни был конечный результат.
Хотя антиэкспертная революция развивалась не вполне по плану, она остается вектором судорожного прогресса демократии. Более того, академия – также один из пунктов повестки этой революции. Моя собственная антипатия к экспертизе подпитывалась идеей Йозефа Шумпетера о предпринимательских инновациях как о «созидательном разрушении». По меньшей мере, начиная со своей работы 2003 г. [Fuller, 2003a] я доказывал, что университету необходимо следовать установкам Шумпетера, чтобы главным в нем перестали считаться узкие места, создаваемые им в потоке знаний за счет распределений квалификаций и других форм «системы фильтрации», которые скептическому взору представляются поиском ренты. (Вспомним о корнях этого термина – gatekeeping – в практике установления средневековых пошлин.) В этом смысле я призывал университет вернуться к своей просвещенческой миссии и перестать отдавать предпочтение исследовательской деятельности, которая, видимо, составляет основу для поиска ренты путем закрепления прав первенства в научной литературе и в патентном бюро. Способность академии противодействовать экспертизации находит выражение в учебной аудитории, поскольку преподавание дает доступ к знаниям тем, кто в ином случае не мог бы приобрести их, не став частью контекста, в котором такие знания производятся и распределяются. Таким образом, университеты производят знания в качестве общественного блага путем созидательного разрушения социального капитала, сформированного исследовательскими сетями. И это их единственное коммерческое преимущество [Fuller, 2009; 2016a].
У бизнес-школ, возможно, уникальное положение, позволяющее им выполнять эту функцию. Преподавательский состав в них обычно прошел обучение за пределами академического поля бизнес-обучения, а в том случае, если бизнес-школа вообще на что-то годится, большинство людей, которые обучаются у таких преподавателей, и сами не останутся в этом академическом поле. Если какая-то часть университета и заслуживает права нести светоч антиэкспертности, то это именно бизнес-школы. В самом деле, если бы мне пришлось собирать философский факультет, я бы набрал на него людей, которые не получили профессионального образования, но которым было бы дано право обучать студентов, по большей части планирующих в будущем работать за пределами такого поля. Иными словами, он был бы похож на современную бизнес-школу. Подобный факультет мог бы даже добиться такого же успеха, что и бизнес-школы, если бы следовал этой организационной модели. Однако мой довод состоит в пригодности такой модели для философии как дисциплины, а не в ее точной финансовой результативности. «Философия», как и слово «бизнес», в таком случае должна была означать прежде всего «форум», или рынок (в греческом языке это одно и то же слово – agora), где люди, которые за его пределами были друг для друга чужими, обладали бы свободным пространством для обмена притязаниями на знание, предположительно выгодного всем сторонам, целью которого является, возможно, достижение целого, большего суммы своих частей. В принципе, такое пространство может быть где угодно, однако учебная аудитория могла бы стать образцовым пространством для подобного рода трансакций. Основная цель этого упражнения состояла бы в порождении общего чувства гуманизма.
Конечно, сделка в такой ситуации не вполне симметрична. Ничего нельзя продать, пока нет чего-то на продажу, а потому и академики должны сначала выйти с предложением, пытаясь убедить будущих студентов в том, что есть что-то такое, что им нужно знать. На более абстрактном уровне такой начальный гамбит подкрепляет идею бремени доказательства, то есть нормативное основание, на котором стоит любой аргумент в реальной жизни: если я утверждаю, что вам чего-то недостает, моя задача – доказать это. Из этого следует, что я должен обладать определенными востребованными товарами. Это демонстрируется тем, что именно студенты берут из предложенного академическими учеными. Опираясь на Адама Смита, экономист Дейдра Макклоски [McCloskey, 1982; Макклоски, 2015] доказывала подобие, если не тождество, обмена идеями и обмена товарами, который она связывает (по-моему, вполне обоснованно) с искусством риторики. В этом случае то, что считается «каноном» западной философии, может пониматься в качестве знания такого рода, что производится в соответствии с подобным духом спроса и предложения. На страницах канонических произведений читатель найдет множество реальных и воображаемых трансакций, которые либо проводились, либо даже были доведены до результата. Диалоги Платона – лишь наиболее очевидный пример такого рода, который, возможно, объясняет, почему каноны всегда начинаются с него, а остальная философия представляет собой «сноски» к нему, по крайней мере, по мнению Альфреда Норта Уайтхеда, который на самом деле не был большим поклонником Платона. В любом случае для создания подобного «канонического» эффекта можно было бы выбрать работы, отличные от ныне почитаемых, и в будущем они, возможно, и правда будут выбраны.
Глава 2
Что о ситуации постистины может рассказать философия
История истины с точки зрения постистины
Философы утверждают, что ищут истину, но на самом деле это не так уж очевидно. Их можно также считать наиболее опытными экспертами по миру постистины. Они видят в «истине» то, чем она и правда является, а именно название бренда, вечно нуждающегося в продукте, который купит каждый. Это помогает объяснить, почему философы увереннее всего апеллируют к «Истине», когда пытаются убедить нефилософов, например, в судах или учебных аудиториях. Говоря на профессиональном жаргоне, «истина» вместе с понятиями, ей родственными, «по существу своему спорна» [Gallie, 1956]. Другими словами, философы расходятся не только во мнениях о том, какие пропозиции являются истинными или ложными, но и, что еще важнее, о том, что значит утверждать, что нечто является истинным или ложным.
Если мое замечание кажется вам слишком жестким или циничным, рассмотрим «карьеру» ключевых философских категорий, позволяющих обмениваться притязаниями на знание. Не последние в числе таких категорий – «свидетельства» (evidence) и собственно «истина». Свидетельства – удобный отправной пункт для разговора, поскольку он прямо ведет к популярному образу нашего мира постистины как мира «после фактов», понимаемого в качестве злонамеренного отрицания прочных, хотя, возможно, и не неопровержимых, свидетельств, независимость которых устанавливает пределы того, что можно с тем или иным основанием утверждать о мире.
Но только в раннее Новое время философы начали проводить различие между чисто фактической концепцией свидетельств и личным признанием или же свидетельством авторитета. Этот разрыв стал очевидным лишь в середине XIX в., когда свидетельства, опирающиеся на мнение людей, в книгах по логике стали регулярно относить к «неформальным ошибкам», если только у таких людей не было «прямого знакомства» с рассматриваемым вопросом [Hamblin, 1970]. Само понятие «эксперт», являющееся юридическим изобретением конца XIX в. и представляющее собой сокращение от слова «experienced» («опытный»), позволило расширить идею «прямого знакомства» так, чтобы включить людей с определенным образованием, благодаря которому у них есть право на основе своего опыта делать индуктивные обобщения, относящиеся к рассматриваемому в данный момент вопросу. Таким образом, недавно попавший под запрет «аргумент от авторитета» вернулся через заднюю дверь [Turner, 2003].
Это постепенное оформление понятия свидетельства стало частью более общего процесса секуляризации знаний. В то же время было бы ошибкой считать, что современное понятие было создано специально для научного исследования. Скорее, оно выступало переложением процедуры инквизиции, использовавшейся в Европе для выявления еретиков и ведьм. В Англию эту процедуру импортировал Фрэнсис Бэкон, юрист короля Якова I, считавший, что природа сама скрывается от закона, слишком долго пряча свои секреты от человечества. Поэтому нужны были особые суды, которые бы заставили природу расстаться с ее обычной двусмысленностью и выбрать между двумя взаимоисключающими ответами [Fuller, 2017].
Бэкон называл такие судебные расследования Experimentum crucis (решающим опытом), а Карл Поппер тремя столетиями позже превратил их в золотой стандарт научного метода. Конечно, у Бэкона и Поппера не было никаких иллюзий насчет того, что факты, произведенные, как мы сказали бы сегодня, в условиях «чрезвычайной выдачи», могут быть выражениями природы в более спокойных обстоятельствах. Напротив, Поппер дошел до того, что стал называть факты конвенциями, имея в виду удобные промежуточные остановки на бесконечном пути инквизиции природы. В конце концов, опыты считались решающими именно потому, что их результаты позволяли ускорить получение будущих знаний, которые в противном случае раскрывались бы – независимо от того, хорошо это или плохо – по графику самой природы, а потому у человечества было мало возможностей запланировать ответ, не говоря уже о том, чтобы направить движение природы на благо человечества.
Что касается «истины» («truth»), то само слово восходит к староанглийскому «troth», в котором уже заложены все философские сложности, присущие этому понятию. «Troth» означает верность, но чему именно – источнику или предмету?
Первоначально «истина» в этом смысле означала верность источнику. То есть речь шла о лояльности инстанции, уполномочивающей того, кто высказывает истину, и такой инстанцией могли выступать как христианское божество, так и римский военачальник. В этом контексте верность связывалась с выполнением того или иного плана, будь то план мироздания или сражения. Человек действовал в рамках истины, выполняя намерение силы, предоставившей ему полномочия, независимо от того, как именно оно выполнялось и с каким результатом. Именно этот смысл «истины» позволил иезуитам, католическому контрреформаторскому ордену, основанному испанским офицером Игнатием Лойолой, исполнять промысел Божий, действуя на основе принципа «цель оправдывает средства».
Однако благодаря другому католику, Фоме Аквинскому, истину в современный ему период стали считать верностью предмету, а именно эмпирическим объектам, уже попавшим в поле игры. Его собственное латинское выражение – adequatio ad rem, неточно переводящееся как «соответствие вещи», отражает расхолаживающий характер этой концепции, которая по-прежнему в чести у философов, называющих ее «корреспондентной теорией истины». Фома Аквинский, писавший в конце XIII в., в период массового распространения ереси, утверждал, что мир, как он дан нам в обычных условиях, достаточно близок к божественному плану, а потому верующий должен перестать пытаться угадывать намерения Бога и вместо этого сосредоточиться на прояснении эмпирических деталей Творения. Сегодня Фома Аквинский является официальным философом церкви, надежным ориентиром для приспособления науки к вере.
Эти противоположные тенденции, заключенные в понятии истины, – то есть ориентация на источник или на предмет – сохранились и в наши дни. Ньютон, который, как известно, во втором издании своей «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» провозгласил «Hypotheses non fingo» («гипотез не измышляю»), на самом деле просто успокаивал подозрительных религиозных читателей, боявшихся того, что он, возможно, пытается проникнуть в «Разум Бога», а не просто предлагает ясное описание порядка природы. Конечно, учитывая объемные теологические сочинения Ньютона, при жизни не публиковавшиеся, он и в самом деле стремился разгадать намерения божества, в которое верил. Он стремился к источнику, а не просто к предмету всякого знания. Если принять это в расчет, можно увидеть иронию в том, что такой патентованный «атеист», как физик Стивен Хокинг, преемник Ньютона на посту главы кафедры математики в Кембридже, умудрился сделать ставку на «Разум Бога» как основную метафору в своей классической научно-популярной «Краткой истории времени». Ньютон и Хокинг различаются не только содержанием своей деятельности, но также уровнем самосознания. Ньютон намеренно скрывал то, от чего ко временам Хокинга формально отреклись, а может, и вообще давно позабыли.
Философом, позволяющим сориентироваться в этой порой несколько сюрреалистической интеллектуальной среде постистины, выступает Ганс Файхингер (1852–1933) – человек, на котором лежит ответственность за превращение Иммануила Канта в оплот академических исследований, поскольку именно он основал в 1896 г. журнал Kant Studien. Файхингер разработал также определенное мировоззрение на основе часто употреблявшегося у Канта выражения «als ob» («как если бы»). В значительной степени нормативная сила философии Канта проистекает из такого мышления и действия, «как если бы» определенные вещи были истинными, даже если вы, возможно, никогда не сможете доказать их и даже если они могут оказаться ложными. Файхингер [Vaihinger, 1924] назвал появившееся таким образом мировоззрение фикционализмом, и именно оно выражает кульминацию постистины как особой чувствительности. С точки зрения Файхингера, философия представляется наиболее постистинностным полем из всех существующих.
Идею Файхингера полезно рассмотреть с точки зрения общеизвестного раскола современной философии на «аналитическую» и «континентальную». Аналитики обвиняют континенталов в том, что те переняли у Фридриха Ницше все его дурные привычки. Результатом стала традиция дурных рассуждений, ложных филологических изысканий, эксцентричных историй, обскурантизма и гипербол. Вот уж действительно целый букет преступлений против истины, но интересно, что наиболее важным и устойчивым вкладом аналитической философии считаются несколько мысленных экспериментов, по сути, попросту плодов воображения (таких, как «мозги в бочке» Хилари Патнема или «китайская комната» Джона Серла), которые, однако, выдаются за героические абстракции, полученные на основе некоей гипотетической реальности. Остальная часть аналитической философии представляет собой, по сути, всего лишь схоластические препирательства по поводу точной формулировки этих мысленных экспериментов и выводов, которые из них позволительно сделать. Иногда, впрочем, такие препирательства оживляются моментами сильнейшего негодования, а также демонстрацией невежества, узколобия и предубеждения по отношению к другим, как правило, «континентальным» или «постмодернистским», способам рассуждения.
Файхингер мог бы помочь нам в понимании того, что происходит сегодня. Наш подход к миру он разделил на вымыслы и гипотезы. В вымысле вы не знаете, что живете в ложном мире, тогда как в гипотезе знаете, что не живете в ложном мире. В обоих случаях «истинный мир» не обладает никаким определенным эпистемическим статусом. Напротив, вы предполагаете «ложный мир» и в своем рассуждении исходите из него. С этой точки зрения континентальные философы – это поставщики вымыслов, а аналитические – гипотез. То, что в быту мы называем реальностью, колеблется между двумя этими полюсами, никогда на самом деле не приближаясь к какому-то надежному смыслу истины. Вымыслы нужно представлять в качестве того, что существует в диапазоне от драм до законов («юридических фикций»), а гипотезы – в диапазоне от сочинений Евклида и до того, что ученые проверяют в лабораториях, или же того, что делают люди, когда планируют будущее.
Значит ли это, что истина – понятие попросту избыточное? На это как раз и указывает «избыточная теория истины», предложенная логиком Фрэнком Рамсеем. Кроме того, теории истины, которые наследуют ей, но называются по-разному – «дефляционная», «дисквотационная», «экспрессивная» или даже «гоноративная» (если вспомнить интерпретацию Джона Дьюи у Ричарда Рорти), – тоже могут быть добавлены к постистинностному репертуару аналитической философии [Haack, 1978, ch. 7]. Но «на самом деле» (если так можно выразиться), Файхингер бы сказал – и я с ним согласен, – что истина оказывается всем тем, что определяется судьей, полномочным в рассматриваемом деле. Другими словами, Бэкон в конечном счете был прав, а это, возможно, объясняет, почему Кант посвятил ему «Критику чистого разума». Но о каких именно полномочиях мы здесь говорим? В следующем разделе, который посвящен философским началам всего концептуального комплекса постистины, я сосредоточусь на идее модальной власти, которая включает контроль над тем, что считают возможным другие люди. Когда Отто фон Бисмарк заявил, что политика – это искусство возможного, он тем самым признал открытие Платоном того, что всякая власть сводится к модальной власти.








