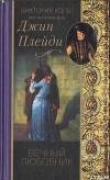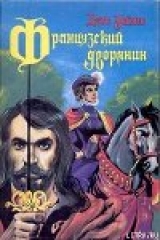
Текст книги "Французский дворянин"
Автор книги: Стэнли Уаймэн
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
ГЛАВА VII
Условия сдачи
Не успел я отнять руки от решетки, как легкий удар по плечу заставил меня обернуться, предупреждая меня о новой неминуемой опасности. И действительно, на этот раз мне грозила такая беда, что, даже призвав на помощь всю свою решимость, мне трудно было совладать с нею. Рядом со мной стоял Генрих. Он снял свою маску, и уже одного взгляда на него для меня достаточно, чтобы убедиться, что случилось именно то, что я предчувствовал и чего так опасался. В глазах у него выражалось необычайное возбуждение; все лицо, темно-багрового цвета, мокрое от пота, обнаруживало чрезмерное волнение: стиснутые губы напоминали лицо мертвеца. Внезапность новой опасности, отсутствие кого-либо из приближенных или вообще знакомых лиц из свиты, без которых он не делал ни шагу, необычный час, убогая хижина, одинокое положение среди чужих людей – всего этого было слишком много для его нервной системы и без того надорванной его образом жизни. Несмотря на свое присутствие духа и смелость, не раз испытанные в боях, он не мог вынести нового потрясения. Хотя король и старался еще сохранить свое достоинство, для меня было очевидно, что он уже почти потерял способность владеть собой.
– Отворите! – пробормотал он сквозь зубы, указывая нетерпеливо на дверь. – Отворите же, сударь, говорю я вам!
Я поглядел на него, изумленный и смущенный.
– Но позвольте, ваше величество: вы забываете, что я еще…
– Отворите, повторяю вам! – повелительно повторил король. – Слышите, сударь? Я желаю, чтобы эта дверь была немедленно отворена!
Сухая, жилистая рука его тряслась, как в параличе: драгоценные перстни на пальцах сверкали и переливались разноцветными огнями. Я безнадежно переводил глаза с него на женщину и обратно, причем мне смутно представлялась вся опасность, которая возникла бы, если бы ее присутствие здесь было открыто, – опасность, которую я еще сам не мог себе хорошенько определить, но которая уже вполне ясно представлялась моему воображению. В то же время мне показалось, что я нашел средство избавиться от нее. Эта мысль настолько ободрила меня, что, продолжая еще держаться за решетку, я решился вступить в переговоры с королем.
– Простите, ваше величество! – начал я торопливо, но самым почтительным тоном. – Прежде всего я решаюсь просить вас дозволить мне рассказать вам, что я видел. Не считая Брюля, там шесть человек, которые, полагаю, составляют его свиту. Все это – негодяи, способные на любое преступление: умоляю ваше величество лучше согласиться на кратковременный арест…
Здесь я должен был умолкнуть, пораженный внезапным гневом, сверкнувшим в глазах короля: своими неудачными выражениями я только разжег его ярость, как бы дал ей толчок проявиться наружу. Предрасположенный к подозрению многочисленными изменами и обманами особенно за последнее время, он забыл обо всех опасностях, угрожавших ему извне, при мысли, что я сам хочу погубить его и для этой цели завлек его сюда. Он огляделся взором, полным злобы и страха, и еле слышно пролепетал дрожащими губами:
– Арест?..
К довершению несчастья, пустая случайность вовлекла его в еще большее смятение, доведя до полной невменяемости. Кто-то начал ломиться в дверь снаружи. Дама, услышав это, испустила громкий крик ужаса – и король окончательно потерял самообладание. Вскочив с места, он яростно закричал мне, чтобы я немедленно отворил дверь, у которой я все еще стоял. Но я все-таки решил подождать и простер к нему руки с умоляющим видом, как бы с последней просьбой. Генрих отступил на шаг, выхватил меч и приставил острие к моей груди. Я всегда был убежден, что он вообще неспособен нанести удар; но само прикосновение к рукояти меча пробуждало мужество, которым он, несомненно, обладал и которое не покидало его в самые опасные минуты. Однако на этот раз такого не случилось: пока лезвие его меча дрожало у самой моей груди, а я стоял неподвижно, употребляя нечеловеческие усилия, чтобы оставаться спокойным, мадемуазель бросилась к королю и с громким криком ухватила его сзади за локоть. Ошеломленный Генрих, не видя, кто схватил его, поднял руку и концом меча задел висячую лампу: она разлетелась вдребезги, и в комнате воцарилась полная темнота. Женские крики и сознание, что среди нас находится сумасшедший, наполняли мрак всякими ужасами.
Боясь прежде всего за мадемуазель, я собрался с духом и, добравшись кое-как дотлевших у очага угольев и не обращая внимания на неясно сверкавший меч короля, отыскал полуобожженную палку, на конце которой мне удалось раздуть огонь. При помощи этой палки я зажег свечу, замеченную мною раньше неподалеку от очага, и только тогда решился оглядеться. Мадемуазель стояла в углу, наполовину взбешенная, наполовину перепуганная. Лицо ее было багрово-красно. Одна рука ее была обернута носовым платком, запачканным кровью: очевидно король, в безумной ярости размахивая мечом, слегка поранил ее. Фаншетта стояла перед своей госпожой, с волосами взъерошенными, точно шерсть дикой кошки; квадратное лицо ее и вся фигура выражали недоверие и злобу. Неподалеку от них стояли, прислонясь к стене, госпожа Брюль и Симон. Король сидел на стуле с видом растерянности и изнеможения; острие его меча упиралось в пол, и он с трудом удерживал в дрожащей руке рукоятку. Я тотчас сообразил, что мне делать. Молча подойдя к королю, я положил на стул около него свой меч, свои пистолеты и кинжал, затем преклонил колени и сказал:
– Дверь здесь, ваше величество. Вы можете отворить, когда вам угодно. Вручаю вам также свое оружие: отныне я ваш пленник. Старшина-маршал за дверями: вы одним словом можете предать меня ему… Но, государь, – продолжал я серьезным тоном, – позвольте просить вас об одном – не допускать и мысли, чтобы я думал хоть на одно мгновение оказать особе вашего величества неуважение или каким бы то ни было образом оскорбить вас.
Король поглядел на меня тупым, бессмысленным взором; лицо его было бледно, в глазах было какое-то рыбье выражение.
– Святители! – пробормотал он довольно невнятно. – Зачем же вы подняли ваши руки?
– Только затем, чтобы умолять ваше величество обождать минутку, – ответил я, наблюдая в то же время как лицо его мало-помалу принимало осмысленное выражение. – Если вы удостоите выслушать меня, я объясню вашему величеству все в немногих словах. У Брюля шесть-семь человек, у старшины восемь или девять. Но люди Брюля отчаяннее и смелее: если он найдет ваше величество в моей квартире и припишет вам свою неудачу, то может решиться на отчаянный поступок. Едва ли можно рассчитывать, что особа вашего величества будет в безопасности, отправившись в сопровождении Брюля по улицам. Кроме того, – продолжал я, с радостью замечая, что король слушал со вниманием и постепенно приходил в естественное состояние, – здесь есть еще другое обстоятельство, а именно тайна, которую вашему величеству угодно было повелеть сохранить до тех пор, пока дело не подвинется значительно. Рони дал мне строжайший наказ на этот счет, опасаясь, что в случае, если бы ваш план сделался известным в Блуа, могло бы вспыхнуть восстание.
– Это вполне справедливо, – воскликнул король, к которому вернулась прежняя бодрость, хотя он и избегал еще глядеть на мадемуазель. – Да, он в состоянии напасть на меня. Но что же прикажете мне делать, сударь? – продолжал он жалобным тоном. – Не могу же я оставаться здесь. Мое отсутствие будет замечено. Я ведь не какой-нибудь бродяга, которого никто не знает и который никому не надобен.
– Готовы ли вы, ваше величество, довериться мне? – спросил я тихо, робким голосом.
– Довериться вам? – раздраженно воскликнул король, поднимая руку и разглядывая свои ногти, о красоте и белизне которых он заботился не менее любой женщины. – Разве же я не доверял вам? Иначе как бы я очутился здесь? Да ведь если бы вы не были гугенотом – Господи, прости меня за эти слова! – я скорее согласился бы встретиться с вами в аду, чем придти сюда.
Признаюсь, я с гордостью выслушал такую похвалу моей религии. Я забыл даже на мгновение и грозную опасность, и мрачную комнату, скудно освещенную свечкой, и перепуганные лица у задней стены, и даже взволнованное лицо короля, на котором выражение надменности боролось со смятением. Затем я сказал, что не сомневаюсь, что мне удастся вывести его отсюда, не открывая тайны его присутствия.
– В таком случае, пожалуйста, сделайте так, ради Бога! – быстро ответил король. – Делайте, что хотите, но только отведите меня в замок, и больше ни одному гугеноту не удастся вывести меня оттуда! Я Уже достаточно стар для подобных приключений.
Новый стук в дверь в эту минуту побудил меня не теряя времени объяснить мой план, который он одобрил, упрекнув меня, однако, за то, что я поставил ему такую задачу. Боясь, что дверь не выдержит, несмотря на устроенные мною засовы, и побуждаемый видом госпожи Брюль, выражавшим живейший ужас, я взял свечу и проводил короля во внутреннюю комнату. Здесь я положил возле него свои пистолеты и молча взял меч и кинжал. Затем я возвратился к женщинам и, отворив дверь, знаком пригласил их войти. Мадемуазель, на перевязанную руку которой я не мог глядеть без волнения, хотя присутствие короля и не позволяло мне выговорить ни слова, прошла вперед до самых дверей, у которых я стоял. Но здесь, оглянувшись и увидев, что следом за ней идет госпожа Брюль, она вдруг остановилась и, окинув меня высокомерным взглядом, тихо спросила:
– А эта дама? Разве нас велено запереть вместе?
– Мадемуазель! – быстро ответил я также тихо. – Разве я когда-нибудь требовал от вас чего-нибудь позорного?
Она ответила легким покачиванием головы.
– Я и теперь не требую ничего подобного, – продолжал я серьезным тоном. – Я поручаю вашим заботам даму, которая из-за нас подверглась большой опасности; остальное предоставляю вашему собственному усмотрению.
Вместо ответа, она взглянула мне прямо в лицо смелым взглядом и прошла дальше. Госпожа Брюль и Фаншетта последовали за ней. Я затворил дверь и обратился к Симону, который тем временем раздувал тлевшие уголья, пытаясь хоть немного осветить комнату, в которой оставались теперь только он да я. Мне показалось, что он избегает моего взгляда, и видно было, что и от всего виденного, и от усиливавшегося стука в дверь тревога его возрастала с каждой минутой. Но я не сомневался в его преданности барышне; а мои приказания ему были довольно просты.
– Вот что вы должны сделать, – сказал я, взявшись уже за засов. – Как только я выйду, крепко заприте за мной дверь и больше не отворяйте никому, кроме Мэньяна. Когда же он постучится, отворите ему осторожно и впустите. Вы скажете ему, чтобы он – если только любит господина Рони, – как только погода немного прояснится, взял с собой людей и проводил короля Франции до его дворца. Посоветуйте ему быть храбрым, но вместе с тем осмотрительным: он своей жизнью отвечает за безопасность и жизнь короля.
Я дважды повторил Симону этот наказ. Затем, опасаясь, что старшина-маршал и вправду сдержит свое слово и взломает дверь бревном, я отодвинул засов. Мое появление в дверях было встречено дюжиной злобных криков; и в них слышалось столько ярости и нетерпения, что нельзя было разобрать, в чем дело. Наконец предводителю удалось немного успокоить своих людей; но очевидно было, что и его терпение уже истощилось.
– Сдаетесь вы, наконец, или нет? – спросил он. – Я вовсе не намерен не спать тут из-за вас целую ночь!
– Предупреждаю вас, – ответил я, – что приказ, на который вы ссылаетесь, уже отменен королем.
– Это меня не касается, – грубо возразил тот.
– Да, но это будет касаться вас завтра, когда король пошлет за вами, – ответил я; и мне показалось, что эти слова несколько подействовали. – Хорошо, я согласен сдаться вам, но на двух условиях. Вы разрешите мне сохранить оружие до тех пор, пока мы не дойдем до сторожки привратника: даю вам слово идти спокойно. Это – первое.
– Хорошо, – сказал старшина более любезно. – Против этого ничего не имею.
– Во-вторых, вы не должны позволять вашим людям вламываться в мою квартиру. Я выйду совершенно спокойно. Полученный вами приказ не уполномочивает вас грабить мое имущество.
– Тсс! Мне нужно только, чтобы вы вышли. Я вовсе не собираюсь входить к вам.
– В таком случае, можете отвести ваших людей обратно на лестницу. И если вы в точности выполните наше условие, я помогу вам завтра. Ведь исполнение этого поручения еще доставит вам много хлопот. Рец, который привез этот приказ сегодня утром, как вы знаете, уже уехал, а Вилькье, вероятно, уедет завтра. Но вы можете смело положиться на то, что Рамбулье будет здесь.
Последнее замечание пришлось как раз кстати. Оно подействовало на старшину именно так, как я рассчитывал. Без всяких дальнейших возражений он приказал своим людям отступить и охранять вход на лестницу; я же начал снимать запоры с дверей.
Делу, однако, не суждено было окончиться так просто. Несколько членов брюлевской шайки, повинуясь, вероятно, знаку своего вождя, стоявшего вместе с Френуа на верхней ступеньке лестницы, отказались уходить и подстрекали к тому же людей старшины, когда те собирались повиноваться. Но старшина, уже и так раздраженный медлительностью в исполнении его требования, собрал своих подчиненных. Была минута, когда казалось, что вот-вот вспыхнет стычка, исход которой невозможно было предсказать.
Сообразив, что, если людям Брюля удастся одолеть, наше положение станет еще хуже, я не последовал первоначальному решению – ждать конца на месте. Я воспользовался случаем и сошел сам так, что Симон тотчас же запер за мной дверь. Старшина в это время был занят спором с Френуа, который, с лицом, обезображенным раной, которую я нанес ему в Шизэ, и раскрасневшимся от злобы, казался теперь, при свете единственного факела, прямо отвратительным. В одном только этот негодяй выиграл от нового покровительства: он был разряжен прямо-таки с шутовской роскошью. Впрочем, в отношении платья я заметил, что как в нищенском рубище всегда можно узнать дворянина, так и лакей в самом роскошном наряде все же останется лакеем.
Увидев меня неожиданно возле самого старшины, он попятился назад. В его лице и во всем его виде произошла такая забавная перемена, что сам старшина на минуту смешался и оправился только тогда, когда я подошел к нему и, вежливо раскланявшись, объявил себя его пленником. Я добавил, что советую ему понаблюдать за единственным оставшимся факелом: ведь если и он погаснет, то в этой сумятице, притом в темноте, нам легко могут перерезать горла. Старшина принял мои слова к сведению и, подозвав к себе факельщика, приготовился сойти вниз, приказав предварительно Френуа и его людям, столпившимся на верхней площадке, дать нам дорогу и не шуметь.
Те, однако, вовсе не были склонны пропустить нас и отвечали на увещания и приказы старшины грубыми насмешками. Колеблясь между сознанием собственной важности и уважением к Брюлю, старшина был в недоумении, что ему делать. Он, казалось, скорее почувствовал облегчение, чем рассердился, когда я попросил разрешения сказать несколько слов Брюлю.
– Если вы в состоянии вразумить этого человека, – раздражительно ответил он, – так говорите с ним сколько вашей душе угодно.
Я отправился и, дойдя до площадки, где стоял Брюль, отвесил вежливый поклон. В ответ он завернулся поплотнее в плащ и обдал меня презрительным, пронизывающим взглядом, в котором сквозили и чувство торжества, и надежда на скорое мщение. Мне хотелось узнать, явился ли он сюда по следам своей жены или же просто прибыл для выполнения своих общих замыслов против меня. Я спросил его насмешливо, чему обязан удовольствием его видеть.
– Видите, – добавил я, – не могу остаться здесь долее, чтобы предложить вам гостеприимство, но за это уж вы должны благодарить вашего друга, господина Вилькье!
– Очень признателен вам, – ответил он с дьявольской усмешкой. – Но не печальтесь об этом. Когда вы уйдете, друг мой, я надеюсь расположиться здесь по своему вкусу.
– Да? Ну, это мы еще увидим, – спокойно возразил я, нисколько не смущаясь ни угрозой, ни низким намеком, заключавшимся в его словах.
Ожидая именно этого, я уже приготовил ответ. Затем, поднеся два пальца к губам, я пронзительно свистнул и дважды громко позвал Мэньяна. Мне не пришлось звать его в третий раз. Не успел старшина оправиться от изумления, как на лестнице послышались тяжелые шаги: Мэньян, быстро сбежав по ступенькам, очутился около Брюля; последний, узнав его, произнес проклятие и невольно попятился. Смелые, самоуверенные манеры Мэньяна всегда носили отпечаток силы и бодрости, но на этот раз во всем его поведении был какой-то оттенок удали, что не замедлило произвести впечатление на присутствующих. Когда он стоял здесь, уставившись глазами на Брюля, мрачно улыбаясь и небрежно играя своим кинжалом, он показался мне недюжинным противником: я подумал, что во всем Блуа трудно было найти равного ему по силе и хладнокровию. Он переводил взор с одного на другого, пока не остановил его на моей особе. Парень поклонился мне как-то особенно ретиво и даже с оттенком гасконского хвастовства, которое было тут очень кстати. Я знал, как обращался с ним Рони, и насколько мог постарался следовать его примеру.
– Мэньян! – сказал я резким, повелительным тоном. – Сегодня я буду ночевать в другом месте. Когда я уйду, позовите ваших людей и прикажите им стеречь эту дверь. Если кто-нибудь будет пытаться проникнуть сюда силой, исполняйте ваш долг.
– Можете положиться на меня: все будет исполнено.
– Даже в том случае, если сам господин де Брюль очутится здесь.
– Слушаюсь!
– Вы должны оставаться на часах до завтрашнего утра, если де Брюль будет оставаться здесь. Если же он уйдет, вы получите приказания от лиц во внутренних комнатах и должны их исполнить беспрекословно.
– Ваше сиятельство, можете быть вполне спокойны, – ответил Мэньян, продолжая играть кинжалом.
Отпустив его кивком головы, я с улыбкой обернулся, чтобы взглянуть на Брюля. Я увидел, что, в ярости от этого неожиданного препятствия и от обиды за нанесенное оскорбление, он казался таким опечаленным, как только можно было желать. Но мне не хотелось расставаться с ним, не сказав на прощание новой колкости.
– Итак, это дело улажено, де Брюль, – сказал я ему самым любезным тоном. – Теперь могу пожелать вам спокойной ночи. Вы наверно удостоите меня завтра вашим посещением в Шаверни. Но только раньше мы велим Мэньяну заглянуть под мост.
ГЛАВА VIII
Размышления
Не знаю презрение ли мое к Брюлю или высказанное мною предположение об исчезновении Вилькье подействовали на старшину-маршала, но только с той минуты, как мы вышли из моего дома, он относился ко мне с величайшей любезностью, позволил мне даже сохранить шпагу и приготовил особое помещение на ночь в караульне. Несмотря на поздний час, я не мог не отблагодарить его: я попросил у него позволения раздать немного денег лицам его свиты и пригласил его самого распить со мной бутылочку вина. Бутылочка немедленно была принесена за соответствующую плату, как это обыкновенно делается в подобных местах. Мы просидели за ней еще добрый час и разошлись вполне довольные друг другом.
Однако все треволнения дня, и в частности одно обстоятельство, на которое я раньше не обратил внимания, мешали мне спать больше, чем если бы меня поместили в самое душное и сырое из подземелий замка. Столько событий произошло в столь короткое время, что я не успел еще сообразить, куда же, наконец, стремлюсь и какая судьба ожидает меня. Поэтому, воспользовавшись удобной минутой, я постарался теперь возобновить в памяти все пережитое за этот день и почувствовал глубокое облегчение по поводу того, что все окончилось столь благополучно. Я питал полное доверие к Мэньяну и не сомневался, что Брюлю скоро надоест, если уже не надоело, продолжать бесполезную осаду. Самое большее через час (а теперь еще не было полуночи), королю будет предоставлена полная возможность спокойно отправиться домой: и поручение, возложенное на меня господином Рони, будет исполнено. Задача сообщить о решении его величества королю Наваррскому будет конечно возложена на Рамбулье или на кого-нибудь другого, равного ему по своему значению. Положим, ему же будет принадлежать вся честь за тот договор, который, как всем нам уже было известно, должен был наконец дать Франции продолжительный мир. Но сознание, что мне, такому ничтожеству, удалось оказать церкви и отечеству столь важную услугу, наполняло меня гордостью; и чувство это, как я с радостным трепетом впервые понял в эту ночь, доказывало, что в груди моей еще не совсем остыл юношеский пыл.
Помня, однако, предупреждение короля Наваррского не обращаться к нему за наградой, я был в недоумении относительно того, что же предстояло мне теперь. Все мои надежды основывались на обещании господина Рони позаботиться о моей судьбе. Утомленный придворной жизнью в Блуа, с ее кознями и всевозможными предательствами, я все-таки не знал еще, каким образом удастся мне снова переправиться через Луару, главным образом ввиду вражды, которую питал ко мне виконт Тюрен. Быть может, я еще больше раздумывал бы над этим обстоятельством, не явись у меня другая, еще более серьезная причина для тревоги и раздумья: это – странное поведение, капризы и причуды девицы де ля Вир.
Мне казалось, что я нашел ключ к уяснению загадки. К великому удивлению своему, но, признаться, и к удовольствию, я начал убеждаться, что единственное объяснение всему было то, которое приходило мне в голову уже раньше, при взгляде на лицо девушки, когда она металась между мной и королем. Перебирая в памяти все происшедшее с нашей встречи в передней Сен-Жана, я вспомнил насмешку, отпущенную на наш общий счет Матюриной. Мадемуазель, без сомнения, не забыла этой насмешки: отсюда ее враждебность и презрение ко мне, все эти жестокие слова и грубое обхождение со мной во время нашего путешествия. А это, вместе с природной ее гордостью, способствовало тому, что я составил себе о ней столь низкое мнение, в особенности когда сравнивал ее с моей уважаемой матерью. Но мне пришло в голову также, что насмешка Матюрины могла сослужить мне и известную службу, заставив мадемуазель помнить обо мне и внушив ей мысль, что ее судьба до известной степени связана с моей. Предположив это, мне уже не трудно, было объяснить себе ее поведение в Рони, когда она, убедившись, что я не предатель, и раскаиваясь в прежнем своем обращении, пыталась заглушить новое чувство, зашевелившееся в ее груди. Отсюда мне уже легко было уяснить себе и дальнейшее ее поведение в предполагаемом, конечно, смысле. Но, будучи уже в преклонных годах, с пробивающейся сединой, имея все лучшее в жизни позади, я никогда не осмеливался и мечтать о ней подобным образом. Человек бедный и сравнительно незнатного происхождения, я не смел и думать о богатейших владениях, которых, по слухам, она была обладательница. Далее теперь я чувствовал себя словно ослепленным той картиной, которая внезапно открывалась передо мной. Я лишь с трудом мог представить себе ее такой, какой видел в последний раз – с рукой на перевязи от раны, которую она получила, защищая меня. Не без волнения и даже боли я почувствовал, что ко мне как будто возвращается юность, с которой я уже покончил было счеты, а вместе с нею те радужные надежды и планы, которые по большей части посещают людей только однажды, в ранней молодости. До этой минуты я считал эти светлые надежды и мечты уделом других людей.
Нет ничего удивительного, что наступивший рассвет застал меня за такими приятными размышлениями, которые к тому же имели для меня всю прелесть новизны. В это утро небо было замечательно ясно и восход великолепен, принимая во внимание сравнительно позднее время года. И теперь, когда я вспоминаю это дивное утро, рука опускается и перо отказывается передать чувство сладостного восторга, охватившее мою душу при виде этого, собственно говоря, столь обычного явления природы. Я точно купался в ярких солнечных лучах, проникавших в мою комнату сквозь решетчатое окно, и с ненасытной жадностью вдыхал утреннюю свежесть, испытывая то стремление к Божеству и к добру, которое, по воле Создателя, часто пробуждается в нас в подобные минуты в юности, но которое мы редко испытываем впоследствии, когда время и жизненная борьба уже успеют притупить нашу впечатлительность. Я не дожил еще до того возраста, когда взвешивают предстоящие затруднения. Единственной печальной нотой в моем радостном чувстве было сожаление о том, что моей матери нет более в живых: она уже не может разделить со мной счастье, о котором так часто и с такой любовью мечтала. И я почувствовал, что стал как-то еще более связан с нею. С чувством глубокой нежности и любви вспомнил я последние ее слова, в особенности же последнюю просьбу насчет барышни. Я дал себе обет до отъезда посетить ее могилу и вспомнить там еще раз о той любви, которая освящала всех женщин в моих глазах.
Размышления мои были прерваны неожиданным обстоятельством, которое сначала хотя и не носило успокоительного характера, но окончилось благополучно и даже явилось до известной степени развлечением. В нижнем коридоре, вымощенном, как и все здание, камнем, на лестнице около моей комнаты послышалось легкое звяканье цепей. Каково же было мое изумление, когда дверь отворилась и вошел человек, в котором я тотчас узнал глухого Матфея, – того самого негодяя, которого видел в последний раз вместе с Френуа в доме на улице Валуа. Я в страхе вскочил с места: мне подумалось, что старшина-маршал подлым образом предал меня шайке Брюля. Но, разглядев, что человек этот был закован в цепи, я снова уселся, ожидая, что будет дальше. Оказалось, что он просто принес мне завтрак и сам был пленником. Но этот человек не узнавал или делал вид, что не узнает меня: я не мог заставить его говорить. Немного спустя меня навестил сам старшина. В знак завязавшейся с вечера дружбы он принес мне букет цветов, который я принял от него скорее из вежливости, чем с удовольствием. От него мне удалось узнать, каким образом этот негодяй очутился на его попечении. Оказалось, что Френуа, не любивший стеснять себя, взяв на свое попечение раненого, положил его в ночь нашей стычки у дверей больницы при одном из монастырей, расположенных в этой части города. Монахи приютили его, но прежде чем принять его к себе, предложили ему, по обычаю, несколько вопросов. Матфей отвечал вполне искренно. К несчастью для него, настоятель, случайно или по ошибке, начал неудачно.
– Вы, ведь, не гугенот, сын мой? – спросил он.
– Да, благодарение Господу! – простодушно ответил Матфей, полагая, что его спрашивают, католик ли он.
– Что?! – воскликнул смущенный поп. – Разве вы не верный сын церкви?
– Никогда! – отвечал наш глухой приятель, в полном убеждении, что все идет прекрасно.
– Так вы еретик? – воскликнул монах в исступлении.
– Аминь! – с самым невинным видом ответил Матфей, полагая, что это третий из вопросов, которые ему обыкновенно предлагали, когда он обращался куда-нибудь за помощью.
Неудивительно, что эти ответы вызвали негодование монахов: Матфей, несмотря на все уверения в своей глухоте, был передан страже старшины-маршала. На вопрос, каким образом он мог объясниться с ним, старшина ответил, что его маленькая дочь восьми лет почему-то привязалась к этому бродяге и ужасно любит разговаривать с ним при помощи придуманных ею самою знаков. Мне это показалось сперва странным, но в скором времени я убедился, что это так: и эта девочка распоряжалась бродягой полновластно. Когда староста ушел, снова послышалось звяканье цепей: вошел Матфей, чтобы взять у меня тарелку и миску, и очень удивил меня, заговорив со мной. Сохраняя прежний свой угрюмый вид и едва глядя на меня, он спросил отрывисто:
– Вы опять собираетесь ехать?
Я кивнул головой в знак согласия.
– А помните того лысого Гнедка, который упал тогда вместе с вами? – буркнул он, устремив мрачный взгляд в пол.
Я снова утвердительно кивнул головой.
– Хочу продать эту лошадь. Другой такой нет во всем Блуа, да и в самом Париже. Дотроньтесь только рукояткой хлыста до бедра – и она пустится, как из лука стрела. А так обычно на ней хоть ребенок может ездить. Теперь она в стойле, в третьем доме от «Трех Голубей», в переулке Аманси. Френуа не знает, где она. Он вчера присылал ко мне спрашивать, но я не сказал.
Искра человеческого чувства, мелькнувшая на его грубом, почти зверском лице, когда он заговорил о лошади, возбудила во мне желание узнать дальнейшие подробности. По счастью, как раз в эту минуту показалась в дверях и девочка, которая искала своего приятеля. От нее мне удалось узнать, что Матфей желает продать лошадь из опасения, как бы торговец, в чьем стойле она стояла, не присвоил ее себе в уплату за постой и прокорм. Я все-таки не мог понять, почему он обратился с этим предложением именно ко мне, и был польщен, когда узнал всю истину. Будучи совершенно нищим и бездомным, Матфей был привязан к Гнедку – единственному своему имуществу в последние шесть лет. Беспокоясь о судьбе Гнедка, он и решил сбыть его мне, полагая, что я буду хорошо обращаться с ним и не захочу воспользоваться беззащитностью хозяина, не заставлю его продешевить. Я согласился купить лошадь за 10 крон, заплатив, кроме того, за ее постой в конюшне. Мне хотелось также сделать что-нибудь для самого Матфея: меня тронула мысль, что и в нем оказалось человеческое чувство, а также то доверие, с которым он обратился ко мне. Но раздавшийся в эту минуту внизу лестницы шум отвлек мое внимание. Я услышал свое имя, повторенное кем-то несколько раз, и на время забыл все остальное.