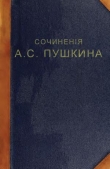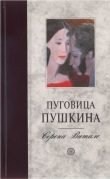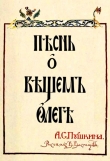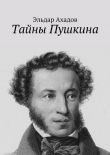Текст книги "Пушкин в 1836 году (Предыстория последней дуэли)"
Автор книги: Стелла Абрамович
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
В общем, все были возмущены таким подлым и беспричинным оскорблением; но, твердя, что поведение моей жены было безупречно, говорили, что поводом к этой низости было настойчивое ухаживание за нею г-на Дантеса.
Мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил сказать это г-ну Дантесу. Барон Геккерн приехал ко мне и принял вызов от имени г. Дантеса, прося у меня отсрочки на две недели.
Оказывается, что в этот промежуток времени г-н Дантес влюбился в мою свояченицу, мадемуазель Гончарову, и сделал ей предложение. Узнав об этом из толков в обществе, я поручил просить г-на д'Аршиака (секунданта г-на Дантеса), чтобы мой вызов рассматривался как не имевший места. Тем временем я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна, о чем считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества.
Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю.
Во всяком случае надеюсь, граф, что это письмо служит доказательством уважения и доверия, которые я к вам питаю.
С этими чувствами имею честь быть, граф, ваш нижайший и покорнейший слуга А. Пушкин.
21 ноября 1836 г.» (XVI, 191–192, 397–398). [309]309
В подлиннике стоит полная подпись: «Александр Пушкин» (ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 1756).
[Закрыть]
Написанное в тот момент, когда Пушкин твердо решил довести дело до поединка, это письмо поражает сдержанностью своего тона. В нем нет ни одного оскорбительного слова в адрес Геккернов, – только точное изложение фактов. Это очень обдуманный документ, которому сам поэт придавал какое-то чрезвычайно важное значение. Текст его тщательно отредактирован, переписан набело. Здесь нет ничего случайного. Все взвешено и все весомо. Внизу стоит полная подпись. Пушкин отвечает за каждое сказанное здесь слово.
В своем письме Пушкин кратко, но очень точно излагает всю ноябрьскую дуэльную историю с момента появления анонимных писем. Тем самым он дает отповедь распространившейся в свете клевете и раскрывает истинную роль Дантеса во всем этом деле.
Все это ни по сути, ни по тону на жалобу не похоже. Здесь есть только одна фраза, которая, вероятно, и послужила основанием для сложившейся гипотезы. Пушкин пишет: «… я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна…». Однако он не только ничем не подкрепляет это убийственное обвинение, но даже заявляет далее: «Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены <…> я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства». Так жалобы не пишут и в таком тоне не обращаются к верховной власти за содействием. Этот документ никакого официального хода получить не мог. Более того, если бы это письмо обычным путем попало к царю, оно бы навлекло на поэта серьезные неприятности.
Но Пушкин, как мы увидим, не собирался отправлять это письмо обычным путем. Когда он 21 ноября писал Бенкендорфу, что не требует ни правосудия, ни мщения, он утверждал это с полным чистосердечием. Это было его дело, и он намерен был разрешить его сам.
Зачем же он все-таки написал Бенкендорфу?
Н. Я. Эйдельман высказал предположение о том, что Пушкин хотел отправить оба письма одновременно и таким образом нанести Геккернам «двойной удар». А когда Жуковскому удалось остановить Пушкина и письмо к Геккерну было разорвано, поэт счел недостойным осведомлять власть обо всем, раз он не высказал свои обвинения прямо в лицо своему врагу. [310]310
Эйдельман И. Я.Десять автографов Пушкина…, с. 312.
[Закрыть]В своих этических оценках Н. Я. Эйдельман безусловно прав, но его гипотеза о «двойном ударе» не может быть признана убедительной.
Ведь если бы Пушкин отослал свое письмо к Геккерну, а вслед за ним – к Бенкендорфу, это, в сущности, означало бы, что он предупреждает шефа жандармов о предстоящей дуэли.
Представляется, что намерения Пушкина были иными. Его письмо, адресованное Бенкендорфу, имело особое назначение. Пушкин не намерен был отправлять его одновременно с первым. Он переписал его набело, скрепил своей подписью и приготовил к отправке. Но попасть к адресату оно должно было после дуэли. В этом был его смысл.
Если бы дуэль окончилась для Пушкина благополучно, это письмо послужило бы официальным объяснением делу (в нем все изложено со скрупулезной точностью). В случае несчастья ему предназначено было стать посмертным письмом.
Письмо было адресовано Бенкендорфу, но обращался в нем Пушкин и к царю, и – что еще важнее – к обществу («…считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества», – писал он). В этом и заключался его план: во что бы то ни стало довести до сведения общества правду. Предать дело гласности, чтобы обнаружить истину, – таково было назначение его второго письма.
Потом – в январе – так, собственно, все и произошло.
Приводя в порядок свои бумаги накануне дуэли, Пушкин вложил в конверт это письмо, написанное два месяца тому назад. Как сообщает П. И. Миллер, письмо к Бенкендорфу было найдено в бумагах Пушкина, «переписанное и вложенное в конверт для отсылки». [311]311
Записка П. И. Миллера о дуэли и смерти Пушкина опубликована С. В. Житомирской (см.: Наука и жизнь, 1972, № 8, с. 85) и Н. Я. Эйдельманом (Записки Отдела рукописей…, вып. 33, с. 315–316).
[Закрыть]А копию своего письма к Геккерну, как мы уже знаем, Пушкин имел при себе во время поединка. Он знал, что в случае его смерти на это письмо, лежащее в кармане сюртука, непременно обратят внимание.
Последняя воля Пушкина была исполнена его друзьями. После смерти поэта эти обличающие письма получили широкое распространение в списках. Русское общество услышало то, что хотел сказать Пушкин в защиту своей чести.
21 ноября, в один из самых черных дней своей жизни, когда Пушкин писал свое письмо, обращенное к правительству и обществу, он знал, что у него есть право обвинять, не приводя доказательств. Он намерен был поручиться за истинность здесь сказанного своей жизнью.
Письмо к Бенкендорфу – один из самых трагических документов преддуэльной истории. Но свидетельствует оно не о бессилии и отчаянии Пушкина, а о его несломленной гордости и силе духа.
23 НОЯБРЯ. АУДИЕНЦИЯ ВО ДВОРЦЕ
Через несколько дней, встретившись с Соллогубом у Карамзиных, Жуковский объявил ему, что дело он уладил и письмо к Геккерну послано не будет. Это было 24 ноября. [312]312
Пушкин в восп., т. 2, с. 304.
[Закрыть]
За истекшие дни произошло событие, которое оказало существенное влияние на ход всего дела: 23 ноября в четвертом часу пополудни поэт Александр Пушкин был принят императором Николаем I в его личном кабинете в Аничковом дворце.
Среди неясных моментов преддуэльной истории этот эпизод занимает особое место.
Об аудиенции, состоявшейся во дворце 23 ноября, стало известно из публикации П. Е. Щеголева только в 1928 г. [313]313
Щеголев П. Е.Царь, жандарм и поэт. Новое о дуэли Пушкина. – Огонек, 1928, № 24. Перепечатано в кн.: Щеголев П. Е.Из жизни и творчества Пушкина. М.—Л., 1931, с. 140 и след.
[Закрыть]До этого биографы о ней ничего не знали. Ни в одном из рассказов современников о ноябрьских событиях нет сведений об этом факте. Никто из близких Пушкину людей не обмолвился ни словом о приеме во дворце. Вяземский, правда, упомянул в разговоре с П. Бартеневым о некой беседе поэта с государем, состоявшейся в ноябре, но из контекста создавалось впечатление, что эта была какая-то случайная встреча. Не сохранилось также никаких свидетельств о том, что император кому-нибудь говорил об этой своей беседе с Пушкиным, между тем как об аудиенции 1826 г. он рассказывал многим. Вряд ли такое молчание было случайным.
До недавнего времени считалось, что Пушкин был вызван во дворец после того, как Николаю I стало известно письмо, которое поэт написал Бенкендорфу 21 ноября.
П. Е. Щеголев считал, что письмо было отослано, и после того как Бенкендорф доложил о нем царю, Пушкина тотчас же вызвали во дворец, чтобы предотвратить скандал и заставить его замолчать. Уверенный в том, что события развивались именно в такой последовательности, Щеголев полагал, что в личной беседе с государем Пушкин говорил о том же, о чем он только что известил правительство письменно. «Надо думать, – писал он, – что Пушкин осведомил царя о своих семейных обстоятельствах, о дипломе <…> и об Геккерне – авторе диплома. Результаты свидания? Они ясны. Пушкин был укрощен, был вынужден дать слово молчать о Геккерне». [314]314
Щеголев П. Е.Из жизни и творчества Пушкина, с. 146.
[Закрыть]Разговор этот, по мнению исследователя, состоялся в присутствии Бенкендорфа.
Основания для такого предположения у Щеголева были, однако его гипотеза оставила без объяснений целый ряд психологических несообразностей. В самом деле, если допустить, что разговор проходил именно так, это значит, что Пушкин оказался в нестерпимо унизительном положении, так как поведение его жены подверглось в его присутствии обсуждению императором и Бенкендорфом. Такой разговор, если бы он состоялся, был бы для поэта не менее оскорбителен, чем самый факт получения анонимных писем. В этом случае аудиенция не могла бы ни успокоить, ни тем более «укротить» Пушкина, особенно в том состоянии, в каком он был тогда.
В научно-популярных биографических работах, в том числе и наиболее удачных, можно прочесть самые неожиданные суждения об этой аудиенции. Например, по мнению Л. П. Гроссмана, беседа во дворце закончилась тем, что царь обещал поэту взять на себя расследование дела, «пока же связал его словом не прибегать к новой дуэли без „высочайшей“ санкции». [315]315
Гроссман Л.Пушкин. М., 1960, с. 487.
[Закрыть]Это звучит уж совсем странно: как будто возможно было получить у Николая I «санкцию» на дуэль!
Находка пушкинского автографа в составе бумаг П. И. Миллера многое прояснила. Теперь, зная, что письмо Пушкина в ноябре не дошло до властей, мы с полным основанием можем утверждать, что гипотеза Щеголева о причинах и целях аудиенции во дворце была ошибочной. Роль этого важного эпизода в преддуэльных событиях до сих пор остается неясной.
Аудиенция во дворце, несомненно, была связана с той острой ситуацией, которая возникла 21 ноября 1836 г.
Мы знаем, что дело уладилось благодаря вмешательству Жуковского. Но каким образом? Как уже говорилось, Жуковский в тот же вечер успел повидаться с Пушкиным и приостановил отправку письма. Дальнейший ход событий можно восстановить только гипотетически.
По-видимому, Жуковский понимал, что ему удалось лишь на какое-то время отсрочить дуэль. Видя, в каком состоянии находится Пушкин, он ни в чем не мог быть уверен. Все средства им уже были исчерпаны. Вот почему Жуковский решил прибегнуть к крайним мерам: он обратился к императору с просьбой вмешаться и предотвратить трагический исход событий. Судя по всему, что нам в настоящее время известно, инициатором аудиенции и был Жуковский.
Это предположение было высказано Эйдельманом сразу же после того, как он ознакомился с автографом пушкинского письма к Бенкендорфу и заметками Миллера. С его мнением согласилась Я. Л. Левкович. [316]316
См.: Левкович Я. Л.Документальная литература о Пушкине (1966–1971 гг.). – Врем. ПК. 1971, с. 58–59.
[Закрыть]
Но если аудиенция состоялась по просьбе Жуковского, то и роль ее в дуэльной истории, очевидно, была совсем иной, чем это представлялось до сих пор…
Разговор Жуковского с Николаем I, по-видимому, состоялся в воскресенье, 22 ноября.
Правда, на первый взгляд может показаться, что данные камер-фурьерского журнала за 22 ноября 1836 г. опровергают это предположение. Среди тех, кто посетил дворец в этот день, имя действительного статского советника Жуковского не значится. Однако при внимательном чтении камер-фурьерских журналов можно убедиться, что в них не фиксировались беседы и встречи высочайших особ, не предусмотренные церемониалом и официальным распорядком дня, носившие, так сказать, частный характер. Разговор воспитателя наследника с императором в кулуарах дворца вовсе не обязательно должен был отразиться в журнале высочайшего двора. [317]317
Таких фактов можно указать множество. Вот, например, один из них. Мы знаем точно, что 28 января 1837 г. в 10 часов утра Жуковский был в кабинете царя и беседовал с ним о Пушкине (см.: Пушкин в восп., т. 2, с. 357 и 349). Но в камер-фурьерском журнале, в записях за 28 января, имя Жуковского не упоминается (ЦГИА, ф. 516, оп. 1 (120/2322), ед. хр. 125).
[Закрыть]
Заговорив 22 ноября с императором о деле Пушкина, Жуковский, очевидно, рассказал ему о только что предотвращенной дуэли. До сих пор он считал долгом чести хранить тайну вызова и требовал того же от самого поэта и от всех его друзей. [318]318
См. письмо Жуковского Пушкину (XVI, № 1286, с. 185–186).
[Закрыть]Но теперь, когда жизнь Пушкина снова оказалась под угрозой, когда Жуковский увидел, к чему привело молчание, он вынужден был нарушить свое слово.
Зная щепетильность Жуковского, зная, с каким тактом он вел себя в продолжение всей ноябрьской истории, можно с большой долей вероятности предположить, что и на этот раз он сказал только то, чего нельзя было не сказать. Он наверняка сообщил об анонимных письмах (о чем все знали) и о последовавшем затем вызове Пушкина (что было для императора совершенно неожиданной новостью). И конечно же, в разговоре с царем он должен был сделать упор на то, что Пушкин сам взял назад свой вызов, когда узнал о намерении Дантеса посвататься к Екатерине Гончаровой.
Излагая государю дело таким, каким оно было в действительности, Жуковский противопоставлял истину тем сплетням, которые уже широко распространились в обществе. Жуковский мог рассчитывать, что если царь узнает правду, это настроит его в пользу Пушкина.
В заключение Жуковский должен был сказать о том, что история может вот-вот возобновиться, так как в свете, где ничего не знают о причинах помолвки Дантеса, снова распространяются оскорбительные для Пушкина слухи. Жуковский мог просить государя вмешаться, остановить Пушкина царским словом.
Предположение о том, что 22 ноября Жуковский сообщил царю о несостоявшемся поединке, находит косвенное подтверждение в письмах императрицы и ее ближайшей подруги графини Бобринской.
Известное письмо императрицы к Бобринской от 23 ноября («Со вчерашнего дня для меня все стало ясно с женитьбой Дантеса, но это секрет») [319]319
Впервые опубликовано Э. Г. Герштейн (см.: Новый мир, 1962, № 2, с. 213), затем, с некоторыми уточнениями, М. И. Яшиным (см.: Звезда, 1963, № 9, с. 168; перевод с франц.).
[Закрыть]комментаторы до сих пор ошибочно связывали с письмом Пушкина к Бенкендорфу, о котором будто бы стало известно во дворце в эти дни. Но, по всей вероятности, записка императрицы является прямым откликом на разговор Жуковского с государем, состоявшийся 22 ноября. Конечно, сообщение о том, что неожиданное сватовство Дантеса было связано с вызовом, полученным от Пушкина, бросало новый свет на все это дело. Но, по-видимому, Жуковский, доверив императору тайну отмененного поединка, просил не разглашать ее, поэтому Александра Федоровна и пишет: «Но это секрет». Надо полагать, что она все же раскрыла его своей ближайшей подруге при личной встрече.
В недавно опубликованном письме Бобринской к мужу от 25 ноября чувствуются отзвуки тех сведений, которые она получила от императрицы. Письмо целиком посвящено главной сенсации дня – женитьбе Дантеса, и, как справедливо отмечает Н. Б. Востокова, опубликовавшая материалы из архива Бобринских, это письмо с подтекстом. В нем Софья Александровна высказала далеко не все, что знала (она ведь тоже обещала хранить «секрет»!).
Вспомним начало этого письма. «Никогда еще, с тех пор как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных, – пишет графиня С. А. Бобринская. – Геккерн-Дантес женится! Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустую молву <…> Он женится на старшей Гончаровой, некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы, жены Пушкина. Если ты будешь меня расспрашивать, я тебе отвечу, что ничем другим я вот уже целую неделю не занимаюсь, и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-либо в ней понимаю». [320]320
Прометей, т. 10. М., 1974, с. 266.
[Закрыть]
Судя по всему, Софья Александровна знает обе версии: идущую от Жуковского – о вынужденном сватовстве с целью избежать поединка, и сказку Геккерна – о самопожертвовании Дантеса для спасения чести H. H. Пушкиной. [321]321
О роли сплетни, исходившей от Геккернов, подробно писала Анна Ахматова (см.: Ахматова Анна.О Пушкине. Л, 1977, с. 111–118). См. также мою статью «К истории дуэли Пушкина» (Нева, 1974, № 5, с. 194).
[Закрыть]Эти версии взаимно исключают друг друга, н графиня Бобринская, видимо, не может поверить до конца ни одной из них.
А далее в письме появляется интонация, которой мы не слышали еще ни в одном из откликов тех дней. «Это какая-то тайна любви, героического самопожертвования, – продолжает Бобринская, – это Жюль Жанен, это Бальзак, это Виктор Гюго. Это литература наших дней. Это возвышенно и смехотворно». Здесь ощущается ирония: «самопожертвование» под дулом пистолета представляется ей не столь уж героическим.
Затем, описав двусмысленное положение, в котором очутились Пушкин и его жена, а также молодой человек и невеста, Бобринская уже иным тоном, серьезно, но чрезвычайно кратко – явно о многом умалчивая – сообщает: «Анонимные письма самого гнусного характера обрушились на Пушкина. Все остальное – месть <…> Посмотрим, допустят ли небеса столько жертв ради одного отомщенного!». [322]322
Прометей, т. 10, с. 266–268.
[Закрыть]
Итак, с точки зрения Бобринской, помолвка – следствие мести Пушкина (т. е. вызова, угрозы поединка). Об этом она говорит намеками, не чувствуя себя вправо высказаться прямо. Бобринская в своем письме делает такой акцент на теме отмщенья именно потому, что ей уже стал известен от императрицы «секрет», сообщенный Жуковским.
Пушкин был на приеме в Аничковом дворце в понедельник 23 ноября в четвертом часу дня. В камер-фурьерском журнале об этом сказано так: «По возвращении (с прогулки, – С. А.)его величество принимал генерал-адъютанта графа Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина». [323]323
ЦГИА, ф.516, оп. 1 (120/2322), ед. хр. 123, л. 75 об.
[Закрыть]До сих пор считалось, что разговор императора с Пушкиным состоялся в неурочное время и что эта аудиенция будто бы нарушила обычный распорядок дня Николая I.
Но на самом деле ничего подобного не произошло. Время после прогулки было самым удобным для такой беседы и, конечно, было назначено заранее. Утром император работал с министрами, а вечером – после обеда – обычно не занимался делами и лишь иногда принимал тех, кто принадлежал к узкому кругу особо приближенных к нему лиц. Время после прогулки было наименее регламентированным, оно отводилось для «разных» дел. Кстати, именно в эти часы Николай I нередко принимал начальника III отделения Бенкендорфа (в частности, в интересующий нас период Бенкендорф был с докладом у императора после трех часов дня 16, 23 и 26 ноября).
23 ноября после трех часов император принял Бенкендорфа и Пушкина.
Вместе или порознь? Запись в камер-фурьерском журнале не дает ответа на этот вопрос. Но теперь, когда мы знаем, что шеф жандармов прямого отношения к этой аудиенции не имел, есть все основания усомниться, присутствовал ли он при этой беседе. Судя по тому, что в этот день утром начальник III отделения еще не был с докладом у государя, можно думать, что сначала царь принял Бенкендорфа, а потом Пушкина. Тот разговор, ради которого Пушкин был приглашен во дворец, уместнее было вести с ним наедине.
Конечно, беседа Пушкина с царем, состоявшаяся 23 ноября, была событием из ряда вон выходящим. Но необычным во всем этом было не время визита, а самый характер аудиенции, нарушавший прочно установившиеся при Николае I нормы придворной жизни. В эти годы на прием к государю можно было попасть либо по службе, либо в особых случаях, строго обусловленных этикетом: во дворец являлись представляться, благодарить, откланиваться. Личные аудиенции, не носившие церемониального характера, были явлением чрезвычайным, О просьбах и прошениях Николаю I докладывали министры или люди, приближенные к нему. Правда, император нередко вмешивался в интимные и семейные дела тех, кто принадлежал к придворному кругу, но все подобные истории разыгрывались где-то за кулисами, а не на парадной сцене, не в официальной обстановке.
С Пушкиным все обстояло иначе. Личные контакты поэта с царем всегда оказывались вне общепринятой субординации. Так получилось и на этот раз. Решить дело Пушкина «по-отечески», как это принято было со своими, царь не мог. Пришлось назначать официальную аудиенцию и приглашать поэта в свой кабинет.
Для того чтобы составить себе хоть некоторое представление о сути разговора, происходившего 23 ноября в Аничковом дворце, нужно прежде всего отказаться от ложных версий, которые уводят нас в сторону от того, что было в действительности.
Так явно ошибочным оказалось предположение о том, что Пушкин во время встречи с императором выступил с обвинениями против Геккерна и назвал его автором анонимных писем. [324]324
Первым выразил сомнение в справедливости этого предположения Н. Я. Эйдельман, обратив внимание на этическую сторону дела. По его мнению, Пушкин счел недостойным осведомлять о своих подозрениях – правительство, раз он не высказал все в лицо своему врагу (ведь письмо к Геккерну не было отослано!). См.: Эйдельман Н. Я.Десять автографов Пушкина… с. 312.
[Закрыть]О том, что это не было сказано 23 ноября, мы знаем от самого Пушкина. В своем январском письме, напоминая о том, что он решительно потребовал от Геккернов, чтобы они прекратили какие бы то ни было отношения с его семьей, Пушкин писал: «Только на этом условии согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение» (XVI, 427). Теперь, когда вся история несколько прояснилась, стали понятнее и эти его слова. Значит, во время аудиенции, когда он имел единственную в своем роде возможность откровенно говорить с императором, Пушкин не сказал ничего бесчестящего посланника. Сомневаться в искренности того, что он писал в этом последнем письме к Геккерну, нет никаких оснований.
Гораздо труднее выявить, что же было сказано во время этой аудиенции.
Сохранилось несколько отрывочных и очень неясных упоминаний о каком-то разговоре царя с поэтом, имеющем отношение к дуэльной истории. Все они идут из круга друзей Пушкина, но известны по большей части в чьем-либо пересказе. Остановимся прежде всего на рассказе Вяземского, дошедшем до нас в передаче Бартенева. Бартенев трижды по разным поводам пересказывал одно и то же сообщение Вяземского, основываясь на записи, сделанной в 1850-х годах. Текст при этом несколько варьировался, но суть его оставалась неизменной. И во всех случаях Бартенев определенно указывал, что речь идет о разговоре, происходившем в ноябре 1836 г.
В 1865 г., в примечаниях к воспоминаниям В. Соллогуба, Бартенев упомянул, ссылаясь на Вяземского, что Пушкин «в течение двухнедельного срока <…> имел случай видеться с государем и дал ему слово ничего не начинать, не предуведомив его». [325]325
Русский архив, 1865, № 5–6, стб. 765.
[Закрыть]Здесь Бартенев относит разговор с государем к периоду двухнедельной отсрочки, данной Пушкиным Геккерну (к 4–17 ноября).
В 1888 г. Бартенев опубликовал это сообщение среди других воспоминаний Вяземских о Пушкине, причем поместил его после рассказа о сватовстве Дантеса. Теперь этот эпизод был изложен Бартеневым так: «После этого (т. е. после помолвки, – С. А.)государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед». [326]326
Там же, 1888, № 7, с. 308.
[Закрыть]
И наконец, в 1902 г., говоря о письме к Бенкендорфу, Бартенев прокомментировал его, опираясь на тот же рассказ Вяземского: «Пушкин написал его, исполняя обещание, данное в ноябре 1836 года государю, уведомить его (чрез гр. Бенкендорфа), если ссора с Дантесом возобновится». [327]327
Там же, 1902, № 10, с. 235.
[Закрыть]
Бартенев твердо запомнил, что дело происходило в ноябре и было связано с ноябрьской дуэлью, но когда именно состоялся разговор с государем – он не знал. Не знал он также и того, что это было во дворце, в кабинете императора.
Во всех трех вариантах рассказа просвечивает один и тот же текст: во время этой встречи Пушкин дал слово государю… Но что именно он обещал – из записей Бартенева остается неясным. Нельзя же в самом деле считать вероятным, что Пушкин обещал поставить в известность царя о предстоящей дуэли!
Все разъяснилось, когда стало известным письмо Е. А. Карамзиной от 2 февраля 1837 г. Сообщая сыну о последних часах Пушкина, она писала: «После истории со своей первой дуэлью П<ушкин> обещал государю больше не драться ни под каким предлогом, и теперь, когда он был смертельно ранен, он послал доброго Жуков<ского> просить прощения у гос<ударя> в том, что он не сдержал слова». [328]328
Письма Карамзиных, с. 170.
[Закрыть]Нет сомнения в том, что Карамзина узнала обо всем от наиболее осведомленного в этом деле человека – от самого Жуковского. В письме Карамзиной содержатся наиболее достоверные сведения о ноябрьской беседе поэта с царем. Екатерина Андреевна, очевидно, знала об аудиенции: она совершенно точно называет время беседы: после первой дуэли. И конечно, вполне точно передает смысл того обещания, которое дал Пушкин 23 ноября: не драться ни под каким предлогом…
В связи с этим и запись Бартенева, после того как стало возможным скорректировать и уточнить ее при помощи другого документа, тоже приобрела значение весьма ценного свидетельства. Она дополняет сообщение Карамзиной. Во всех трех редакциях этой записи почти дословно повторяется одно и то же: упоминание о том, что Пушкин обещал уведомить государя, если история возобновится (в другом варианте: «если ссора с Дантесом возобновится…»).
Итак, царь взял с Пушкина обещание: не драться ни под каким предлогом, но если история возобновится, обратиться к нему. Значит, Николай I заверил Пушкина, что он лично вмешается в его дело…
Вот то немногое, что нам известно об аудиенции 23 ноября из достоверных источников.
Что-то знала от Пушкина о его беседе с царем Евпраксия Николаевна Вульф (тогда уже баронесса Вревская). Но ее рассказы об этом были записаны М. И. Семевским в 1860-е годы. За тридцать лет, протекшие с того времени, в ее памяти многое спуталось. Вревская, в частности, рассказывала, что Пушкин говорил ей накануне дуэли: «Император, которому известно все мое дело, обещал мне взять их (детей, – С. А.)под свое покровительство». [329]329
Русский вестник, 1869, № 11, с. 90–91.
[Закрыть]Слова об обещании Николая I позаботиться о детях, по всей вероятности, возникли в воображении Евпраксии Николаевны позднее – под влиянием многократно слышанных ею разговоров о «милостях», оказанных Николаем I детям поэта. Но в ее рассказе, кажется, звучит одна живая пушкинская фраза: «Императору <…> известно все мое дело…». Вот слова, которые она, вероятно, слышала от самого поэта: на эту тему толков в обществе не было никаких, а придумать это она вряд ли решилась бы.
Свидетельства Соллогуба, Карамзиной, Вяземского, Вревской, взятые в совокупности, убеждают нас прежде всего в том, что царь наблюдал за делом Пушкина с более близкой дистанции, чем это предполагалось до сих пор. О ноябрьской истории с Дантесом он узнал, вероятнее всего, не по официальным каналам, не из доклада Бенкендорфа, а со слов друга Пушкина – Жуковского. Получилось так, что император был вовлечен в это дело и принял в нем личное участие. С 22 ноября он знал не только о внешнем ходе событий, но и о том, что жизнь Пушкина под угрозой.
Реконструировать ход беседы поэта с царем на основании тех скудных сведений, которые нам известны, не представляется возможным. В данном случае допустимы лишь самые осторожные предположения.
Так как аудиенция закончилась благополучно, надо думать, что Николай I проявил определенную гибкость в этом разговоре. В тот момент, когда Пушкин был готов на все, повеление императора не могло бы его остановить. Должно было быть сказано что-то такое, что как-то разрядило бы напряженность. По-видимому, царь заверил Пушкина, что репутация Натальи Николаевны безупречна в его глазах и в мнении общества и, следовательно, никакого серьезного повода для вызова не существует. Это, кстати, император мог сказать с полной убежденностью, так как и после дуэли писал брату, что жена поэта была во всем совершенно невинна. Если нечто подобное было сказано 23 ноября, то это было для Пушкина очень важно.
Можно также предположить, что в этом разговоре не были затронуты подробности его семейных обстоятельств. Скорее всего царь, сославшись на Жуковского, сказал Пушкину, что знает все дело. А то, что правда о его ноябрьской истории с Дантесом стала известна, должно было иметь для Пушкина очень серьезное значение. Он мог надеяться, что теперь клевете будет противопоставлена истина.
В заключение Николай I, вероятно, прибег к формуле, уже знакомой нам по его прежним переговорам с поэтом: «Я твоему слову верю… обещай мне…». И Пушкин дал слово не доводить дело до дуэли. Вероятно, в тот момент, как и прежде в подобных ситуациях, он был искренен. Еще раз возникла иллюзия о справедливости, исходящей от царя. Император знал правду, и Пушкин мог рассчитывать, что мнение царя будет противостоять клевете. У него появилась надежда на то, что он все-таки сможет с достоинством выйти из создавшегося положения. На какое-то время это могло служить ему поддержкой.
Ближайшие результаты аудиенции, судя по всему, что нам известно, были благоприятными. Жуковский, видимо, твердо полагался на слово, данное Пушкиным. Угроза дуэли, казалось, была устранена.
О других, далеко идущих последствиях разговора с царем речь пойдет ниже.