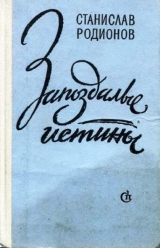
Текст книги "Цветы на окнах"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
13
Жизнь на глазах людей стала Рябинина тяготить.
Ел под насторожённым вниманием милиционера-повара, самострадающего от своих пересолов и переваров. Просыпался от взгляда Леденцова, немигающего, тоже рыжего, как и его шевелюра, – просто так ли он смотрел, опыт ли психологический ставил… Писал дневник, закрываясь плечом от любопытствующего Петельникова. Размышлял под надзорным интересом инспектора Фомина, который удивлялся, почему следователь полчаса сидит на раскладушке и ничего не делает; Рябинин не мог думать, когда на него смотрели, – ему казалось, что ловимая им мысль просвечивает.
Рябинин нахлобучил шляпу и выскочил на улицу. Там, остуженный осенью, он догадался, что слегка лицемерит, – не товарищи его тяготили, а Слежевский притягивал. Но какой силой? Рябинин усмехнулся – чаем. И тут он лицемерил. Слегка.
Куриные ножки у избы не выросли. И чёрный кот не сел у порога. Время, тут поселилось недвижное время…
Рябинин вошёл, как всегда, насторожённо. Слежевский шагнул к плите и переставил чайник. Тот загудел сразу, будто тоже ждал следователя.
– Говорят, чай нужно пить не из чашек, – сказал Рябинин, раздеваясь.
– А из чего?
– Из пиал.
– Какая разница.
– Говорят, вкусней…
Рябинин достал из кармана две пачки цейлонского чая и выложил на пока голый стол. Слежевский глянул на них равнодушно, снедаемый своими мыслями. Ели вопросы и Рябинина, поэтому он спросил прямо:
– Олег Семёнович, выходит, что с женой вы жили не так уж и хорошо?
– Кто вам сказал?
– Вы.
– Когда же?
– По вашей теории неравномерная любовь чревата. И вы назвали жену самодержцем. А это уж…
– Да, – подтвердил Слежевский вроде бы довольно.
И взялся за чай – приспело его время, как и время долгого разговора. Они сидели молча, выжидая, когда чашки остудятся до возможности прикоснуться к ним губами.
– Сколько написано книг, как любовь приходит… – обронил Слежевский глухо, будто утопил слова в чашке.
– Написано, – подтвердил следователь.
– А как уходит? Приходит она примитивно, сразу. Как у меня. А уходит-то ох как долго и сложно. Вроде рака со смертельным исходом.
– Неужели вы свою любовь не уберегли? – грустно удивился Рябинин, помнивший его жаркие слова.
– Потому что не законсервировал.
– Не совсем понял, – совсем не понял Рябинин.
– Любовь надо консервировать, – почти обрадовался Слежевский тому, что следователь этого не знает.
– Как консервировать?
– А спросите у хозяек, чем они сохраняют фрукты да ягоды. Сахаром, солью, уксусом…
– Любовь не фрукты, – неопределённо заметил Рябинин, так и не уловив его мысли.
– Любовь надо остановить, как время.
– Время пока ещё не останавливали…
– Расстаться. Чтобы сохранить любовь на всю жизнь, надо расстаться с любимым. Разлука вместо соли и уксуса. А если жить вместе, то любовь уйдёт, поверьте мне…
Поверить этому Рябинин не мог, потому что прожил с женой почти два десятка лет. Но ему была известна странная нелепица, о которой говорил Олег Семёнович: надо потерять, чтобы сохранить; отнятая любовь остаётся в душе вечной памятью, сохранённую любовь разъедает время.
– Есть женщины, которые живут без мужей, растят ребёнка, сами зарабатывают. И поэтому считают, что должны быть грубыми, дерзкими, сильными…
– Такой была ваша жена?
– Такой, – усмехнулся Слежевский. – Только прибавьте, что она руководила коллективом, вела в посёлке общественную работу и от природы имела боксёрский характер.
– Хотите сказать, что она руководила и семьёй?
– Руководила? – удивился Слежевский столь неточному слову. – Она сделала проще: подменила семейные отношения производственными. Командовала нами, как хороший директор.
– Может быть, это и неплохо, – подумал вслух Рябинин, сомневаясь в придуманном.
– Почему? – Слежевский спросил зло, разглядывая следователя поверх чашки.
– Порядок был…
– Порядок был. За счёт жизни. Мы обедали молча. Шли в кино молча. Спать ложились молча. Жили в рыбьем царстве. Почему? Потому что она работала. Была деятельной. Энергичной, чёрт возьми!
Он почти бросил чашку на стол – жёлтые брызги медовым веером окропили столешницу. Притихший Рябинин ждал, не понимая, почему её энергия вызывала немоту в семье.
– Человеческие отношения стали нам не нужны. Вместо них работа. Мы говорили только о делах. А обед, кино, любовь – это не дела. Чего же говорить?
– Вы что-то ей… объясняли?
– Что? Что семья не народная дружина, в которой она дежурит? Что нельзя человеческие отношения заменить работой? Что иногда неплохо бы и улыбнуться?
– И всё-таки говорили ей всё это?
– Она слушала, пробовала перемениться. И как, думаете? Работой. Вкусней готовила обед, рьянее убирала дом, чаще стирала… Всё это с лицом коменданта, у которого не хватило простыней. Тогда я смекнул – не может она иначе. Два мужика в семье, два.
Он перевёл дух. Вздохнул и Рябинин, хотя ничего не говорил, не запыхался и пребывал тут с единственной целью – отдохнуть. Почему же он устаёт в этой избушке сильнее, чем в шумном клубе?
– Как вас звать? – спросил вдруг Слежевский.
– Сергей Георгиевич.
– Мне не хватало… как бы сказать… её слабости. Дурь, Сергей Георгиевич?
– Нет, не дурь.
О женской слабости Рябинин думал не раз.
Сквозь путаную ткань любого уголовного преступления виделся, явно или затененно, лик женщины. Она любила или не любила, воспитывала или не воспитывала, облагораживала или не облагораживала… Она могла подвигнуть к вершине, но могла толкнуть и к яме. Поэтому Рябинину приходилось думать о женской силе и слабости.
Его отпугивала женщина, наделённая силой и энергией, Чем она отличается от мужчины – только биологией? Его смущала женщина безропотная, сколь бы ни была она красива и хороша. Что толку в её красоте, ничем не защищённой и ничего не несущей?
Но были женщины прекрасные, которых он полюбил бы всех, сколько их ни будь; женщины, в душах которых слилась беззащитность с высокими идеалами; женщины трепетные, где простота соприкасаема с мечтами, робость с гордостью, уступчивость с требовательностью; женщины, слабость которых защищена этими высокими идеалами…
Но, может быть, такие женщины и есть самые сильные?
– Вот вам ещё одно доказательство, что бога нет, – усмехнулся Слежевский далёкой усмешкой, путешествуя по каким-то закоулкам прошлого, – Зачем он соединил таких разных людей?
– Ну, а дальше? – Рябинина сейчас интересовал не бог.
– Я заметался, как запертый в квартире пёс.
– Почему заметались?
– От одиночества. Прожил несколько лет с человеком, вроде бы привык, вроде бы не чужой… А человек-то чужой. У' меня возникло странное чувство… Будто бы она уехала. Анна уехала, и вместо неё живёт какая-то женщина. А я скучаю по Анне. Представляете, скучаю по женщине, которая рядом?
Он смотрел удивлёнными глазами, определяя, удивляется ли следователь. Рябинин нетерпеливо ждал.
– И мне захотелось уехать, – почти выдохнул Слежевский.
– Куда?
– К Анне.
– Она ведь рядом.
– Я говорил… Мне казалось, что она уехала. Мне захотелось уехать от неё к ней. А?
– Дальше.
– Вы знаете, Сергей Георгиевич, что между любовью и ненавистью есть какая-то непонятная связь?
– Нет такой связи.
– Есть, есть. Её корни в инстинкте. Хищник ловит жертву свирепо. А потом играет с ней нежно. Перепад от ненависти к любви. Отсюда вышли и человеческие отношения. Вот почему любовь переходит в ненависть и наоборот.
– У вас… перешла? – Рябинина теперь интересовала не его философия, а ход его отношений с женой.
– Мы ненавидели друг друга много лет совместной жизни.
– Это в чём-то выражалось?
– В ежедневных скандалах самого вульгарного свойства.
– Ну, а дети? – вспомнил Рябинин, потому что Слежевский ничего о них не говорил.
– Дети? Младший разбил тарелку – восемнадцатилетний парень получает от матери оплеуху. Старший привёл девушку в гости – Анна её выгнала. А уж про свои муки и не говорю.
– Но ведь они дали показания…
– Я попросил: «Ребята, если скажете про скандалы, то меня заподозрят в убийстве…»
– А соседи, знакомые?..
Сергей Георгиевич; от людей наши собачьи отношения она скрывала с ловкостью хорошего шпиона. Ласкова со мной, заботлива, любяща…
– И никто не знал?
– Никто.
Сосновые бревёнца с травами поглотили его голос. В избушку ступила глухая тишина – лишь дрова потрескивали в плите. Забытый чай давно остыл. Бледный Слежевский пристально глядел в стол, пытаясь вычитать что-то для себя в его древесном узоре.
Сколько Рябинин выслушал за свою следственную работу семейных историй – сто, двести? Все разные, все интересные… Но чем-то похожие, как битые автомобили на свалке. Счастливые семьи к следователям не попадают. Но эти сто, эти двести… Он был убеждён, что семья жива поэзией. Как, впрочем, и человечество. Пропади поэзия, и семья опускается до уровня производства-потребления. Как и человечество.
– Вы не любили её, – сказал Рябинин.
– Она меня не любила.
– И она вас.
14
Рябинин давно пришёл, может быть, к главной своей заповеди: чаще всего ошибается тот следователь, который не верит людям. Их работа держалась на правдивых свидетелях, как дом на гранитном фундаменте. И стоило следователю из-за одного нечестного усомниться в честности всех, как он ступал на зыбкую почву непознаваемости, – тогда его ум, работоспособность и умение, какое бы они стройное здание ни воздвигли, крутились впустую; тогда все его версии, сколь бы они ни были остроумны и отработанны, рассыпались прахом. Следственная работа была частью жизни, а жизнь, несмотря на все её зигзаги, держалась в конечном счёте на честности.
Но ни один свидетель Рябинина не обманул – они лишь ошибались. Ни единого свидетеля Рябинин не заподозрил в нечестности – они лишь ошибались. И всё-таки десять дней работы прошли впустую…
Под окнами клуба зарычали машины – оперативная группа во главе с Петельниковым вернулась с задания. Брали Мелентьевну.
Первым в комнату следователя вошёл Фомин со странно отрешённым лицом, как бы показывая, что факт его появления ничего не значит. Вторым вошёл Петельников – на лице старшего инспектора розовело редкое для него смущение. Третьей вошла Мелентьевна – согбенная, маленькая старушка лет семидесяти, запелёнутая в платки и платочки. Она встала меж высоким Петельниковым и широким Фоминым, как горелый пень меж дубов. Рябинин улыбнулся.
Инспектора заботливо укрепили её на стуле и было пошли, но Рябинин их не отпустил. Позабыв про формальности, он спросил почти весело:
– Бабушка, убивала?
– Не, сынок, не убивала, – захихикала Мелентьевна. – Но ждала, что вы меня заграбастаете.
– Почему ждала?
– Так ведь Анька-покойница всем говорила, что я её угроблю.
– А почему она так говорила?
– Леший её знает.
– Почему подозревала именно вас?
– Мы, старики, народ невзаправдашний. На нас можно и напраслину.
– Какие у вас были отношения?
– Жили с ней, как два голубка между собой.
– Странно. И она вас считала будущей убийцей…
Инспектора даже не сели, а хмуро прислонились к стене, разглядывая чудеса природы. Они не сомневались, что этот разговор сейчас иссякнет. Старушка их не интересовала – инспектора знали, как ведут себя задержанные убийцы.
– Правда, пробегла меж нами чёрная кошка. Из-за помойки. Я ей сказала: если не будем выносить вёдра, то родители всех нас убьют.
– А Слежевская что?
– После этого и запустила слушок, что якобы я её будущая убивца.
– Бабушка, неужели вы с ней не объяснились на эту тему?
– Был разговор. Спросила её, мол, какая же я убивца… Говорит, прости, Мелентьевна. Но убьют меня по голове, и ты приходи помянуть душу мою.
– Откуда же она знала, что её убьют?
– Видать, ей ангел шепнул. Но сомнений у неё не было ни грамма. Убьют, говорит, скоро, и прям-то по голове.
Рябинин поёжился – не от холодного окна, не от ветра, свободно гулявшего по клубу, – поёжился от новой заботы. Убийцу они найдут… А вот узнают ли, как постигла Анна Слежевская свою последнюю минуту с такой определённостью?
Он составил короткий протокол и поблагодарил старушку за помощь.
– А у меня тоже вопросик, – засуетилась Мелентьевна.
– Да…
– Где б мне достать палочку дрожжей?
– Они помогут. – Рябинин кивнул на инспекторов, мстя им за выгодное равнодушие.
– Фомин, отвези гражданку в город, – велел Петельников.
– А дрожжи у него? – забеспокоилась Мелентьевна, заматываясь в платки.
– У него, у него, – заверил Рябинин.
Фомин вышел с озадаченным лицом и повёл старушку к повару.
Петельников лениво обошёл экспонаты. Его тоже привлёк леший, отплясывающий на моховой кочке. Потом инспектор стал приглядываться к чурке с глазами и зубами.
– Что будешь делать? – спросил Рябинин.
– Ничего.
– Как ничего?
– Ты же ничего не делаешь…
– Как это ничего не делаю? – фальшиво удивился Рябинин.
– Сергей, я знаю, как ты умеешь работать.
– Версии кончились, Вадим…
– Наша работа – коллективная.
– А я? Макароны ем со всеми…
Рожи и чудища замельтешили перед глазами, словно Рябинин увидел их из окна бегущего поезда. Но не поезд бежал, а забегал его взгляд, не зная, на чём остановиться. На пальто, – он остановился на пальто, которое можно накинуть на плечи, выскользнуть на холодную улицу и куда-нибудь идти и идти…
15
Рябинин знал о диалектической связи всего сущего на земле, о непостижимой способности одного переходить в другое – знал об этом не хуже Слежевского. Природа коловращалась, свободно играя атомами, камнями, планетами и мирами. И живым человеком играла, как песчинкой, повергая его в земной прах и земной прах обращая в человека. А уж это ли не крайности – жизнь и смерть. Но интеллект, интеллект… Он заступил пути столь свободному коловращению и ходу времени – сотворил седые пирамиды, тысячелетние города и мраморные статуи; изобрёл нержавеющую сталь, нетленную пластмассу и негниющий бетон; выдумал антикоррозийные покрытия, капитальный ремонт и несмываемые краски…
Интеллект заслонил людей от крайностей, тех самых, которые переходят друг в друга, и вывел человека из стада к цивилизации. Интеллект не согласился с крайностями – жизнью и смертью и попробовал развести их на как можно большее расстояние; он уже чего-то добился – довёл когда-то средний сорокалетний срок жизни до семидесяти…
Любовь и ненависть. Эти крайности Слежевский сближал инстинктом. У хищника к жертве двойственное чувство: азарт и ненависть к убегающей, ещё не пойманной добыче; любовь к пойманной – от предвкушения еды. Может быть, и так, – надо спросить у биологов…
Но Слежевский забыл про интеллект, про ум забыл, который царствует над инстинктом, как солнце над землёй, – это Рябинин знал, про это ему не нужно было спрашивать.
Он шёл по садовой тропе к избушке, замечая неуловимое изменение во всём и вроде бы ни в чём. Неожиданно заскрипели под ногами песчинки, до сегодняшнего дня беззвучные. Ветки яблонь потеряли зимнюю несгибаемость и глянулись мягко, влажно. Потемнела дранка на крыше, как намокла. Оттепель? Оттепель.
Распалённый мыслями об интеллекте, Рябинин шагнул через порог скоро, будто опаздывал.
– Я заварил цейлонский, – сказал Олег Семёнович.
– Что вы тут делаете без меня?
– Думаю.
– О чём?
– Всё о том же.
Рябинин разделся, уже превозмогая нетерпение. Он требовательно глянул в лицо Слежевского, поторапливая, но оно застелилось чайным паром. Цейлонский… Вкуса чая Рябинин не ощутил – всё от нетерпения.
– Рассказывайте дальше, Олег Семёнович.
– А дальше ничего, пустота.
– Но ведь отношения в семье стали невыносимы…
– Ну и что? К человеческим отношениям, Сергей Георгиевич, революционные подходы неприменимы. Мы прожили с ней много лет, общий дом, общие дети… Что делать? Развестись? Разделить дом? Махом переменить жизнь себе, ей, детям? Нет, ничего не надо делать. Положиться на эволюцию. Образуется.
Чай Олег Семёнович пил, как всегда, с тихой свирепостью. И Рябинин подумал, что нет, не образовалось.
– С детьми, с женой, с друзьями, Сергей Георгиевич, никаких революций. Только эволюция.
– И вы смирились со скандалами?
– Смирился. Только под моей кроватью стоял портфель.
– Какой портфель?
– Вместительный, аварийный. А в нём детектив, чистая рубашка, справочник конструктора и банок пять сгущённого молока.
– Ну, и бывали аварии?
– Да, уходил.
– Надолго?
– На несколько дней.
– На сколько же?
– Это зависело от количества банок сгущённого молока.
Рябинин улыбнулся. Но Слежевский даже усиками не дрогнул – сухая кожа щёк, ничуть не распаренная Цейлонским чаем, была барабанно туга.
– И куда уходили?
– К приятелю, однажды на работе жил три дня…
– Ну, а к другой женщине? – предположил Рябинин самый жизненный вариант.
– Уходил, – мрачно согласился Олег Семёнович.
– К кому, если не секрет?
– Зачем вам её знать, Сергей Георгиевич…
– Фамилия мне не нужна.
– Есть у нас плановичка… Знал, что ей нравлюсь. Она мне тоже нравилась. И ушёл, ничего дома не говоря. С аварийным портфелем. Накрыла она на радостях стол, что называется, скатерть-самобранку. Сидим, пьём шампанское, облучаем друг друга влюблёнными взглядами. А я жду.
– Чего ждёте?
– Того, что меня ударило, когда я впервые увидел Анну. Помните, упавшую?
Рябинин кивнул: как не помнить, если сидел он по вечерам на раскладушке и записывал эту семейную историю. И сам толком не знал зачем. Для времяпрепровождения, для повышения квалификации, для понимания человеческой психики, для памяти?.. Или впитывал чужое горе и втайне от самого себя молился на всякий случай – господи, помилуй от такого…
– Дождались?
– Сижу, как глиняный. Ничего не ударило, и даже сердце не стукнуло. Съели всё, выпили… Знаю, что пора её целовать. Ждёт она…
– И что же?
– А меня душит. Вот так, за горло!
– Кто душит, то есть что душит?
– Её шампанское зелёное. Поперёк горла буквально.
– Вероятно, плохое, – предположил Рябинин. – Несвежее.
У него бывало: посреди серьёзного разговора, посреди звонкого напряжения вырывалась вольная шутка. Потом насупленной мыслью он вернётся к ней и поищет её подземные истоки. Отчего она – от смешной роли Слежевского, от выспренности его слов или от чего-то такого, чего Рябинин не хотел и додумывать?
– Шампанское было свежим, – не улыбнулся Слежевский. – Несвежей стала моя душа.
– Что же дальше?
– Я встал и ушёл.
– А плановичка?
– Я оставил ей шесть банок сгущёнки.
Рябинин прицепился взглядом к усикам Слежевского – они вытянулись почти стрелочкой на плоских, застывших губах. Может быть, и у него шутки вырывались самовольно, как сквозняки из приоткрытой двери? Или шутка, придавленная разумом, не доходила до лица – её хватило только на брошенные слова?
– Вы знаете мой дом. Я его строил, прожил в нём почти всю сознательную жизнь, вырастил детей… Это мой дом. А из своего дома человек не должен уходить ни на какие пряники.
Он махом допил остывший чай и налил другого, горячего. И Рябинин подумал, что этим чаем Слежевский, видимо, питался – только в первый день здесь варилась картошка. Не потому ли кожа на щеках барабанно натянута?
– А если в доме нет жизни? – спросил Рябинин.
– Сергей Георгиевич, вы ничего не поняли.
– Не понял?
– Я же однолюб.
От резкого движения головы очки Рябинина почти взметнулись. Однолюб? А не… как называется человек наоборот однолюбу? Одноненавистник?
– Вы же несколько дней рассказываете, как ваша любовь перешла в ненависть…
– Не перешла, Сергей Георгиевич, а совместилась.
– Как совместилась?
– Любовь совместилась с ненавистью. Я её ненавидел, и я не мог без неё жить. Это трагедия, Сергей Георгиевич. А вы вчера сказали, что я Анну не любил…
Выговорившись, Слежевский спокойно отпил чай. Но оставившее его беспокойство как бы перекинулось на Рябинина, которому легче было понять перерождение любви в ненависть, чем их сумасшедшее совмещение.
– Вы любили не Анну, а свой дом.
– В моём доме была моя Анна.
– Ага, – вдруг злорадно сказал Рябинин. – Ваша, собственная.
– Вы не понимаете такой любви.
– Это не любовь, – повторил, как вчера, Рябинин.
– Сергей Георгиевич, подобная любовь описана классиками.
– А я и классикам не поверю.
16
Утром озябший кот ткнулся рыжей башкой в лицо, пробуя заползти под одеяло. Рябинин проснулся и уступил ему нагретое место.
Было уже девять часов – теперь вставали поздно. Холодный воздух свободно гулял по клубу. Рябинин побрился электробритвой, плеснул на щёки воду с мелким ледком и, не завтракая, вышел на улицу. Ему хотелось побыть одному и подумать о прозренных мыслях убитой; не хотелось встречать инспекторов в клубе и натыкаться на дом Слежевских в посёлке.
И он зашагал к лесу, на просторы…
Ночью выпал первый, жданный и всегда неожиданный снежок. Дорога была затянута туманом, который от низкого солнца стал розовым, – розовый летний туман на зимнем снегу. Редкие тёплые хлопья повисли и на елях, отчего хвоя контрастно потемнела до черноты. На светлой и худой берёзке, давно скинувшей листву, снег даже не зацепился – она стояла меж елей, как обнажённая женщина среди мужиков.
Рябинин ступал в снег, который таял под подошвой…
Могла ли Слежевская догадаться о своей смерти, не имея никаких фактов? Могла. Психологи давно знают о неосознанной переработке информации и предсознательных процессах в мозгу. Рябинин признавал бессознательное, отводя ему чёткое место – под сознанием; может быть, слишком маленькое место, но допустить его равенство с сознанием значило допустить, что человек есть наполовину зверь. Он не понимал иронического отношения к рефлексии, самонаблюдению, самоанализу… Не есть ли это самокопание желанием нашего сознания пробиться к своему подсознанию? И не пробилась ли к нему Слежевская?
Рябинин остановился у полянки, где бегали две собаки – взрослый лохматый пёс и овчарёнок-одногодок. Неуверенный снег они давно разметали своими лапами. Когда овчарёнок забывался и напрыгивал, здоровенный пёс свирепо цапал его зубами за холку. Подросток летел кубарем к пожилому мужчине и начинал визгливо покусывать хозяина за рукав куртки…
Слежевская могла догадаться о своей смерти при помощи интуиции, о которой люди ещё слишком мало знали. Да и что человек знал о себе хорошо?.. Учёные отвергали сверхчувственное восприятие только потому, что подходили к нему с каноническими знаниями, со старыми мерками, и были похожи на людей, полетевших в космос с зонтиками и в калошах. Но есть тайны, как бы всеми признанные. Ведь никого не удивляли редкие способности, скажем, к математике или к языкам; не удивляла необъяснимая сила искусства; не удивляло народное приятие снов, гаданий и примет; не удивляла странная энергия, возникающая у человека в минуты опасности или смерти; в конце концов, не удивляла та же самая интуиция…
Юный овчарёнок хватанул пса за нос. Расплата была мгновенной и болевой – побитый нахал припустил к хозяину и бросился грызть его рукав. Странно: чем больнее кусал его пёс, тем овчарёнок сильнее трепал хозяйскую куртку.
Рябинин перепрыгнул канаву, отделявшую поляну от дороги, и подошёл к мужчине.
– Скажите, почему он вас кусает?
– От злости на этого ньюфа.
– Почему же не кусает его?
– Боится, на меня переносит…
Рябинин смотрел на хозяина собаки, теряя чужое лицо в какой-то воспалённой мгле, словно меж ними лёг туман всего леса.
– Что с вами? – насторожился мужчина.
– Нет-нет, ничего…
Рябинин вышел на дорогу, где остатки розового тумана доедали остатки раннего снега.
Перенос. Как же он забыл про это странное психическое состояние? Как же он забыл про гениальную народную замету – сорвать зло на другом? Не понял сказанную Верой Игнатьевной, свидетельницей, пословицу «кричит на кошку, а думает на невестку»?
Частенько горе подступает неспешно, как бы давая человеческой душе приготовиться. Но душа не хочет его, бьётся душа, пытаясь стать неприметной и спрятаться. Не спрячешься. Тогда душа пробует отпихнуть горе, оттолкнуть его подальше. Но куда – в космос? Некуда. Мечется душа и смотрит на людей: почему горе у меня, почему не у них? А может быть, не у меня, а может быть, у них? У них, у них! И слабая душа захлёбывается от призрачной надежды, и у слабой души хватает лишь сил вытеснить плохое и впустить хорошее. Конечно, горе у них, у других…
Мимо проехал многотонный грузовик с сосновыми брёвнами. Рябинин вдохнул запах смолы, который за эту секундную встречу перебил все другие запахи – и выхлопного газа, и мокрой земли, и прелых листьев…
Анна Слежевская противилась семейному горю сколько могла. Чем хуже становилось в доме, тем больше она похвалялась хорошим мужем и детьми. И когда стало невмоготу, она бессознательно перенесла своё горе на других. На любого. На Мелентьевну, вовремя сказавшую слова о вёдрах и убийстве. Теперь Слежевская знала причину своего горя – Мелентьевна хочет её убить. И повторяла это, и убеждала себя. И стало ей легче, ибо для слабой души покой дороже правды.
Рябинин скоро подходил к посёлку. Его промокшие ноги горели от быстрой ходьбы. И вроде бы сырой носок стёр пятку.
Но в посёлке Рябинин притормозил свой ход. Ему захотелось поговорить с Верой Игнатьевной – она могла знать больше, чем сказала в клубе. И он никогда не избегал общения с человеком, который умел заглядывать в душу чуть глубже, чем все остальные.
Рябинин знал её адрес. Он отыскал зелёненький домик на улице Зелёной и увидел хозяйку, выходящую из калитки.
– Здравствуйте, Вера Игнатьевна.
– Здравствуйте.
Её лицо, озарённое удивлением, стало опять простодушным – как в клубе. Они пошли рядом в сторону магазина.
– Я хотел вас спросить… Верно ли, что Слежевские жили без скандалов?
– Это весь посёлок видел. Знаете, как они трогательно шли по улице? Как молодожёны.
– Да, – вздохнул Рябинин, сразу ощутив сырость носков и пронзительность талой воды.
– Но я думаю, что жили они ужасно, вдохнула и Вера Игнатьевна.
– Вы же только что сказали, что весь посёлок видел…
– Это я сказала от ума. А теперь говорю от сердца.
– Вера Игнатьевна, не могло же ваше сердце ни с того ни с сего… Ведь, наверное, были факты?
Она помялась и глянула на следователя искоса, решая, стоит ли говорить этому человеку то, что никак не шло у неё с языка.
– Был и факт…
– Какой?
– Цветы у них вяли на окнах.
Рябинин видел эти вялые цветы в день осмотра дома.
– Ну и что? – неуверенно спросил он.
– Анна их поливала, ухаживала, а они не росли. Когда в доме ругаются, то цветы чахнут. Вам смешно?
– Нет, – убеждённо ответил Рябинин.
Если от ругани чахнут люди, то почему бы от ругани не чахнуть цветам?





