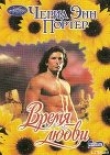Текст книги "До свидания, Сима"
Автор книги: Станислав Буркин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Ну уж постарайся как-нибудь. Там ведь тоже не дураки сидят. Про спецназ им расскажи, они и не слыхали небось. Главное, чтобы полония там не было.
– Где?!
– В баночке.
– Ладно, ладно, давай, пап, пока.
Я положил трубку, думая о том, что в нашем роду к старости все немного сдвигаются, и тут же вспомнилась мне история бабушки о том, как кончил наш знаменитый прадедушка, тоже любитель нестандартных видов оздоровления. Каждую ночь с пятницы на субботу наш предок – директор Мариинской гимназии выворачивал наизнанку старый мужицкий тулуп, надевал прямо на кальсоны валенки, подбитые подковами, и мчался куда-то за реку в поля, наводя ужас на собак и жителей окрестных избушек.
Вот и мне сейчас самое время заняться полевым скаканьем или пропустить стаканчик-другой девичьей мочи – потому что если я залезу в бар и глотну ячменной или можжевеловой мочи, то меня и через неделю не остановят. И тогда кто знает, чем все это кончится?
Рассказывали, что в конце жизни мой прапрадед стал горьким пьяницей и погиб ранней весной при переходе через Томь. Цепляясь за ломкий апрельский лед, учитель читал себе отходную и, охая, подвывал «иже во Христа крестихтеся».
Не знаю, как у вас, но у меня в таком состоянии есть три железных правила: не смотреть и не слушать ничего вроде психоделики, не читать ничего уморительного, так как после этого еще хуже накатывает. И тупо не пить. Лучше всего с кем-нибудь болтать, где-нибудь бродить, не важно где, по городу или за городом, главное только глазеть во все стороны. Если последнее получается, значит, еще не все упущено и все помаленьку склеится.
Мы, выслушивая жалобы на здоровье, проглотили безвкусные комки каши у тетушки и покатились обратно в приятный дом литературного затворника. Там мы разожгли камин, плеснули коньячку в пузатые бокалы-аквариумы и потягивали из них весь вечер, мирно беседуя обо всем, что никак не касается моей уходящей корнями в Краков трагедии.
Мы с моей новоиспеченной женой снимали двухкомнатную квартиру в центре Кракова, на улице Кармелитской. Аренда жилья в Кракове всего в полтора раза дороже, чем в Томске, а средние заработки выше примерно в три раза. Каждый вечер мы выходили погулять по Старому городу (так называется исторический центр), где круглые сутки суетятся туристы, битком набиты пабы и рестораны, а на площади ежедневно происходят какие-нибудь акции и представления. Помню, как однажды на площади устроили марш такс, во время которого через площадь широким строем под гвалт аплодисментов и хохот прошествовало несколько тысяч собак породы такса. При этом возглавлял марш один из лучших духовых оркестров Шотландии. Зачем и кому это было надо, неизвестно. Но получилось невероятно эффектно и весело. Марш походил на чудовищное нашествие грызунов с маленькими дрожащими хвостиками.
– Яки бльади! – взволнованно воскликнула моя жена, когда увидела строй шотландцев в национальных юбках.
– Дорогая, ну что ты? Как тебе не стыдно? – укорил я, но тут же сообразил, что то, о чем я подумал, по-польски звучит как «курвы», а «бльади» означает всего лишь прилагательное «бледные». Соответственно, «яки бльади» значит не более чем «какие бледные».
Многие польские слова звучат как русские, но имеют совсем другое или противоположное значение. Например, слово «убирайся» означает «одевайся», а польское слово «запоминать» означает «забывать». Некоторые слова просто невозможно произнести без смеха. Например, «кроссовки» по-польски называются «адидасами». «Женская прелесть» звучит как «кобеца урода». Так я часто называл свою супругу. Правда, она не понимала, почему меня это так радует.
Так вышло, что среди друзей в Кракове у меня сразу было больше англичан, чем поляков. Англичане вообще полюбили Краков, и живет их там великое множество, так же как и поляков в Лондоне. В окрестностях Старого города, наверное, половину съемных квартир занимают англичане. Они часто покупают себе жилье в старинных кварталах. Квартира, которую снимали мы, тоже принадлежала одной из жительниц Лондона.
Вообще, практически половина поляков живет и работает за границей. Эмиграция поляков носит характер национального бедствия. Только в одном Лондоне трудится более миллиона поляков. И надо сказать, что за границей поляки очень противные. Совсем не похожи на тот милый истово католический народ, который обитает на их родине.
– Но здесь, скорее всего, идет речь не о национальности, а о ситуации, – заступился за поляков мистер Тутай (он сам на четверть поляк). – В сложных условиях, когда ты ограничен в правах и можешь вмиг все потерять или попасть под золотой дождь, все обостряется.
– Я слышал, что сложные условия делают плохих людей хуже, а хороших еще лучше.
– Да, – задумчиво согласился Тутай. – Когда-то я был сыном очень богатой мамы. – Я живо представил себе Стэнли Тутая седовласым мальчиком в белых шортах. – О, это была великая актриса. Мы часто путешествовали знаменитыми пароходами через Атлантику. У нее никого, кроме меня, не было, и я до сорока лет был для нее единственной отрадой. Когда еще в школе меня обзывали маменькиным сыночком, я всегда сопоставлял глупую обиду с любовью к моей умной маме, и тогда эти обзывания ничего не значили. Но однажды я полюбил, и взвесить пришлось не детскую обиду, а любовь к женщине и любовь к своей матери. Мать решила все за меня, и вскоре девушка возненавидела наш дом, и больше я ее не увидел. Тогда я взял все мои сбережения и перебрался в Польшу, в городок, где жили наши предки до всех войн и потрясений двадцатого столетия. Через год мама умерла и оставила мне все свое состояние при условии, что я должен вернуться в Англию. Тогда я не вернулся только потому, что эти деньги были бы для меня вечным осуждением. Потом в Польше начался кризис, и я потерял все, жил в долг, две недели ночевал на скамейке в парке, изголодался весь. Потом я кое-как на мотороллере вместе с другом вернулся в Лондон и попытался высудить у сестры хотя бы часть оставленных матерью средств, но у меня не было возможности воспользоваться помощью хороших юристов, и я проигрывал процесс за процессом. Так что былые принципы казались мне уже сущей глупостью, и я до сих пор виню себя за то, что отказался от наследства. Вот видите, а вы удивляетесь, почему люди становятся за границей хуже. Легко быть хорошим, когда ты сыт. Попробуй быть хорошим, когда приходится драться за кусок хлеба. У меня даже есть стихотворение по этому поводу:
Вдруг понял я: не все идет так гладко,
Когда доел я ростбиф без остатка,
Поняв внезапно, что его мне было мало,
О детях Африки я вспомнил запоздало.
Уйди, уйди, мой ангел благородный!
На что мне Африка, коль я сижу голодный.
Я допил коньяк до последней сладостно обжигающей капельки, пожелал ему спокойной ночи и, стараясь не думать о жене, пошел спать.
3
Мне снился сон. У фонтана на Трафальгар-сквер прыгает через резиночку группа молодых женщин в цветастых сарафанчиках и клетчатых юбочках, вид у них деловой, сосредоточенный, они хором выкрикивают считалочку. Я стою в телефонной будке напротив, облокотившись на полочку с книгой номеров, облизываю мороженое и выбираю из прыгуний будущую жертву своих гнусных притязаний. Наконец избрав рыжую, с развратным ртом, в короткой шотландской юбочке, я устремляюсь вперед. И вот мы уже у решетчатой калитки перед ее крылечком. Начинаю извиваться кольцами змеиного красноречия, заманивая ее мороженым. «Не бойся, деточка, возьми, оно твое». После недолгого раздумья она хмыкает, хватает эскимо, захлопывает предо мной железную калитку и исчезает, взмыв по крылечку. Я остаюсь стоять сердитый и униженный своим добродетельным промахом.
Встал я в зябком, остывшем доме ни свет ни заря, без спросу взял машину прокатиться по деревне и по лесу под предлогом, что не хотел его будить по пустякам, потом, шурша по гравию, насквозь проехал кладбище, вырвался из узорчатой тополиной тени и неожиданно для себя без всяких предлогов поехал на работу. Низкое солнце протягивало мне навстречу длинные кособокие тени, ресницы сухо вставали дыбом, и в голове мутилось от резкого белого света на шоссе. Потеряет, позвонит, а там что-нибудь придумаю.
В мокром утреннем городе на бесконечной узенькой улице меня словно по расписанию накрыл весь вчерашний день, и продолжило колбасить и плющить. Мне хотелось свалиться, броситься в перекресток, плевать, что под машину, но прочь с этой узкой холодной и точно сальной улицы. Я вспомнил, как однажды, когда мы жили еще во Франции, я впал в страшную ересь в день Светлого Христова Воскресения. После службы в плосковерхом соборе Трех Святителей на улице Петель в Париже, где я научился говорить «Христос воскресе» по-французски, мы с ней поехали покататься на великах, которые арендовали вместе с комнатой. На тротуаре у меня слетела цепь, и я начал ковыряться со звездами. Вдруг возле нас остановились двое полицейских на велосипедах и предложили свою помощь. Когда они объяснили, как это правильно сделать, я начал их благодарить, посмотрел на свои грязные, в масле, руки и понял, что рукопожатие не будет им приятно. Но тут я нашелся и сказал им по-французски: «Христос воскрес!» Они озадаченно переглянулись. Тогда я, силясь объяснить им календарную разницу в католической и православной церквях, объявил им по-французски: «Христос воскрес в России!» Они посмотрели на меня косо, толерантно похрюкали «уи, уи, уи» и поспешили уехать. Так я впал в ересь, проповедуя православную веру в Париже перед жандармами.
Я приехал в офис минут на сорок раньше и принялся дрочить в фанерном закутке перед монитором компьютера. Простите, это я так шучу. Честное слово! Ничего такого не было. Я просто полистал девок и понял, что ни одну из них не желаю даже на заставку и что хочу быть только со своей женой, что люблю ее, как никогда, и буду последним предателем, если изменю ей хоть раз с этими подштрихованными в фотошопе выпуклыми красавицами. Я своей жене никогда не изменял. Даже в мыслях. Она бы мне, конечно, не поверила. Правда, я уставал от нее частенько, особенно когда она обвиняла меня, что я с ней мало разговариваю. Если бы все наладилось, я бы стал внимательнее к ней относиться. Сам себе вру, конечно, но хотя бы первое время старался бы быть внимательней. Кстати, мастурбация неотвратимо ухудшает семейные отношения. Кажется, ничего особенного, а на самом деле это как ложка меда в бочке дегтя (или наоборот – не важно). Важно то, что эта ложка все изменяет, подтачивает, и как это ни глупо, в конце концов… Хотя что я опять умничаю, все это и так знают.
В тот день Ник опять проспал, Мадлен пришла опухшая с похмелья, Мэри хвасталась новой сумочкой и долго объясняла мне, где я могу купить такую же. В конце ее путаного доклада я не выдержал и сказал, что жена меня бросила. Только я начал жалеть об этом, как убедился, что ничего особенного от моего признания не произошло. Никто не бросился меня целовать, обнимать и утешать, а все обошлось только: «Ой, мне очень жаль, Алекс, нет, мне правда очень жаль, но если тебе все-таки понадобится такая сумка, то никогда не бери набитую бумагой. Там должна быть специальная фирменная подушечка».
Индус и кореец, имен которых я за все время работы не выучил, серьезно пыхтели над новыми трехмерными проектами, а белые люди, как всегда, бездельничали, вливали в себя кофе в немереных количествах и поглядывали в окно, не появился ли «Опель» Питера Оума, нашего пухленького заправилы, который очень гордится тем, что когда-то в детстве служил в каком-то там специальном отряде королевских ВМС.
Рекламный отдел фирмы «Скрибл» это вообще сплошная профанация моей профессии – я художник-дизайнер.
– Вот ведь геморрой с этими удавками, – сказал Ник, поправляя слишком расслабленный галстук (это такая мода теперь в Европе – галстук, обвисший под залихватски расстегнутым воротом рубахи). – Раньше в колледже как было, – продолжал жаловаться Ник, – подарят тебе фирменный галстук, папа тебе его один раз завяжет, а ты его хлоп, обрезал и переделал на резинку. А вот теперь вот приходится показывать, что он у тебя весь целиком.
– А зачем? – спросил я.
– Мода такая, – открыл мне Ник. – Ей надо следовать, чтобы к тебе люди нормально относились.
– А какая тебе разница, как к тебе относятся? Ходи, как тебе удобно, – скривился я. – У меня вот дыра под жопой, и ничего.
Кроме того, я носил моряцкий пуловер из синей шерсти с кожаными плечами из какой-то хемингуэевской книги.
– Ты не рекламный человек, – помотал пальцем Ник, и Мэри с Мадлен закивали в подтверждение как китайские болванчики.
– Абсолютно не рекламный, – с гордостью согласился я. – Ну хоть ты скажи, что под всех не подстроишься, – сказал я и поймал мирно проходившего мимо офисного кота по кличке Полосатый. Полосатый промолчал, посмотрев на меня с неприязнью, и попытался вырваться. Все заржали. Но я-то знаю, что кот имел в виду только то, что ему не только на галстуки, но и на меня, и на всю нашу контору насрать с балкона.
Я почувствовал, что меня уже мутит от перемежения кофе с холодной водой из агрегата с перевернутой пластиковой бутылью. Надо что-то перекусить, подумал я, встал и сел.
– Что-то мне нехорошо, – сказал я, видя, как передо мной кипит и распадается пятнистая темнота и проплывают за ней какие-то прозрачные сперматозоиды. Когда все рассеялось, я почувствовал, что у меня какая-то скрипучая пружина в трахее или в пищеводе облегченно сужается.
– Что-то нехорошее вспомнил? – озабоченно переспросили коллеги.
– Да нет, просто какой-то… Какой-то сперматоксикоз.
Все заржали, естественно, а Мадлен бравурно взмахнула кулаком и обратилась к Мэри:
– Может, поможем товарищу?
– Спасибо, не надо, – отмахнулся я, моргая и растирая липкий от холодной испарины лоб.
– Ты сегодня что-нибудь ел? Со мной такое на диете часто случается, – сказала Мэри.
Она протянула мне крекеры, и я неохотно отгрыз сухой уголок и стал его обсасывать, как глицерин.
Перед обедом босс все-таки приехал и варварски разрушил нашу благоговейную рабочую атмосферу объявлением, что по случаю своего дня рождения он привез домашний сыр и вино своего дядюшки. Мы нехотя прервали кропотливый рабочий процесс и снисходительно повылезали из-за столов угощаться вином и плесневым сыром. Есть люди, которые считают, что им принадлежат все эталоны вкусов, и всячески стараются приобщить вас к своим гастрономическим извращениям. Питер один из таких людей, он сам крошил для нас бледный угол сыра с голубоватыми прожилками плесени, разливал вино и пытливо заглядывал в глаза каждому по очереди, спрашивая: «Ну как, а?»
– Питер, это просто божественно, восторг, райское блаженство! Мы даже на могилке у родной бабушки не пробовали такой восхитительной благородной плесени!
– Что это за кошмар клаустрофоба? Это твоя новая машина, Алекс? – тыча длинным пальцем в тутаймобиль, засмеялась Мадлен, выходя со мной на обед.
– Да вот, – похлопал я по жестяной крыше, – прикупил на барахолке у мистера Бина.
А сам подумал, что стыдно мне перед мистером Тутаем и ничего я уже не придумаю в свое оправдание. Не выдержит моей наглости, выгонит, пойду в хостель грызть ногти на ногах и бить клопов тапками. Мы, ворочаясь и раскачивая весь корпус, сложились в машину и поехали в корейскую забегаловку.
– Я его ненавижу, – сморщилась Мадлен, высовывая до самого подбородка язык и играя пальцами неприязнь. – Эти дурацкие откровения. Надо же было выдумать, что у него харизма.
Мне тоже стало противно, когда я вспомнил, как этот кучерявый баран самодовольно рассказывал нам о том, что у него в прежней фирме работали два украинца, которые искренне считали, что в Шотландии две главные достопримечательности: где он родился и где получил свое среднее (даже очень среднее) образование. Знает, сука, что восточные гастарбайтеры промолчат и даже смиренно похихикают. Одна Мадлен, как истинная француженка, улыбнулась и спокойно добавила: «Если ты еще хоть раз задержишь нам зарплату, я лично буду носить дешевые веночки на твою последнюю достопримечательность».
В столовой скромные корейцы согласились включить матч, и тихое бамбуковое заведение тут же превратилось в шумный, разнузданный, поглощенный плазменным экраном паб.
Футбол это языческая религия, поразившая континенты.
Когда вернулись, Питер еще расхаживал по фанерным лабиринтам своих владений.
– Почему опаздываете? – встретил он нас, насупившись и широко расставив ноги.
– «Ливерпуль» играет в Манчестере, – сказала хитрая Мадлен.
– Какая мне, в жопу, разница, – огрызнулся Питер, – я за «Глазго Рейнджерс». Стойте! – вдруг опомнился он и уставился на наручные часы. – Это же полуфинал.
Густо побагровел, молча указал нам, где наше место, и широким шагом пошел искать телевизор.
– Фу! – выдохнул Ник. – Наконец-то, – он откинулся в своем кресле и добавил: – Вот теперь перерыв начинается. Да здравствует «Манчестер»!
На его мониторе загрузился канал, и лениво забегали по зелени однообразные человечки в цветастых футболочках, и тихонечко заскрежетал прерывистый голос комментатора под волнистый гул толпы.
– А сколько ему лет-то? – спросил я.
– Нашему-то? Да уж лет тридцать пять гамадрилу, – сказала Мэри.
– Пятнадцать! – брезгливо поморщилась Мадлен.
– А ты чего сегодня такой кислый? – переключилась на меня Мэри.
Я махнул рукой, потом вспомнил, что уже говорил ей, и набычился.
– А! Прости, – опомнилась она, не сдержалась и, уронив голову лбом на ладонь, бесстыже захихикала. – Нет, прости, Алекс, правда, я просто дура, я сама себя не контролирую.
– А что такое? – спросила Мадлен.
Я старательно не посвящал ее в свои беды за обедом и теперь понял, что сам вырыл себе яму легкомысленным утренним признанием.
– У тебя что-то случилось? – озабоченно переспросила Мадлен и толкнула Мэри, чтобы заткнулась.
– Да нет, ничего, – грустно пожал я плечами, – просто от меня жена ушла, и я остался без жилья, так как мы снимаем пополам с ее сестрой. Ну, ты знаешь…
– Ого как, – с пониманием покивали Мадлен с Ником и, словно очнулись, загалдели наперебой: – Слушай, так ты теперь вольный человечище, прикинь! Главное, и совесть чиста…
Мне опять захотелось порыдать.
– Ну ладно тебе, старина, перестань, – кинулось меня теребить шестирукое чудовище, хотя я и слезы не проронил.
Боже, до чего же мне было противно за себя и за свою жизнь. Я принялся вяло отпихиваться.
– Ну… Ну хочешь, я тебя трахну, Алекс? – сострадательно предложила Мэри. – А ребята мне помогут. Ведь правда, Ник?
– Легко! – бодро согласился Ник, уже засучивая рукава и демонстрируя свои рыже-волосатые предплечья.
Я с детской доверчивостью покосился сначала на ее декольте с приятной теневой складочкой начала грудей, потом на мускулистые шерстистые лапищи ее соратника.
– Этим мне уже не поможешь, – отклонил я и потупился.
Тут я почувствовал себя так противно, что откатился на вертящемся кресле в сторону и облокотился на стол.
– Вот это как человеку из-за бабы херово бывает, – многозначительно покачал головой Ник.
Я начал говорить что-то полушутливое, но вдруг почувствовал совершенно невероятный спазм в животе, машинально оттолкнулся от стола, скрючился, и меня начало тошнить подступающими к горлу потоками каких-то пенистых веществ из кофе и японского мультика «Унесенные призраками».
– Э! Ты что, офигел, старина? Иди в туалет, – забегали вокруг меня заботливые товарищи. – Тебе что, жить опротивело?
Меня как ведром холодной воды обдало, и я резко выпрямился. А ведь действительно – опротивело. Бывало, конечно, и раньше находило, но чтобы до такой степени… Мне подали стакан воды, и я, глотнув, испугался, что мне еще подсунут и кофе.
– Алекс, эй! Ты чего застыл? – сказала Мэри. – А ну давай разговаривай. Хочешь, домой отвезу?
– У меня нет дома, – совсем уже упаднически промолвил я.
– Ну давай я тебя к себе возьму.
– Тогда совсем никакой надежды не останется, – проговорил я и живо представил, как до моей доходит слух о том, как я быстро перебазировался к соседке по офису. – Не, я досижу и поеду к Тутаю.
– Ник, а Ник, – обратилась Мэри и сделала осудительно-выжидательную физиономию.
– Что? – строго дернулся Ник, поняв, что она намекает на приют для меня.
– Я же сказал, что поеду к Тутаю! – заступился я за коллегу.
– Тогда ты его хотя бы отвезешь, – продолжала прессовать Ника Мэри.
– Нет, не отвезу, – коротко ответил Ник и рассердился.
– Как это? – брякнула Мэри.
– Не могу.
– Ты не сочувствуешь другу? Он бы тебя в такой ситуации…
– Сочувствую!
– Так почему же?
– Не могу, – сказал, как отрезал, Ник. – Не могу, и все.
Помолчали.
– Ну знаешь ли, – угрожающе заговорила Мэри, положив руки на пояс и тяжело вздохнув.
– Я отвезу его! – пресекла назревшую бойню Мадлен.
– Значит, я могу хряпнуть пивка! – радостно сказал я, вытащил из стола баночку, которая тут же чихнула и крякнула, этим как бы закрепив достигнутый компромисс.
И почему они всегда сами вызываются, а потом бросают меня? Может быть, я слишком слабый, чтобы бросить их, а судьбе непременно нужно, чтобы кто-то кого-то кинул.
Вечером я уже вместе с Мадлен, предварительно посвященной в мой автомобильный грешок, вернулся к Тутаю и виновато улыбнулся ему, указывая во двор.
– Хотите, ноги целовать буду?
– А в чем дело? – ошарашенный моей спутницей, спросил хозяин и отодвинул белую шторку с окна в прихожей.
– Ваша машина… – простонал я.
– А зачем вы ее выкатили? – удивился он. – Разве мы куда-нибудь едем? Я уже был сегодня у тетушки на ужине. Кстати, – он смутился, – в связи с тем, что ты поехал в Лондон поездом, я не смог отказать себе в возможности поехать на велосипеде. Ты только, дружище, не сердись, пожалуйста!
4
Лежа в кровати, мы включили телевизор, где показывали какую-то мрачную российскую бытовуху из жизни горняков, и я, поморщившись, бесстыже сказал, что это Украина, и переключил.
То, что со мной рядом лежала другая женщина, было так ново для меня. Даже дико. Я был возбужден и смущен и знал, что это случится, только хотел забыться, опьянеть предварительно и поэтому большими глотками глушил полученный от менеджера маркета «Моррисон» виски.
Она, ожидая меня, лежала рядом, закинув руку за голову. Я долго не смотрел на нее, но млел, чувствовал ее реальность под одним пуховым одеялом со мной. Я резко повернулся, оказался над ней, встретил ее серьезный взгляд и с блаженным головокружением ощутил терпкий запах ее подмышки.
– Ты очень красивая, – банально проговорил я в пьяном смятении, – даже слишком. Но ведь ты не любишь меня.
– Мой, – спокойно и окончательно сказала она, взяла меня за затылок и окунула в себя. В бездну своей груди.
Потом все было липко, и трескало, и хлюпало. Как обычно, но совсем по-другому. Медленно, ненасытно, изнывая, запутываясь в ее ногах и объятиях, запуская пальцы в легкие волосы, крепко хватая ее как кошку и запрокидывая ей голову.
– Говори со мной по-французски, милый, – попросила она.
– Э… Дит, сильвупле, комбьен?[1]1
Сколько стоишь? (фр.)
[Закрыть]
– Идиот! Говори, говори, говори…
И мысли о жене и о СПИДе с холодком провалились куда-то под ложечку, и я почувствовал ядовитую сладость, словно религиозного отречения. Впитал ее соки и злобно отдал ей свои, и растворился, и покорился, и душу свою потерял, и еще тысяча других «и»…
Я очнулся, словно приземлился в полуденном раю, в котором наступила осень и в котором я уже был чужим. Та, которая погубила меня, блаженно посапывая с подрагивающими выпуклыми веками, витала среди своих готических предков на цветущих галльских холмах. Она казалась мне бледной, какой-то плотской, с отсутствием всякой личности и совершенно чужой. Казалась погибшим ангелом, умершим и тут же воплотившимся. Я прижался к ее животу, и она жалостно запротестовала, бормоча по-французски «Нэсэ па, мадам», очевидно думая, что это няня будит ее.
– Я люблю тебя, – вслух сказал я.
Она озадаченно уставилась в потолок.
– Дурак, что ли?!
– Выходит на то.
– Сколько времени?
– Шесть. Тебе снились древние галлы?
– Мне снилась сохнущая сперма во рту, – сказала она, сморщившись, побегала глазами из стороны в сторону и неуклюже потянулась за стаканом воды. Я услышал, как глотки звучно протиснулись через ее горло, и понял, что этим утром романтики не жди.
– Поехали на работу, – сказала она хрипловатым спросонья голосом. – Здесь далеко станция?
– Сначала перекусить бы.
– Мы зачем вчера трахались?
– Я думал тебя спросить.
Она резко встала, голая, начала с деловитостью домработницы собирать элементы своей одежды по всей комнате. И зачем такие волшебные ноги какой-то офисной дурочке? Но, в конце концов, лучше она, чем та рыжая стерва, которую я совращал во сне мороженым сутки тому назад.
– Вставай! – сказала она с бесчеловечностью жены и бросила в меня моими трусами.
– Не хочу.
– Что такое? Мы обиделись?
– Нет.
– Вставай! – повторила она еще бесчеловечней, сдернула с меня одеяло и опешила, уставившись на меня.
– Стоит, – выдохнула она и глупенько гоготнула. – А ты знаешь, Алекс, он намного послушнее тебя.
Я почувствовал себя как в тупом сериале со смехом за кадром, развел руками, вздохнул и встал, спеша закамуфлировать самочинного проказника. Потом мы молча и зябко ели сырные тосты, запивая кофе с молоком, и я поражался тому, какая же она все-таки простая и предсказуемая, хоть и смышленая. И совсем не важно, что она француженка. Прежде всего, потому что это ничего не значит для нее самой.
– Поехали! – вскочила она.
– А ты меня поцелуешь?
– Нет.
– Тогда я не поеду.
– Отлично. Я поеду сама.
Она шумно отодвинула стул, пружинисто проскрипела по полу кроссовками, которые почему-то надела к завтраку, и стремительно покинула дом, оставив меня одного. Тутай спал, да и чем он мог мне помочь? Мне стало стыдно и вместе с тем горестно и жалко себя.
Еще долго я сидел, уставившись на тостер, потом очнулся и вежливо спросил, как идут дела.
– Я еще не остыл, и много старых крошек скопилось в моей душе…
Потом я вышел в темный коридор, где стоял большой ларь, прикрытый ковриком так, чтобы на него можно было садиться, завязывая шнурки. Я как можно тише открыл его и обнаружил, что внутри целая гора бесконечно старых разбитых и затвердевших башмаков. Запахло пыльной обувью, гуталином и футбольным мячом. Я опустил неожиданно легкую крышку, и на ней предательски лязгнул затвор.
– Интересно, зачем ему столько старой ненужной обуви? – беспечно подумал я вслух и услышал откуда-то с потолка:
– Я никогда не выбрасываю изношенные, но не развалившиеся ботинки, потому что они мои верные друзья.
Стэнли появился на приставной лестнице из квадратного отверстия в потолке, и я понял, что он встал раньше нас и очень по-английски не посчитал нужным поставить нас об этом в известность.
– Ну как, позавтракали?
– Отлично, – отмахнулся я и указал на сундук: – А вы такой же старый фетишист, как и я.
– Но в отличие от вас у меня еще много странностей, – гордо признался он. – Вы слышали, как я разговариваю сам с собой? Я этого почти не замечаю, но знаю, что делаю это всегда, когда остаюсь в комнате один. И вы, конечно, знаете, это второй признак того, что у человека что-то не так в голове.
– А первый?
– Когда начинают искать волосы на ладонях.
Я машинально проверил ладони и понял, что он меня подловил. Он засмеялся и хлопнул меня по плечу:
– Вот видите, мы с вами и в этом не одиноки. Если вам нечем заняться, можете помочь мне по дому.
– С удовольствием!
Потом мы передвигали мебель, сворачивали, выносили на улицу и выбивали ковры, вообще по порядку делали все, что он давно откладывал за недостатком помощи. В остальном у него все было очень аккуратно. Дом был намного опрятнее, чем сам его господин. Потолки были низкие, с деревянными балками, над камином стояли часы на яшмовой подставке и пожелтевшие фотографии в рамочках.
После обеда у меня состоялся дурацкий разговор с Питером, во время которого он сокрушался по поводу моих бед, чуть ли не плакал, кругами возвращаясь к одной и той же мысли: «Все имеют право на болезнь, и в хорошем коллективе всегда отнесутся к семейным проблемам коллеги с пониманием, но если сам человек не выполнил заказ, то клиент не заплатит фирме, а фирма будет вынуждена не заплатить человеку». Проклятая военщина!
– О’кей, – говорю, – вычтешь у меня, что полагается.
– Алекс, все имеют право на болезнь, и в хорошем коллективе всегда отнесутся к семейным проблемам коллеги с искренним пониманием, – заладил он заранее выученную и, видимо, очень импонирующую ему фразу, – но если сам человек не выполнил заказ в срок… – и так далее, и так далее. Короче, вы поняли.
Получив через телефон дневную порцию лютого военно-морского говна, я подумал о том, что сам ни за что не хочу быть боссом, ибо я тот самый плохой солдат, который абсолютно не мечтает стать генералом.
А ведь когда он меня только взял, мы даже подружились и ходили с женой на ужин в его многодетный питомник. Но как раз после этого-то мирного семейного вечера за столом я и заподозрил, что он контуженный на полную голову (стало быть, килем от линкора прилетело), так как этот мудак весь вечер разглагольствовал на тему того, что жены, да и вообще женщины должны знать свое место. «Ведь так было всегда и так написано в Библии». Причем моя-то только смеялась, а вот его жена, гордясь твердыми нравами своего мужа, только поддакивала, терзая нервными пальцами край скатерти.
Тутай смотрел, точнее, разговаривал в зале с телевизором, когда я вернулся им помешать и едва не помешался сам. Стэнли размачивал в тазу ноги и с треском подстригал хозяйственными кусачками жесткие желтые ногти. Я сел убиваться на кресло, а он хмурился на диване, все еще бормоча что-то себе под нос. Больше всего он любил смотреть трансляции длинных аристократических похорон, но на этот раз лихие английские ученые показывали по «Нэшнл Географик» только что найденные очередные кости Христа: «Известно, что в Иудее времен Иисуса холостые мужчины до тридцати трех лет не могли носить бороды. Так что все известные нам изображения…»
– Ну и что, – возразил я комментатору, – а в современном Китае Богородицу изображают с узким разрезом глаз. Также известны черные и даже цыганские Мадонны. Если людям так проще принять, то почему бы не изображать Христа с бородой. Ведь на иконе мы не стремимся передать фотографическое сходство даже современных святых, а скорее наше к ним духовное отношение.
– Я, конечно, католик, всегда им был и всегда буду, – не отрываясь от экрана, возразил мистер Тутай, напрягся и щелкнул кусачками. – Но прежде всего я человек науки. Мне свойственно больше полагаться на археологию, чем на теологию. Я бы с радостью уверовал в телесное воскресение Христа, если бы учеными снова и снова не открывались места его истинного захоронения.