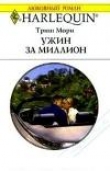Текст книги "Анатомия любви"
Автор книги: Спенсер Скотт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Я не хотел делать ничего такого, что вызвало бы подозрения. Как и Роуз, я полагал, что тюрьма более подходящее для меня место, чем сумасшедший дом, и был чертовски признателен, что оказался в последнем. Мой психиатр упоминал, что страх перед изнасилованием – самый сильный страх, какой испытывают люди, думая о тюрьме. Этого страшатся больше, чем разлуки с любимыми, потери времени, загубленной карьеры и тому подобного. Я не вполне понимаю, к чему клонил Кларк, считал ли он это пережитком нашего обезьяньего прошлого или же предполагал, что подобная фобия попросту хэллоуиновская маска, скрывающая латентное желание. Но я действительно съеживался от страха при мысли о том, чтобы обслуживать толпу обезумевших заключенных. Есть что-то невероятно жестокое в том, чтобы трахать кого-то в зад. Конечно, отверстие там имеется, и, подозреваю, вполне удобное. Только оно для пользы тела. Это как корчить рожи слепому. Я знаю, тебя все равно в чем-нибудь да заподозрят, что бы ты ни сказал на эту тему. Если скажешь, что тебе нравится анальный секс, решат, что это несколько странно. Если скажешь, что сама идея вызывает у тебя ужас, решат, что это еще более странно. Однако мне пришлось поразмышлять об этом, пока разбиралось мое дело и было не ясно, сочтут меня ненормальным или отправят в тюрьму. Я никогда не был участником, активным или пассивным, какого-либо грубого сексуального действа, даже старый школьный трюк напоить девчонку и воспользоваться ею казался мне безумным и диким, хотя большинству пьяных девчонок только этого и надо.
Однажды мы с Джейд занимались любовью в ее комнате, примерно в тот период, когда нам купили двуспальную кровать, причем занимались любовью так долго, что внутри она стала такой мокрой, что с трудом ощущала себя, а я с трудом ощущал ее. Но по причине уже не физиологической нам необходимо было заниматься любовью и дальше. Неожиданно она перевернулась на живот и встала на четвереньки. Я подумал, что она предлагает войти в нее сзади, поскольку под другим углом влагалище сжимается, создавая иллюзию новизны, и так мы делали уже много раз. Ее спина была мокрая от пота, простыни отсырели. Я сам тяжело дышал, обливался потом, у меня все болело, однако я не хотел останавливаться, мы оба не хотели. На тот момент наши движения, необходимость в них, не имели ничего общего с наслаждением. То была скорее попытка стереть наши тела с лица земли, взорвать, обратив в чистую материю. Это происходило во второй половине дня, ее маленькую комнату заливал теплый свет. И когда она расставила ноги и развернулась спиной, я увидел влагалище, окруженное темно-каштановыми волосами, влажными, топорщившимися кучерявыми пиками. Наверное, я никогда не смогу понять того, что со мной творилось при виде ее тела и почему оно так на меня действовало, однако воздействие было настолько мощным, причем неизменно мощным, что я всегда верил, будто рожден только для того, чтобы смотреть на него, на ее лицо, шею, грудь, гениталии и ощущать жар и любовный порыв, которые не описать никакими словами. Мне казалось, после такого бурного секса эрекция будет так себе, однако, увидев ее сзади, я снова возбудился и тотчас же начал входить в нее. Однако она остановила меня и сказала что-то странное, что-то вроде: «Сунь его в другое отверстие», что-то нетипичное и безумное, однако я все ясно понял. Я не хотел отказывать ей, но страшно разнервничался. Мы никогда не делали этого раньше, но разве можно было препятствовать ей в желании попробовать что-то новое. Поэтому я неловко ткнулся в ее анальное отверстие, приставил член к этому лиловому слепому глазу. Как и в первый раз, когда мы занимались любовью, Джейд пришлось направлять меня, только теперь она указывала мне путь, по которому отказывались идти мой разум и сердце. Я отодвинулся. «Не могу», – сказал я. – Будет больно, должно быть больно». «Ты так думаешь? – спросила она. – Люди постоянно так делают, и не только гомики». Она читала книжку о могиканах – индейцах из – откуда они там? – из Перу? Те снискали дурную славу любителей анального секса, и не только испанские конкистадоры, но и инки обычно карали их смертью, пытаясь заставить их трахаться как положено, однако могикане твердо стояли на своем. Не помню точно, состоялся ли этот урок по антропологии прямо в постели или уже позже. Джейд снова притянула меня к себе и прижала мой член к своему анальному отверстию. Свободной рукой она обхватила подушку и сделала полный выдох, как в гимнастике йогов, словно желая больше раскрыться для меня, только это было бесполезно, потому что ее анус был сжат, словно пупок. Я чувствовал его ошеломленное сопротивление своему натиску. «Видишь?» – сказал я. Однако Джейд твердо верила в логичность своих рассуждений. Она сунула палец во влагалище, смочила его и поводила вокруг ануса. «Попробуй еще раз», – велела она. И почему бы мне для начала не войти в нее как обычно, чтобы тоже стать влажным? Какая смекалка! Я ощущал, как во мне нарастает сексуальный ужас. Откуда такая решимость? С чего вдруг она упрямо желает испытать новые ощущения? Может, мысленно представляет себе, как поддается еще не хоженный проход? Или же где-то в сердцевине нашей любви сохраняются безнадежность и стыд, которые она хочет искоренить? «Я не хочу этого делать», – сказал я, хотя головка члена давила в сморщенную сердцевину лилово-розового ануса. Он понемногу раскрывался для меня. Должно быть, я напирал, не вполне сознавая, что делаю. Ее анальное отверстие подрагивало, как щенок, как маленькое испуганное сердце, и на мгновение я увидел его внутренние стенки, вспышку чего-то прозрачно-алого, яркого, как лава. «Почему нет?» – спросила она. Голос ее звучал приглушенно. Она упиралась лбом в постель. «Не знаю, не в настроении», – ответил я. Или что-то в этом роде. Я слишком устал, чтобы осторожничать. Неожиданно она перекатилась на спину. Серое тощее перышко из подушки прилипло к потной коже между маленькими грудями, она схватила его и повертела в пальцах. «Я думала, тебе понравится», – сказала она. «Нет, сильно сомневаюсь», – сказал я. В животе пульсировало, как будто второе сердце. Я растянулся на постели рядом с ней, обхватив ее руками и положив ногу ей на бедра. «Я к такому не готов. Мне кажется, это плохо. Будет больно. Это неправильно», – произнес я. «Все правильно, – возразила Джейд. – Потому что это ты и я, и мы любим друг друга. Я хотела попробовать так, потому что никто из нас не пробовал раньше. Это было бы только между нами». Мы немного помолчали. До нас доносились привычные звуки их дома. Внизу Сэмми со своими товарищами играл в покер, и они орали друг на друга из-за каждой карты. Страшно подумать, что бы они сделали друг с другом, если бы действительно играли на деньги. Наверху Кит слушал Джоан Баэз, включив звук на полную громкость, отчего ее голос стал похож на голос престарелого пьяницы. «Не пой мне серенад, / Ты разбудишь мою мать». Строчки этой песни кружили в нашем несколько смущенном молчании, и я рассмеялся первым, потом рассмеялась Джейд. Хотя только в будущем, уже после моего выхода из Роквилла, я оценил всю анекдотичность этих слов, когда Энн призналась, насколько ее увлекали наши с Джейд отношения, как она использовала тот жар, который мы порождали, чтобы оживить собственные угасающие страсти.
Доктор Кларк не советовал, однако я повесил на стенку календарь и зачеркивал крестиком каждый прошедший день – через минуту после полуночи, если еще не спал. Я двигался сквозь время с неизбывным ужасом. Оно проносилось слишком быстро, отделяя меня от жизни. Оно едва тащилось, не давая мне приблизиться ко дню освобождения. В этом смысле каждый день становился победой и унижением. Однако часть меня и вовсе отказывалась жить во времени. Что-то во мне сторонилось этих неравных баталий с проходящими днями. Я считал эту часть себя лучшей, самой сокровенной и не собирался посылать ее на безнадежную войну со временем – так здравомыслящий народ не отправляет на передовую своих лучших стратегов или самых тонких поэтов. Весь срок пребывания в Роквилле половина меня отсиживалась в свинцовых стенах бункера вечности.
Как оказалось, моя скрытая в вечности половина души внесла свой вклад в ухудшение моего положения в Роквилле: я не завел ни одного друга, оказался более изолированным, чем следовало, более отделенным от других, чем мне хотелось бы. Одиночество было по большей части разрушительным. В сообществе, состоявшем почти поголовно из людей восприимчивых, мое решение частично отгородиться от реальности нашего совместного бытия постоянно бросалось в глаза: меня избегали, критиковали, высмеивали, игнорировали или, что хуже, гораздо хуже, домогались моего расположения, вызывали на разговор, соблазняли, бросали вызов, дурачили. Мой лечащий врач скрещивал руки на груди и качал головой, слушая меня, и уж не знаю, сколько раз он повторял: «Неважно, Дэвид», когда я выдавал обдуманные, выверенные описания своих переживаний. «Какой у тебя любимый цвет?» – однажды спросил он. «Синий», – ответил я, подумав о Джейд, о ее форменной рубашке, об оттенке чернил в ее последнем письме ко мне. Доктор Кларк подался вперед, придвинув свое маленькое личико к моему лицу – жилка толщиной с детский палец пульсировала на высоком лбу оттенка слоновой кости, будто его сердце и разум были едины, как сиамские близнецы. «Синий?» – переспросил он, и я кивнул, избегая смотреть ему в глаза. «Я тебе не верю», – сказал он, хлопнул себя по коленям и встал. Теперь его руки лежали у меня на плечах, и я отпрянул от него. «Я не верю, что твой любимый цвет синий. Ты даже здесь не можешь сказать правду. Дэвид, а ты вообще умеешь говорить правду?»
Разумеется, я умел говорить правду. Но суть была в том, что я не мог. Меня не было здесь в том смысле, в каком были все остальные. Я не был жертвой «кислоты», не был неуемным обжорой, не принадлежал к тем пациентам, которые верят, будто по ночам подметают газоны, потому что они по ним ходили. Несмотря на всю помощь, какую мне оказывали, чтобы я мог свободно разобраться в своих чувствах, снова стать цельным, выражая словами все, что скопилось в душе, я был помещен в Роквилл не для того, чтобы обрести свое истинное, несломленное «я». Я был здесь по решению суда, я был здесь, чтобы измениться. И я хотел измениться. Однако я знал, что существуют вещи, о которых я не могу говорить. Не могу, если хочу, чтобы Кларк отрапортовал о моей готовности вернуться домой. Не могу признаться, что тайно пишу Джейд письма. Не могу сказать, что это «выздоровление» для меня на самом деле всего лишь шанс отыскать Джейд, отыскать Энн, Хью, Сэмми, Кита, но прежде всего Джейд, отыскать Джейд, снова обнять ее, заставить ее понять, как понял сам, что ничего не изменилось. Я был готов говорить о чем угодно, однако ни разу не сознался, что та часть меня, которую приговорили к изменению, до сих пор жива и безумна, как и прежде.
Моя вера в мою любовь к Джейд как в высшую и непререкаемую истину спасала меня от отчаяния, которое часто запускало когти в сердца многих пациентов, однако эта же вера продлевала мое заточение. Проведя целый год в Роквилле, я все еще был там, и без всякой перспективы скорого освобождения. Тэд Боуэн – он работал бесплатно, отказываясь от денег, которые пытались всучить ему родители, и не обналичивая чеки, которые они присылали ему по почте в контору на Оук-стрит, – несколько раз подавал апелляцию судье Роджерсу, пытаясь добиться смягчения наказания, однако было очевидно, хотя Роуз с Артуром пытались это отрицать, что вопрос моего освобождения из Роквилла всерьез не рассматривался.
Через несколько дней после годовщины моего водворения в Роквилл Роуз с Артуром явились со своим субботним визитом. Была середина сентября. Небо было тронуто первыми серыми мазками, и хотя мягкая роквиллская лужайка для гольфа была еще зеленой, ее лучшие деньки в этом году уже миновали. Я, словно школьник, внимательно следил за сменой времен года. Первый прохладный день всегда заставлял меня вспоминать о чистых тетрадных листах, о добрых намерениях, новых учителях, встрече с товарищами. Поскольку я до сих пор оставался в заточении, меня еще сильнее охватила паника и отчаяние, ведь уже сентябрь. Мир изменился, а я нет.
Роуз с Артуром, появляясь в Роквилле, всегда ощущали себя не в своей тарелке и выглядели жалко. Они, понятное дело, не верили в пользу психотерапии. При их образе мыслей они скорее отправили бы подростка-неврастеника в национальный заповедник охранять природу или заставили бы годик поработать на сборочном конвейере, чтобы заземлить бьющие через край эмоции. А дорогостоящий Роквилл с его неизбежными привилегированными клиентами был изобретен как будто специально для того, чтобы возбуждать в родителях презрение. Кроме того, страдало их эго, как страдает эго всех родителей, чей ребенок посещает психиатра: они были уверены, что я говорю о них всякие гадости. Они опасались, что я рассказал о том, сколько лет они состояли в Коммунистической партии (это я рассказал), что изобразил их жестокими и безразличными (этого я не делал). Они ступали по коридорам Роквилла с неестественной осторожностью, словно воры: я сам примерно так же возвращался по утрам от Джейд. Они приезжали, одетые во что-то неброское, говорили едва ли не шепотом, как будто рядом стоял кто-то еще. Доктор Кларк избегал их, что, с одной стороны, пугало, а с другой – порождало облегчение. Они прочитали книгу Кларка «Отрочество и агония», и она встревожила их. Книга была многословная, афористическая, она имела весьма средний успех. В Роквилле не было ни одного экземпляра, но позже я прочитал ее и с трудом узнал в суровом, скептически настроенном авторе того человека, который лечил меня. Интонации были почти анархические, и он, к примеру, предлагал родителям осуществлять тотальный контроль детей один день в неделю. «Он пишет книги? – как-то спросил я их. – Ну, это точно не ради денег. Он здесь сколотил целое состояние». Это было циничное замечание, которое хотели бы услышать мои родители, и Роуз слегка сжала мне плечо и сказала: «Вот это настрой».
Однако в тот раз Роуз с Артуром были смущены сильнее обычного. Сначала я подумал, что они, как и я, приходят в отчаяние из-за того, что прошел уже целый год, однако что-то в их приглушенных голосах, неловких жестах, в отстраненных, виноватых взглядах заставило меня заподозрить: причина их скорби более конкретна, чем отчаяние. Они казались бесконечно несчастными. А потом в один леденящий, безучастный миг я понял: их скорбь не имеет никакого отношения ко мне, касается только их двоих и связана с гибелью их отношений. Однажды, когда Роуз приехала одна, она мимоходом намекнула, что история с простудой моего отца не совсем правда; а в тот раз, когда Артур приехал без Роуз, он особенно подчеркнул, что без нее мы сможем поговорить более откровенно, более серьезно. Но мы не поговорили. Он свозил меня в город, накормил, а потом повез обратно по пустынной дороге, которую сам «открыл», и позволил мне вести машину. Я пытался напугать его, гоня на закатное солнце, но он только откинулся на сиденье и улыбался, и это было так странно. Любовь дарует нам обостренное понимание для постижения мира, зато гнев дарует точное и беспристрастное восприятие. Я сидел в своей маленькой комнатке на стуле и смотрел на Роуз с Артуром, устроившихся на краешке узкой кровати. Артур теребил покрывало, Роуз копалась в сумочке, и я понимал, что мое отсутствие лишило их последнего повода оставаться вместе.
– У меня есть идея, – начал Артур. – Почему бы нам не отправиться на ту старую ферму, которую мы проезжаем по пути сюда? – Он смотрел на Роуз, но теперь развернулся ко мне. – Она хорошо сохранилась, там ничего не менялось примерно с двадцатых годов восемнадцатого века. Сохранилась оригинальная мебель, вообще все. Должно быть, это интересно.
– Наверное, – отозвалась Роуз.
Она произнесла это слово, хмурясь, как будто хотела, чтобы мы заметили: даже если ей и понравится старый фермерский дом, настроение у нее не улучшится.
– Почему нам надо куда-то ехать? – спросил я. – Это всегда так раздражает. Вы полдня тратите на дорогу сюда, а как только приезжаете, мы садимся в машину и снова едем.
– Мы не обязаны никуда ехать, – ответил Артур. – Такой чудесный денек. Мы можем погулять по окрестностям.
– Я думала, тебе было бы приятно выйти на пару часов, поглядеть на мир вокруг, – добавила Роуз.
– Мне это без разницы. У одного парня, который здесь лечится, дома остался отличный телескоп, и на будущей неделе родители привезут его. Здесь по ночам прекрасная видимость, а все мы знаем, что у меня полно свободного времени, особенно по ночам. Ночи приятные и длинные, ужин у нас в полшестого, чтобы ночью было еще больше времени. Вы даже не представляете себе, сколько его тут у нас, этого времени.
– Ненавижу, когда ты так себя ведешь, – заявила Роуз.
– Как – так?
Она покачала головой.
– Как – так? – повторил я.
– Ты не единственный человек на свете, которого огорчает его нынешнее положение.
– Прекратите, вы оба, – вмешался Артур.
Неожиданно его тонкая психологическая игра сделалась грубее и прозрачнее, чем обычно: как же он любил вставать между мной и Роуз, как будто только благодаря ему мы еще не поубивали друг друга. Это правда, он бесконечное множество раз удерживал нас с Роуз от ссор, однако никогда не пытался сблизить нас. Для него было важно не только прекратить ссору, но и сохранить дистанцию, разделявшую нас с матерью.
– Мне кажется, нам стоит подышать свежим воздухом. Скоро уже зима. – Артур сжал губы и сглотнул ком в горле; он не собирался подчеркивать, что меня ждет еще один сезон взаперти.
– Разумеется, мы же не можем посидеть просто так, – съязвил я. – Не можем поговорить. Вот что всегда изумляло меня в… – Я замолчал, дожидаясь, пока родители забеспокоятся насчет табу, которое вот-вот будет нарушено, – в Баттерфилдах. Есть же семьи, где люди по-настоящему разговаривают друг с другом.
– Это что-то новенькое, – заметила Роуз.
– Ничего новенького тут нет. Ты помнишь то, что помнишь, а я помню то, что случилось на самом деле. В конце концов, у меня была масса возможностей поговорить о прошлом и вспомнить его. Профессиональная помощь, понимаете ли. Баттерфилдам было все интересно друг в друге, не было ничего такого, о чем нельзя сказать. Тебя не просили помалкивать о каких-то вещах, и если ты говорил что-то не совсем приятное, никто не заявлял: «Об этом не следует говорить вслух». Мы постоянно забывали о времени. То я говорил, то Энн, то мальчишки… или еще кто-нибудь. Все говорили и все слушали, и у тебя появлялись идеи, мысли, чувства, какие не появлялись нигде больше, потому что нигде больше тобой не интересовались и не выслушивали.
– Да уж, сильно они тобой интересовались, – бросила Роуз.
– Нет нужды спорить об этом, – вмешался Артур.
– Сборище идиотов, которые носятся со своими чувствами, вот кто они такие, – заявила Роуз, краснея и подаваясь вперед. – Они бы за тебя и пары центов не дали.
– Когда они позволили мне пожить у них, я ощутил, что моя жизнь спасена, – заявил я.
– Что ж, ощутить ты ощутил, однако ошибся. – Роуз помолчала. – Как ты сам понимаешь.
– Ладно, – сказал Артур. – Хватит. – Он всплеснул руками.
– Уж лучше быть здесь, чем стать таким, каким я стал бы, если бы…
– Если – что? – поинтересовалась Роуз.
– Если бы никогда не узнал их. Если бы стал таким, каким вы хотели сделать меня.
– Мы устраиваем представление для всей больницы, – заметил Артур.
Я с яростью грохнул раскрытыми ладонями по столу. Вскочил и опрокинул стул. Я поднял его, и мне показалось, что я могу запустить им в родителей, в окно, в стену. Родители сидели молча. Они смотрели на меня со смесью смущения, отвращения и зависти, какую мы испытываем, когда кто-нибудь дает волю своим самым низменным, самым нерациональным чувствам. Я выпустил стул и шагнул к родителям. Я, конечно же, не собирался причинять им никакого вреда, хотя на миг передо мной возникла картина, как я беру их за плечи и трясу.
– Дэвид, – произнес отец подчеркнуто нейтральным тоном.
Роуз уперлась в пол ногами и откинулась назад, словно пьяный, который старался сесть прямо, но неверно рассчитал угол.
– Я никогда не просил вас ни о чем, – сказал я.
– Дэвид, – повторил Артур, возвращая привычные теплые интонации в голос.
– Я пробыл здесь год, а вы ничего не сделали, чтобы мне помочь. – Я быстро отвернулся от них, пошел обратно к столу и поправил стул.
– Мне кажется, нам надо пройтись, пока стоит такой хороший день, – предложила Роуз.
– Ладно. Езжайте домой. Я хочу, чтобы вы вернулись домой, – сказал я.
– Не говори так, – попросила Роуз.
– Мы не хотим ехать домой, – сказал Артур.
– Тогда поезжайте к кому-нибудь еще. Чтобы не получилось, что вы напрасно проделали такой долгий путь.
Роуз с Артуром переглянулись, и на мгновение я подумал, что они, возможно, обсуждают меня прямо в моем присутствии. Что, разумеется, было вовсе не в их правилах. Я почти никогда не видел, чтобы они в чем-то не соглашались или выказывали замешательство. Управляя нашей маленькой семьей по принципам централизма, они ограждали меня от своих сомнений – капитаны корабля, которому угрожает опасность, подавляют панику среди пассажиров, предлагая рогалики с маслом и делая рабочие объявления.
– Хорошо, – произнесла Роуз с тем вздохом, который обычно знаменует окончание беседы, – надеюсь, ты не собираешься и дальше вызывать в нас чувство вины? Как я уже сказала, ты не единственный человек на свете, который чем-то огорчен.
– Вообще-то, мне наплевать, – заявил я. – Глубоко наплевать.
– Твоя мать имеет в виду, что это дело сказалось на нас так же тяжело, как и на тебе. – Артур покачал головой и опустил глаза: на самом деле он имел в виду вовсе не это.
– Сделайте что-нибудь для меня, – сказал я.
– Наша жизнь стала такой печальной, – произнесла Роуз.
– Сделайте что-нибудь для меня, – повторил я.
– Сейчас не время обсуждать нашу личную жизнь, – сказала Роуз. – И я отказываюсь слушать, если ты и дальше собираешься изображать из себя единственного несчастного человека на свете.
– Ему это известно, – вступился за меня Артур.
– Сделайте что-нибудь для меня, – еще раз повторил я.
Я подумал, не лечь ли на пол и не начать ли распевать эти слова так, как один из санитаров научил меня распевать: «Кока-кола, кока-кола», до тех пор, пока не исчезнут все мысли, пока разум не превратится в лишенное смысла жужжание.
– Сделайте что-нибудь для меня.
– Мы пытаемся, – сказал Артур. – Ты же знаешь.
– Я хочу другого адвоката, – заявил я. – Кто ведет мое дело? Кто пытается вытащить меня отсюда?
– Все зависит от судьи, – ответил Артур. – Сделать можно не так уж много.
– Кто его ведет?
– Тэд, – ответила Роуз. – Ты и сам знаешь.
– Боуэн? – спросил я. – Боуэн – тупица и полный придурок. Он всю жизнь только проигрывал дела. Хорошего же адвоката вы мне выбрали. Адвокат-коммунист, у которого авторитета как у бродячего пса.
– Ты не имеешь права так говорить о Тэде, – возмутилась Роуз. – Этот человек был тебе верен. Пора уже научиться узнавать настоящих друзей.
– Знаю. Я рос на глазах у Тэда Боуэна. Так вот, мне наплевать. Не хочу, чтобы он делал для меня что-то впредь. Разве я не могу прогнать его? Мне уже восемнадцать. И если вы такие чертовски верные, что не можете сказать ему об этом, я скажу ему сам.
– Ты совершаешь ошибку, – сказал Артур. – Тэд очень одаренный юрист.
– Ты вынужден говорить так, – отозвался я.
– Ничто не вынуждает меня говорить так. И иначе тоже.
– Нет, вынуждает. Тебе приходится говорить, что он хороший, потому что он адвокат наподобие тебя.
Я испепелял их взглядом, дожидаясь ответа. Однако они молчали. Они не вздыхали, не пожимали плечами, даже пальцами не шевелили. Их глаза были устремлены в пустоту, футах в трех-четырех левее моего лица: так смотрят люди, на которых кричишь во сне.
Наконец Роуз сказала:
– Как мерзко.
– Дело в деньгах? – спросил я.
– Ты же знаешь, что нет, – ответил Артур.
– Потому что, если дело в деньгах, я достану денег. Дед даст мне. Хороший адвокат обойдется ему дешевле, чем мое содержание здесь. Я хочу самого лучшего. Хочу самого проницательного и настырного, хотя бы с небольшим авторитетом – ради всего святого! – того, кто не сдается за просто так, смеясь над своим поражением. Мне требуется тот, кто умеет дергать за ниточки, оказывать давление и договариваться. Тэд не такой.
– Дэвид, у него прекрасный послужной список, – сказал Артур.
– Только он ничего не делает для меня.
– Ты думаешь, можно нанять человека со стороны и он будет так же предан, как Тэд? – поинтересовалась Роуз. – Человек, который боролся за права других задолго до твоего рождения?
– Не желаю ничего об этом слышать! – Я хлопнул себя по рубахе раскрытой ладонью, жестом простодушным и озлобленным. – Я хочу другого адвоката. Я бы нашел сам, но как я могу? Если вы не сделаете этого для меня… Вы должны это сделать. Скажите Боуэну, что он уволен. Он больше не имеет никакого отношения к этому делу. Когда кто-нибудь в следующий раз заговорит о моем деле, это должен быть адвокат совершенно другого типа, а не пустое место с остатками супа на галстуке. Я хочу самого лучшего. Я хочу выбраться отсюда. Это совершенно несправедливо. Лучше найдите мне другого адвоката, даже если он будет из тех, кого вы ненавидите.