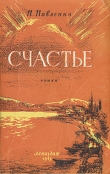Текст книги "Ковалевская"
Автор книги: Соломон Штрайх
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
САЛОННЫЙ НИГИЛИЗМ
Достоевский, по словам его второй жены, признавался, что рад был бы, до знакомства с ней, жениться на «умной, доброй и талантливой, обладавшей высокими нравственными качествами» Анне Васильевне; этому помешали «диаметрально противоположные убеждения». Софья Васильевна передает слова сестры о том, что она очень любила и уважала Федора Михайловича, но любила «не так, как он, не так, чтобы пойти за него замуж». Оба рассказчика несомненно были искренни, писали так, как преломлялись в их сознании слова действующих лиц.
Достоевский якобы не мог жениться на Анне Васильевне, потому что она исповедывала нигилизм. Изложенный выше спор его с Корвин-Круковской о Пушкине и нигилистах происходил тогда, когда во всех русских журналах велась ожесточенная полемика на ту же тему. В этой полемике Достоевский выступил одним из главных застрельщиков со статьей «Господин Щедрин или раскол в нигилистах», появившейся в печати за полгода до его встречи с Анной Васильевной. В раздиравших радикальную журналистику боях Достоевский был противником обеих групп расколовшихся нигилистов, был в том лагере крепостников, реакционеров, славянофильствующих прогрессистов и либералов, которые пытались сделать Пушкина своим союзником' в борьбе с революционным движением. Имея все это в виду, можно понять, как Достоевский негодовал по поводу нигилистических высказываний Корвин-Круковской.
Собственно нигилизмом называли движение 60-х годов дворянское правительство и его прислужники всех оттенков. Жандармы, например, называли участников общественного движения, безотносительно к степени их революционности, «ярыми нигилистами-коммунистами», для которых «нет ничего святого». Идейные руководители движения именовали свое мировоззрение реализмом, а своих последователей – мыслящими реалистами. Враги подхватили прозвище «нигилисты» у И. С. Тургенева, который обозначал Так в романе «Отцы и дети» отрицателей всякого любования внешней красивостью, якобы не признающих чистой любви и готовых разрушать все старое ради одного только разрушения. Но еще до Тургенева, до реакционных защитников старого строя, это слово применил критик Н. И. Надеждин. За 30 лет до появления в свет романа «Отцы и дети» он выступил в печати со статьей «Сонмище нигилистов», где изобразил людей, не признающих никаких руководящих начал в искусстве и литературе. Между тем нигилизм 60—70-х годов, как отмечалось в литературе еще в 1872 году, «был полон веры и потому положительных стремлений». Это было течение, отрицавшее основные установки классово-дворянской культуры: религиозные предрассудки, поддерживавшие невежество; эстетические суждения, устаревшие формы семейной жизни, обусловленной фарисейским церковным браком; мораль, проповедывавшую незыблемость права собственности дворян и фабрикантов и обязанность трудовых масс безропотно работать на помещиков и купцов и т. п. Отрицателями всего этого были разночинцы – выходцы из рядов мелкобуржуазной интеллигенции, к которым примыкали, с одной стороны, редкие представители рабочей и крестьянской среды, с другой – представители так называемого кающегося дворянства, выходцы из помещичьих семей, сознавшие вину своего класса перед трудовым народом. Эта молодежь охотно приняла кличку «нигилисты».
Но, при одинаковом словесном определении своих общественных и политических взглядов, отдельные группы «нигилистов» вкладывали в это слою разное содержание, по-разному осуществляли свое учение. Нигилисты «бурые», вышедшие, главным образом, из разночинной среды, и примкнувшая к ним, отвергавшая все условности буржуазной культуры, часть радикальной молодежи из помещичьих семей – умели преодолеть давление общества. Эти нигилисты выдвинули лучших деятелей русского революционного движения. Они создали партию землевольцев-семидесятников, которых В. И. Ленин еще в 1902 году, в своей знаменитой книге «Что делать?», называл революционерами высшего типа, корифеями революционного движения (Сочинения, т. IV, стр. 442 и след.).
В противоположность «бурым» нигилистам – «чистые», салонные нигилисты, отвергавшие на словах всякие условности, не сумели окончательно порвать со своим классом и со старым бытом. Постепенно перерождаясь под его влиянием, они либо погибали вследствие духовного раздвоения, либо превращались в «кающихся» либералов и объединялись с откровенными реакционерами для борьбы с подлинным народным революционным движением.
После позорного исхода Крымской войны сильно развивавшийся в России торгово-промышленный капитализм заставил правящие классы согласиться на некоторые уступки. Под давлением многочисленных крестьянских восстаний, угрожавших не только собственности помещиков, но и самой их жизни, пришлось отменить так называемое крепостное право, дававшее дворянам возможность распоряжаться личностью, трудом и имуществом крестьян. Разными мошенническими ухищрениями помещики ограбили освобожденных рабов: забрали лучшую землю и назначили большой выкуп за плохие наделы, предоставленные крестьянам. В обмане трудового народа были виновны и либералы. Сначала они требовали всяких свобод для всех слоев населения, но когда увидали, что настоящая народная свобода угрожает их собственности, то испугались и предпочли присоединиться к тем, кто всегда жил за счет крестьян и рабочих.
В. И. Ленин в статье «Пятидесятилетие падения: крепостного права» объясняет такой исход главнейшей буржуазной реформы шестидесятых годов тем, что «народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Крестьянские восстания того Времени остались одинокими, раздробленными, стихийными «бунтами», и их легко подавляли» (Сочинения, т. XV, стр. 108). Говоря в другой статье («Крестьянская реформа и пролетарско-крестьянская революция») о роли либерального буржуазного общества в уничтожении крепостного права и показав, каким образом правящий класс под видом освобождения крестьян сумел ограбить их, В. И. Ленин пишет: «Либералы так же, как и крепостники, стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие революционные мысли об уничтожении этой собственности, о полном свержении этой власти» (Сочинения, т. XV, стр. 143). Либералы пошли на соглашение с дворянским правительством, довольствуясь мелкими уступками в буржуазном духе.
Либеральные круги, получившие от царизма целый ряд незначительных уступок в разных областях жизни все-таки не сумели к концу шестидесятых годов добиться для своих дочерей права получать высшее образование Это рассматривалось, как большая опасность для государственных устоев. Правящие классы феодально-крепостнической России считали совершенно достаточным для женщин умение болтать по-французски, прочитать роман и составить письмо к подруге. Женщинами, достойными приобщиться к тайнам этой премудрости, считались только супруги и дочери помещиков и чиновников. Жены и дочери купцов и мещан обречены были на полное невежество. Крестьяне и рабочие, предназначенные исключительно для обслуживания господ, к науке не допускались; их жены и дочери даже не считались людьми.
Изредка какая-нибудь смелая дочь помещика или разбогатевшего вольноотпущенника из графских управляющих получала разрешение посещать отдельные лекции в университете, но обычно скоро изгонялась из храма науки.
Наиболее решительные уезжали за границу. Им завидовали остальные, как редким счастливцам: девушкам было нелегко вырваться из родительского дома с его теремньм укладом. Замужние находились в более благоприятном положении. Так или иначе девушкам надо было освободиться от бессмысленной и угнетающей родительской опеки. Развились фиктивные браки. Прямо от венца молодые разъезжались: муж к своим прежним занятиям, жена – в Швейцарию или Германию для поступления в университет. «Мы ищем людей, подобно нам горячо преданных делу, которых принципы были бы тождественны с нашими, – писала в 1868 году одна из участниц кружка сестер Корвин-Круковских другой, – людей, которые не женились бы на нас, а освободили бы, сознавая, что мы необходимы, будучи полезны в настоящей обстановке».
Фиктивные браки приводили иногда к тяжелым драмам. Окончив учение, обладательница диплома испытывает потребность в устройстве семейной жизни, но в большинстве случаев у нее с фиктивным мужем нет ничего общего. Хочется соединить судьбу с человеком по сердцу, а получить в царской России развод было еще труднее, чем добиться права на учение. Фактический брак без церковного оформления также причинял обоим супругам страдания бытового порядка, особенно в деле воспитания детей. Попы и полиция отравляли жизнь «гражданской» семьи. Нужна была большая решимость, чтобы выйти замуж фиктивно ради учения или освобождения вообще.
Был момент в деревенской жизни Анны Васильевны, когда она чуть не подпала под влияние настоящего; нигилиста, из «бурых». Сын палибинского приходского священника по окончании семинарии поступил на естественный факультет университета. Приехав в первый же год на каникулы домой, он решил просветить отца и рассказал ему, что человек происходит от обезьяны и что профессор Сеченов доказал, что души нет, а есть рефлексы. Бедный священник в ужасе схватил кропильницу и стал кропить сына святой водой, чтобы выгнать из него беса. Ведя знакомство с помещичьей дочерью, молодой вольнодумец стал и ей внушать свои мысли, старался развить ее и давал ей соответствующую литературу. В. В. Корвин-Круковский, конечно, не знал об этом и смотрел снисходительно на появление молодого человека в его доме. Так было до тех пор, пока попович вел себя почтительно и выказывал уважение к помещику. Став студентом, сын священника решил, что все люди равны, и вздумал явиться к генералу запросто в гости. Василий Васильевич не принял его и выслал; лакея сказать, что «генерал принимает людей, приходящих к нему по делу, и просителей только по утрам, до часу».
Анюта, узнав о происшедшем, прибежала к отцу в кабинет и, задыхаясь от волнения, выпалила: «Зачем ты, папа, обидел Алексея Филипповича?! Это ужасно, это недостойно так обижать порядочного человека». Отец глядел на дочь изумленными глазами и в первую минуту даже не нашелся, что ответить дерзкой девчонка Но Анютин припадок смелости выдохся так же быстро, как и возник, и она поторопилась убежать в свою комнату. Встречаясь после этого с поповичем, Анюта под влиянием разговоров с ним и чтения; доставляемых им книг решила осуществить проповедуемые им идеи. Она стала одеваться в простые черные платья, с гладкими воротничками, стала зачесывать волосы назад, под сетку. О балах и выездах говорила с пренебрежением. Затем Анна Васильевна стала учить дворовых ребятишек грамоте и подолгу разговаривала с деревенскими бабами. В это же время она объявила отцу о Своем желании учиться, но сравнительно спокойно подчинилась его отказу.
Вывозя жену с дочерьми на зимние месяцы из витебского захолустья в Петербург, Василий Васильевич не сумел уследить за всеми знакомствами Анюты. За шумом танцев, на глазах у занятых картами родителей дочери спесивых помещиков сговаривались с молодыми людьми о своих делах. Им достаточно было, как рассказывала впоследствии С. В. Ковалевская, намека, взгляда, жеста, чтобы понять друг друга и узнать, что они находятся среди своих, а не среди чужих. И когда они убеждались в этом, то чувствовали себя счастливыми от сознания, что с ними находится молодой человек, с которым, быть может, раньше и не встречались или едва обменивались несколькими незначащими словами, но который одушевлен теми же идеями, теми же надеждами, тою же готовностью жертвовать собою для достижения известной цели.
Личные отношения с Достоевским не помогли Анне Васильевне сделаться заправской писательницей. После петербургских встреч с Федором Михайловичем писательское вдохновение больше не посещало ее. Опять она читала разные философские книги, угрюмо шагала по комнатам, мечтала об освобождении от родительского гнета и умилялась решимости знакомых барышень, уходивших из сшей в коммуны. О том, чтобы самой последовать их примеру, и мысли не было. Так никогда, может быть, она и не справилась бы с отцовским засильем.
Меньше всего ждала Анюта помощи оттуда, откуда она явилась. Из девочки, смотревшей на все глазами старшей сестры и перед ней благоговевшей, Софа стала девушкой с характером твердым и самостоятельным целеустремленным и настойчивым. В этом сказалось влияние воспитательной системы мисс Смит.
Софа казалась тогда моложе своих восемнадцати лет, и детская наружность доставила ей среди знакомых прозвище воробышка. Но этот воробышек обладал большой нравственной силой. Маленького роста, худенькая, с круглым личиком и коротко остриженными вьющимися волосами каштанового цвета, с необыкновенно выразительным и подвижным лицом, с глазами, постоянно менявшими выражение, то блестящими и искрящимися, то глубоко мечтательными, Софа, по словам одной из ее тогдашних подруг, представляла оригинальную смесь детской наивности с глубокою силою мысли. Она привлекала своей безыскуственною прелестью сердца всех – старых и молодых, мужчин и женщин. Глубоко естественная в обращении, без тени кокетства, Софья Васильевна как бы не замечала производимого ею впечатления. Она не обращала внимания на свою наружность и туалет, который был очень прост с примесью некоторой беспорядочности, не покидавшей С. В. всю жизнь.
Анюта рассказала Софе, что вот-де такая-то и такая-то девицы вышли фиктивно замуж и теперь имеют возможность учиться. Младшая сестра ухватилась за эту идею и уговорила старшую искать кандидатов в женихи. Не важно, кто будет: лишь бы согласился немедленно после венчания оставить жену в покое, не заявлять никаких прав на нее. Конечно, жениха надо искать для Анюты.
Родители ни за что не позволят Софе выйти замуж раньше старшей сестры. К тому же Софа и не собиралась еще замуж, даже фиктивно.
Софья Васильевна уже рисовала себе в мечтах «хорошую и полезную» жизнь, непременно вдвоем с Анютой и непременно «аскетическую».
Когда Софья Васильевна думала об аскетизме, ей представлялась маленькая, очень бедная комнатка в Гейдельберге, очень трудная, серьезная работа и полное отсутствие общества. Два раза в неделю получаются письма от Анюты, которая очень занята, но также готовится к отъезду в Гейдельберг, куда привезет несколько других барышень, которых развила и освободила. В этой «аскетической» обстановке Софа готовится к экзамену и пишет диссертацию. Анюта приводит в порядок свои путевые заметки. Затем Софья Васильевна едет в Сибирь, где находит «пропасть трудностей, разочарований, но пользу непременно» принесет. Потом Анюта пишет «замечательное сочинение», а Софе удается сделать открытие. Они устраивают женскую и мужскую гимназию; имеют «свой» физический кабинет. Возле обеих собирается целая семья «освобожденных» генеральских дочерей.
«Ну, чем эта жизнь не блаженство? А ведь это самая аскетическая жизнь, которую я могла придумать, и она зависит только исключительно от нас двоих», – умиляется Софья Васильевна.
ФИКТИВНЫЙ БРАК
Всю зиму и весну 1868 года Анна Васильевна безуспешно искала подходящих кандидатов в фиктивные мужья. Наконец, ее познакомили с В. О. Ковалевским. Сын бедного помещика из обруселых поляков, родившийся в 1843 году, Владимир Онуфриевич Ковалевский провел невеселое детство в отцовской деревне Шустянке, Динабургского уезда, Витебской губернии, так как между родителями его были нелады. Отец стремился направить будущее сыновей по своему пониманию и в раннем детстве поместил их в дорогостоящие пансионы.
Младшего сына, Владимира, отец отдал в петербургский пансион англичанина Мегина, где воспитывались сыновья крупнопоместной знати и столичной аристократии. Здесь Владимир Онуфриевич приобрел то глубокое и серьезное знание новых европейских языков, которое впоследствии дало ему возможность изучать в подлинниках иностранную научную литературу и писать свои выдающиеся палеонтологические исследования сразу по-французски, по-немецки и по-английски. Кроме того, он знал, как свои родные, языки и польский и русский, в Школе изучил латинский, а в зрелом возрасте – итальянский. Отец хотел устроить сыновей так, чтобы они по завершении образования могли сделать хорошую жизненную карьеру. Для этого старшего, Александра, по окончании пансиона он определил в петербургский институт инженеров путей сообщения, рассчитав, что при развитии железнодорожного строительства знания инженера будут хорошо оплачиваться и должность его будет чрезвычайно прибыльной. Владимира же отец сумел, при содействии высокопоставленных покровителей, устроить в училище правоведения, готовившее крупных администраторов.
Владимир Онуфриевич Ковалевский учился вместе с целым рядом будущих государственных деятелей царской России – министров, сенаторов, губернаторов и тому подобных больших ловцов чинов, наград и всяких материальных благ. Сам он, однако, пошел совсем другим путем. Еще в младших классах училища Ковалевскому приходилось прирабатывать на свои расходы помощью в приготовлении уроков, в писании сочинений и другими услугами состоятельным, но малоспособным товарищам. После смерти жены дела Ковалевского-отца дошли совсем плохо, и ему пришлось прекратить всякие денежные выдачи сыновьям. Владимир Онуфриевич помог себе сам: в 15-летнем возрасте он сумел добиться «перевода с собственного содержания на казенное, проявив при этом незаурядную практическую сметку, удивившую товарищей. В последних классах училища В. О. Ковалевский усердно и успешно занимался переводами „самых разнообразных книг с иностранных языков на Прусский, работая на гостиннодворских и апраксинских. издателей.
В конце пятидесятых годов А. О. Ковалевский, вопреки запрещению отца, оставил инженерный институт и поступил на естественное отделение петербургского университета. Приходивший к нему в отпускные дни
Владимир Онуфриевич, под влиянием брата и его товарищей, стал интересоваться естественными науками, постепенно отдаляясь от своей юриспруденции. Он хотел даже оставить училище правоведения, но не сумел выйти из подчинения отцовской вше. Как ни мало времени уделял В. О. Ковалевский учебным занятиям, он, благодаря своим природным способностям, отлично сдавал переходные экзамены и окончил в 1861 году курс по первому разряду. Это давало ему возможность получить хорошее служебное место, успешно продвигаться в чиновной иерархии, делать карьеру. В. О. Ковалевский предпочел другое. Обязанный за свою стипендию отслужить некоторое число лет по указанию начальства, он поступил в мае 1861 года в сенат, а в толе уже взял отпуск за границу для лечения болезни.
Еще правоведом Владимир Онуфриевич сблизился с петербургскими студентами и через них с радикально-революционными Кружками. По окончании курса он эти связи расширил и углубил. Таким образом, Ковалевский был в дружеских отношениях с поэтом М. Л. Михайловым, писателями Н. В. Шелгуновым, В. А… Зайцевым, польским революционером П. И. Якоби, руководителями студенческого движения Е. П. Михаэлисом, С. И. Ламанским, Л, Ф. Пантелеевым. Отправившись за границу для лечения, В. О. Ковалевский поездил по Германии, Италии и Франции и, наконец, обосновался в Лондоне. Здесь он познакомился с А. И. Герценом, стал вхож к нему, давал уроки его второй дочери, Ольге. Не вернувшись в срок из отпуска, Ковалевский просил продления его по болезни; начальство отказало и уволило Владимира Онуфриевича со службы, обязав его по выздоровлении отбыть свой срок по ведомству юстиции. За исполнением этого не следили.
Первое время лондонской жизни Ковалевский продолжал еще занятия юридическими науками, начал даже писать специальное сочинение из области права. Скоро он увлекся освободительным движением и решительно порвал с правоведением. В начале 1863 года Ковалевский отправился вместе с П. И. Якоби в русскую Польшу. Оба участвовали в польском восстании. Якоби был ранен, Владимир Онуфриевич отделался благополучно в медицинском и полицейском отношениях. По крайней мере, нет известий об осведомленности жандармов относительно этой стороны деятельности Ковалевского.
Вернувшись в 1863 году в Петербург, В. О. Ковалевский снова принялся за переводы и сам втянулся в издательскую деятельность. Увлечение естествознанием вызывало большой спрос на соответственную литературу. Целые организации занимались распространением ее для пропаганды материалистических идей. Владимир Онуфриевич издавал книги исключительно с пропагандистскими целями. За два-три года он выпустил много сочинений западноевропейских ученых: Брэма, Фохта, Келликера и других – по физиологии, анатомии, физике, химии, зоологии. Несмотря на значительный элемент фактической изворотливости в его характере, Владимир Онуфриевич оставался все время типичным шестидесятником, альтруистом и освободителем. П. Д. Боборыкин хорошо знал тогда Ковалевского и сообщает, что еще студентом-правоведом он поражал своей любознательностью, легкостью усвоения всех наук, изумительной памятью, бойкостью диалектики.
Продолжались также сношения В. О. Ковалевского с «радикальными и революционными кружками, которым он оказывал содействие, но прямого участия в их, деятельности не принимал. К этому времени относится; сближение В. О. с радикально-научными кругами в лице И. М. Сеченова, П. И. Бокова, Н. Д. Ножина. Откликаясь на все веяния эпохи, Ковалевский в середине шестидесятых годов снова поехал в Европу, чтобы участвовать в походе Гарибальди за освобождение Италии, и находился все время среди ближайших помощников самого вождя. С поля сражения он посылал корреспонденции в «Петербургские ведомости» о ходе военных операций и о продвижении освободительной армии.
В это же время начинаются злоключения В. О. Ковалевского. Сначала возникли, затруднения в издательских делах. Книг он выпустил много и все в кредит: под векселя добывал бумагу и печатал, векселями же платили ему книгопродавцы, а переводчиков и авторов Ковалевский удовлетворял своими изданиями по удешевленной цене. Когда волна увлечения естествознанием схлынула, книги стали залеживаться на складах, книгопродавцы объявляли себя банкротами, издателям стали отказывать в кредите. Владимир Онуфриевич пустил в ход всю свою предприимчивость, но при совершенном отсутствии в его характере коммерческой выдержки и настойчивости, изворотливость еще больше расстраивала его дела.
Затем произошла какая-то история между В. О. Ковалевским и его невестой, Марией Петровной Михаэлис. Она также вращалась в радикальных кружках и в день гражданской казни Н. Г. Чернышевского, 19 мая 1864 года, участвовала в демонстрации в честь осужденного писателя. За это она была арестована и выслана из Петербурга под надзор полиции на год. По возвращении Марии Петровны в столицу, была уже назначена свадьба ее с В. О. Ковалевским, но, как рассказывает сестра невесты, Л. П. Шелгунова, «часа за два до венчания, перед тем, чтобы одеваться, жених и невеста завели какой-то разговор, после чего пришли к матери и заявили, что свадьбы не будет, что они расходятся». Однако, разрыв между Ковалевским и Марьей Петровной не повлиял на его отношения ко всей семье Михаэлис. Не только Л. П. Шелгунова сохранила с ним дружбу, но и мать ее, женщина строгих принципиальны» взглядов, попрежнему уважала Ковалевского и готова была помогать ему в его личных делах. Между прочим, через несколько лет она соглашалась укрыть у себя в деревне С. В. Корвин-Круковскую, когда В. О. Ковалевский предполагал увезти ее из Палибина в случае отказа отца выдать ее замуж прежде старшей сестры.
Когда В. О. Ковалевский узнал, что необходим фиктивный жених для освобождения А. В. Кррвин-Круковской от родительского гнета, он предложил свои услуги, но кандидат в освободители показался ей непривлекательным с точки зрения внешней красоты. Наружностью жених был неказист: тщедушный, рыжеватый, с большим мясистым носом, Владимир Онуфриевич вероятно никогда не обратил бы на себя внимания сестер Корвин-Круковских. Они, не заметили бы его добрых, умных и живых глаз, большого белого лба и того поистине братского отношения к женщинам, которому он оставался верен всю свою жизнь. Но последнее качество и делало Ковалевского особенно ценным для роли фиктивного мужа.
Хуже обстояло с материальными средствами Ковалевского и с его положением в свете. Правда, Владимир Онуфриевич – настоящий дворянин и окончил училище правоведения; многие товарищи его по школе занимают видные служебные посты. Но сам он службу в сенате давно бросил и занимается не дворянским делом: переводит и печатает книжки о зарождении человека, о свободе женщины, о силе и материи, о происхождении Земли. Выгоды от них никакой, а других средств к жизни нет: имение у Ковалевского общее с братом и дает очень мало дохода. Главное все-таки есть: дворянское звание и поместье. Сестры надеялись уладить остальное: родители должны, наконец, понять что не век же сидеть Анюте в девушках!
Препятствие возникло с другой стороны. Когда Анюта познакомила Ковалевского с Софой, он заявил, что женится только на младшей. Он согласен быть фиктивным мужем и не будет стеснять жены, но если требуется жертва для освобождения девушки от родительского гнета, то пусть это будет, по крайней мере, с пользою для науки. А Софья Васильевна так страстно хочет учиться и любит естественные науки, которые влекут к себе и самого Ковалевского. Анюта совсем растерялась при таком обороте дела. Софа сказала, что все уладит: добьется согласия родителей на свой брак с Ковалевским и убедит их отпустить старшую сестру за границу с нею, как с замужней женщиной. Так и порешили.
Раньше всего нужно было официально познакомиться с Владимиром Онуфриевичем в гостиной у людей, занимающих видное общественное положение, затем сказать родителям об интересной встрече и представить им нового знакомого. Ковалевский взялся устроить встречу с сестрами Корвин-Круковскими в обстановке, приемлемой для их родителей. Пока виделись тайно у знакомых, причем Анюта и Софа говорили родным, что идут в церковь.
В. О. Ковалевский старался ускорить освобождение сестер Корвин-Круковских, но встречал различные препятствия. В апреле 1868 года он писал Софье Васильевне, что «дело официального знакомства устраивается не так легко, как казалось вначале». Владимир Онуфриевич выражал радость по поводу знакомства с ними. «Право, – писал Ковалевский, – знакомство с вами заставляет меня верить в сродство душ, до такой степени быстро, скоро и истинно успели мы сойтись, и, с моей стороны, по крайней мере, подружиться. Последние два года я от одиночества, да и по другим обстоятельствам, сделался таким скорпионом и нелюдимым, что знакомство с вами и все последствия, которые оно необходимо повлечет за собою, представляются мне каким-то невероятным сном. Вместо будущей хандры у меня начинают появляться хорошие, радужные ожидания, и как я ни отвык увлекаться, но теперь поневоле рисую себе в нашем общем будущем много радостного и хорошего».
Сделаться «скорпионом» и «впасть в хандру» Ковалевского заставили обстоятельства, изложенные выше, и те, о которых будет сказано впоследствии. Обнаруженное Владимиром Онуфриевичем сродство душ с младшей Корвин-Круковской окрылило его радостными надежами. «Вам следует смотреть теперь на меня не как на человека, оказывающего вам услуги, – пишет он Софье Васильевне, – а как на товарища, который сообща с вами стремится к одной цели. Я даже придумал исход для Анны Васильевны, если бы наша свадьба не освободила ее, – кажется, все наши расчеты составлены верно, не надо только торопиться, чтобы не испортить дела; а это будет слишком тяжелый удар, если бы все счастье, которое так несомненно, рушилось от неосторожности». В этом же письме Ковалевский высказывает свой взгляд на литературные упражнения Анны Васильевны, которой «необходимо продолжать писать, но вместе с тем приняться за серьезное изучение иностранных литератур и сочинений великих критиков, особенно английских; только такой серьезный труд может сделать человека истинно хорошим беллетристом. Все великие даже таланты совсем не изливали своих хороших произведений вдруг, как бы по вдохновению, но сильно работали над своими произведениями».
Когда Софа рассказала матери, что любит В. О. Ковалевского и хочет выйти за него замуж, добрая и мягкосердечная Елизавета Федоровна противилась недолго. Для убеждения отца пришлось прибегнуть к более решительному средству. Владимир Онуфриевич писал брату в мае 1868 года, вскоре после знакомства с родителями Софьи Васильевны, что «мать хорошая женщина и. была очень рада этому исходу, более всего с романтической стороны». Отец, хоть и сказал, что «очень доволен», но «решил во что бы то ни стало расстроить свадьбу, так как думает, что дочери его должны выйти чуть не за князей». «Будучи вежлив наружно, – писал Ковалевский из Петербурга брату, – он зол в душе до бешенства, и это все усиливается с каждым днем. Часто говоря со мной любезно, я вижу, что у него губы дрожат от злости, тем более, что мы ведем себя так, как будто никаких сомнений относительно брака и существовать не может, а он рвет себе наедине волосы, что его дочь вешается на шею и не умеет вести себя. Господин этот – страшный аспид, он был артиллерийский генерал, надут и злобно желчен до невероятия; житье бедным девочкам неистовое, и я, конечно, не обольщая себя, уверен, что желание вырваться вероятно повлияло с своей стороны на развитие привязанности ко мне – человеку другого круга».
Василий Васильевич пригласил. Ковалевского в деревню для лучшего знакомства с Софой, а «затем, узнавши друг друга, всегда успеем сыграть свадьбу». Но так как заговорщики понимали, что в деревне, где отец чувствует себя царем, он круто переменит свое отношение к жениху и выживет его из дому, то послали ему в Палибино письмо с требованием решительного согласия и назначения дня свадьбы. В случае отказа со стороны отца, Софа решила просто уехать с Ковалевским. Она понимала, что отец посердится с год и лишит ее средств к жизни, но это было «все равно» и ей, и (фиктивному жениху: не в деньгах счастье. Кроме того Елизавета Федоровна обещала свою поддержку.
Владимир Онуфриевич, соглашаясь на фиктивный брак с младшей Корвин-Круковской, сам того не замечая, увлекся ею. В письме Ковалевского к брату о достоинствах Софьи Васильевны это прорывается помимо его воли и сознания, «Ты не думай, – писал он А. О. Ковалевскому про обеих сестер, – чтобы это были просто девочки с хорошими намерениями или желаниями (ими же вымощен ад), но это сильно работящие и замечательно развитые существа». Сообщив, что старшая написала несколько повестей, в которых даже при «строгом отношении нельзя не узнать положительного таланта», Владимир Онуфриевич переходит к дарованиям младшей: «Мой воробышек – такое чудное существо, что я и описывать ее не стану, потому что ты естественно подумаешь, что я увлечен. Довольно тебе того, что Марья Александровна (жена известного физиолога И. М. Сеченова.—С. Ш.), великий женоненавистник, после двухкратного свидания решительно влюбилась в нее, а Суслова (Н. П. – первая женщина-врач.—С. Ш.) не может говорить, не приходя в совершенный восторг… Несмотря на свои 18 лет, воробышек образована великолепно, знает все языки, как свой собственный, и занимается до сих пор, главным образом, математикой. Работает, как муравей, с утра до ночи и при всем этом жива, мила и очень хороша собой. Вообще, это такое счастье свалилось на меня, что трудно себе и представить».