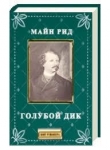Текст книги "Оставить голубой дом"
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Беллоу Сол
Оставить голубой дом
Сол БЕЛЛОУ
ОСТАВИТЬ ГОЛУБОЙ ДОМ
Перевод Л. Беспаловой
Соседи – а на озере Сиго-Дизерт и всего-то жило шестеро белых судачили между собой: мол, старуха Хетти не может больше жить одна. Жизнь в пустыне, пусть даже в доме есть печь с усиленной тягой и газ доставляют из города, ей уже не по силам. Были в округе женщины и постарше Хетти. Километрах в тридцати жила Эми Уолтерc, вдова старателя. Но та была двужильная старуха, не чета Хетти. Каждый Божий день она окуналась в холодное как лед озеро. Вдобавок Эми помешалась на деньгах, знала им счет, чего никак не скажешь о Хетти. Хетти была не то чтобы пьянчуга, но она крепко прикладывалась к бутылке и теперь попала в беду, а соседи, пусть даже и самые что ни на есть хорошие, не могут помогать бесконечно, всему есть предел.
Соседи тем не менее любили Хетти. Да ее и нельзя было не любить. Бодрая толстуха, кичливая и уморительная хвастунья с круглой сутулой спиной и довольно длинными, плохо гнущимися ногами. Она окончила пансион для благородных девиц в Париже еще в прошлом веке, после чего училась играть на органе. Но теперь не сумела бы отличить фугу от сковородки. За канастой она склочничала. Остатки тонких светлых волос обрамляли ее лоб седыми кудерьками. Лоб у нее был не сказать чтобы морщинистый, но голубоватого, точно снятое молоко, оттенка. Ходила она, несмотря на массивные бедра, размашистым шагом, демонстрируя резиновые подошвы плоских туфель; ссутулясь, раздвигала плечами воздух.
Раз в неделю она, все так же бодро, энергично, но с отсутствующим видом, стаскивала юбчонку, замызганную летчицкую куртку с вязаным воротником и влезала в грацию, платье и туфли на каблуке. Когда она взгромождалась на высокие каблуки, ее расплывшееся старое тело сотрясалось. Она нахлобучивала коричневый рембрандтовский берет, к которому аккуратнейшим образом прикалывала в самом центре похожую на глаз грошовую брошку. Рисовала помадой на губах прямую линию, оставляя часть верхней губы незакрашенной. И вела свой допотопный – точь-в-точь орудийная башня драндулет, казалось бы, педантично, а на самом деле рискованно превышая скорость, шестьдесят километров по гористой пустыне, чтобы купить замороженные мясные пироги и виски. Заходила в прачечную самообслуживания, парикмахерскую, затем обедала с двумя мартини в "Арлингтоне". После чего частенько заглядывала в "Серебряный рудник", гостиницу Мэриан Нейбот на Миллер-стрит, граничащей с районом трущоб, и до вечера чесала язык и выпивала со своими подружками, такими же старыми разводками, обосновавшимися на Западе. За карты Хетти дала себе зарок больше не садиться, а кино ее не увлекало. В пять часов она мчала на той же бешеной скорости домой – спокойно и из-за табачного дыма почти вслепую. Она не выпускала сигареты изо рта, и глаза у нее слезились.
Из белых у озера Сиго по соседству с ней жили только Рольфы и Пейсы. Жил тут еще и Сэм Джервис, но кто он был – всего-навсего старый дорожник, выполнявший для нее кое-какие работы по саду, и его она в счет не брала. Не брала она в счет как соседа ни Дарли, который работал ковбоем на ранчо у Пейсов, ни шведа-телеграфиста. Пейс держал ранчо-пансионат для городских пижонов, а Рольф с женой были люди состоятельные и жили на покое. Итак, на озере Сиго было три хороших дома – голубой дом Хетти, дом Пейсов и дом Рольфов. Остальные окрестные жители – Сэм, Швед, Уотчта-штейгер, мексиканцы, индейцы, негры – ютились в хибарах и фургонах. Деревьев здесь было мало, одни тополя и клены. Что касается остальной растительности, то вплоть до самого берега тянулись лишь кусты полыни и можжевельника. Некогда эти вулканического происхождения горы накрывало море; теперь от него осталось только озеро. На севере находились вольфрамовые рудники, на юге, в двадцати километрах от озера, раскинулась индейская деревенька – кучка сколоченных из фанеры или шпал хибар.
В этом пустынном краю Хетти прожила двадцать с лишним лет. Первое свое лето здесь она провела не в доме, а в индейском вигваме на берегу. Она обычно рассказывала, что любовалась звездами, не выходя наружу, – у вигвама практически не было крыши. После развода она сошлась с ковбоем по имени Уикс. Денег ни у нее, ни у него не водилось – была депрессия, и они поселились в пустыне, жили тем, что ловили койотов. А раз в месяц ездили в город, снимали там комнату и пускались в загул. Хетти повествовала об этом печально, но и не без умиления, и рассказы свои уснащала всевозможными прикрасами. Все, что происходило с ней, она преображала.
– Как-то раз нас застигла буря, – рассказывала она. – Мы на всех парах помчались к озеру, постучались в дверь голубого дома, – нынешнего ее дома, – Алиса Парментер впустила нас и уложила спать на полу.
На самом деле никакой бури не было – просто поднялся ветер, да и находились они неподалеку, и Алиса Парментер, зная, что Хетти и Уикс не женаты, предложила постелить им отдельно, но Хетти из бравады громко сказала:
– Зачем пачкать лишнее белье?
И спала со своим ковбоем на Алисиной кровати, Алиса же ночевала на диване.
Потом Уикс уехал. В постельном деле ему не было равных: он вырос в борделе, и девушки научили его всем штукам, рассказывала Хетти. Она не вполне сознавала, что несет, но, по ее представлениям, так полагалось вести себя западной косточке. Пуще всего ей хотелось сойти за бывалую бой-бабу с Запада. И в то же время она оставалась дамой – этого у нее не отнимешь. Отменные серебро и фарфор, дорогая почтовая бумага, но на книжных полках в гостиной стояли банки консервированной фасоли, тунца, бутылки с кетчупом и другими приправами, фруктовые салаты. На ночном столике у кровати лежала Библия, подарок ее богобоязненного братца Энгуса – другой ее брат был сорвиголова, – но за дверкой тумбочки хранилась бутылка пшеничного виски. Ночью, если не спалось, Хетти потягивала виски, пока не заснет. В "бардачке" своей допотопной машины она держала пробные бутылочки виски мало ли что случится в дороге. Их после аварии обнаружил старик Дарли.
Авария произошла не черт-те где в пустыне, чего Хетти всегда боялась, а поблизости от дома. Как-то вечерком она пропустила несколько стаканчиков мартини с Рольфами и, возвращаясь домой, потеряла управление на железнодорожном переезде, съехала на рельсы: на нее напал чих – такое она давала объяснение, – она зажмурилась, и руль вывернулся. Мотор заглох, и машина всеми четырьмя колесами угодила на рельсы. Хетти сползла на железнодорожное полотно, дверца машины повисла высоко над ним. Леденящий страх охватил Хетти – страх за машину, за свое будущее, и если б только за будущее, – нет, он уходил корнями в прошлое, – и, с трудом сгибая ноги, она торопливо заковыляла через полынные заросли к ранчо Пейсов.
Пейсы, как на грех, уехали охотиться, оставив дом на Дарли; он хозяйничал в баре, размещавшемся в домишке, построенном чуть не сто лет назад, когда туда ворвалась Хетти. В баре сидели двое – горняк с вольфрамового рудника и его подружка.
– Дарли, со мной приключилось несчастье. Помоги мне. Я попала в аварию, – сказала Хетти.
Стоит женщине обратиться к мужчине за помощью, и он меняется в лице! Усохший старикашка Дарли не был исключением: глаза у него потускнели, посуровели, желваки задвигались, изрезанное морщинами лицо налилось кровью.
– В чем дело? – сказал он. – Опять с тобой что-то стряслось?
– Машина засела на рельсах. На меня чих напал. Я потеряла управление. Дарли, отбуксируй меня. Твоим пикапом. А то скоро поезд пойдет.
Дарли отшвырнул полотенце, затопотал ковбойскими сапожками на высоких каблуках.
– Ну что еще ты натворила? – сказал он. – Говорил же тебе: стемнеет сиди дома.
– Где Пейс? Позвони в пожарный колокол, пусть Пейс вернется.
– Я на ранчо один, – сказал усохший старик. – А бар закрывать не положено, и тебе это известно не хуже меня.
– Ну пожалуйста, Дарли, не могу же я оставить машину на путях.
– Это не моя забота, – сказал он. Из-за стойки тем не менее вышел. Как, говоришь, это случилось?
– Я же сказала – на меня напал чих, – ответила Хетти.
Все они, Дарли, горняк, подружка горняка, как потом рассказывала Хетти, были пьяны вусмерть. Дарли, припадая на одну ногу, запер бар. Год назад одна из Пейсовых кобыл саданула его копытом по ребрам, когда он загружал ее в автоприцеп, и он так и не оправился. Стар стал. Но недуги свои скрывал, бодрился. Ходил в сапожках на высоких каблуках, а скрюченную от боли спину приписывал обычной для ковбоев сутулости. Дарли, однако, не был настоящим ковбоем, вот Пейс, тот вырос в седле. Дарли приехал с Востока не так давно и впервые сел на лошадь в сорок. В этом плане они с Хетти были два сапога пара. Пришлые.
Хетти торопливо ковыляла за ним по двору ранчо.
– А, чтоб тебе! – сказал Дарли. – Этот сосунок уже выложил тридцать монет и, если бы ты не лезла куда не надо, оставил бы тут и всю получку. Ух Пейс и обозлится.
– Ты должен мне помочь. Мы как-никак соседи, – сказала Хетти.
– Здешняя жизнь не для тебя. Ты с ней уже не справляешься. Мало того, ты еще всю дорогу под градусом.
Хетти хотела было огрызнуться, да не посмела. От одной мысли, что машина стоит на путях, у нее мутилось в голове. Если товарняк раздавит машину, ее жизни на озере конец. И куда ей тогда деваться? Она не справляется со здешней жизнью. И никогда не справлялась – куда там, это все была одна показуха. Ну а Дарли – почему он говорит ей такие обидные вещи? Да потому, что ему самому стукнуло шестьдесят восемь, а податься некуда; Пейс им помыкает, а он все сносит. Дарли не уходит от Пейса, потому что у него отсюда одна дорога – в солдатский приют. Плюс к тому приезжие дамочки все еще лезут к нему в постель. Вынь им да положь ковбоя, и Дарли сходит у них за ковбоя. А Дарли и с кровати-то поутру с трудом встает. В любом другом месте ни одна баба на него и не посмотрит. "В конце сезона, – так и подмывало Хетти сказать, – ты всякий раз вынужден ложиться в ветеранский госпиталь, чтобы тебя привели в порядок". Но поостереглась ехидничать – не то время.
Луна должна была вот-вот взойти. Она поднялась, когда они катили по ухабистой грунтовой дороге к переезду, где застряла на путях смахивающая на орудийную башню машина Хетти. Дарли, развернув на большой скорости пикап, обдал грязью ехавших следом горняка с подружкой.
– Садись за руль и крути баранку, – сказал Дарли.
Хетти перебралась в свою машину. Вцепившись в руль, возвела глаза к небесам и сказала:
– Господи, не дай мне погнуть мост или пробить картер.
Когда Дарли залез под бампер Хеттиной машины, ребра пронзила такая боль, что у него перехватило дух, и он закрепил буксир как есть, вместо того чтобы сдвоить. Поднялся и засеменил в своих тесных сапожках назад к пикапу. Только ходьба разгоняла боль; выпивка и та больше не помогала. Он подсоединил трос и дернул. Хеттина машина, лязгнув рессорами, встала боком на полотно. Хетти, разъяренная, перепуганная, сконфуженная, газовала, пока не забросало свечи.
Горняк крикнул:
– У вас трос слишком длинный.
Машина задрала нос. Чтобы выйти, пришлось опустить стекло; ручку изнутри заело уже Бог знает сколько лет назад. Хетти, с трудом выбравшись из окна, завопила:
– Давай я позову Шведа. Давай я попрошу его дать сигнал. С минуты на минуту пойдет товарняк.
– Валяй, – сказал Дарли. – От тебя так и так проку нет.
– Дарли, ты уж будь поосторожней с моей машиной.
Плоское дно древнего моря здесь углублялось, и свет от фар Хеттиной машины, пикапа и "шевроле" горняка, мощный, яркий, был виден и за тридцать километров. Хетти напрочь об этом забыла – так перепугалась. Думала только о том, что она, старая размазня, вечно волынит: собиралась бросить пить, да все откладывала, а теперь разбила машину – страшный конец, страшная расплата, и поделом. Ступила на землю и, подобрав юбку, полезла через трос. Желая доказать, что трос сдваивать не надо и чтобы побыстрее развязаться, Дарли снова рванул пикап вперед. Трос дернулся, хлестанул Хетти по ноге, она упала и сломала руку.
Закричала:
– Дарли, Дарли, я зашиблась. Упала.
– Старушка споткнулась о трос, – сказал горняк. – Подайте назад, и я укорочу трос. Так у вас ничего не выйдет.
Горняк, шатаясь из стороны в сторону, улегся на темный мягкий рыжий шлак насыпи. Дарли сдал назад, чтобы они могли укоротить трос.
Горняку тоже досталось. Дарли содрал ему с пальцев кожу – рванул прежде, чем тот успел укоротить трос. Горняк не стал ему пенять, обернул руку полой рубашки со словами:
– Теперь хорош.
Старый драндулет скатился с путей на обочину.
– Получай свой паршивый драндулет, – сказал Дарли.
– Ездить он будет? – спросила Хетти.
Левый бок ее был в грязи, но она все же, хоть ноги и не гнулись, ухитрилась подняться, сгорбленная, грузная.
– Дарли, я зашиблась.
Как сделать, чтобы он поверил ей?
– Ври больше, – сказал Дарли. Он считал, что она ломает комедию, чтобы ее не ругали. Из-за боли в ребрах кидался на нее больше обычного. Господи, если ты уже не в состоянии о себе позаботиться, тебе нечего здесь делать.
– Ты сам старый, – сказала она. – Смотри, как ты меня зашиб. Тебя от выпивки развозит.
Дарли разобиделся всерьез. Сказал:
– Я отвезу тебя к Рольфам. Раз они тебя не остановили – дали надраться, пусть теперь возятся с тобой. С меня, Хетти, довольно: я сыт твоей дуростью по горло.
Дарли погнал пикап на холм. Цепи, лопата и лом с грохотом перекатывались в кузове. Хетти, напуганная до смерти, поддерживала руку, из глаз ее катились слезы. Когда она вошла в калитку, собаки Рольфов подскочили к ней, норовя лизнуть. Приказав: "Сидеть, сидеть!" – она отпрянула от них.
– Дарли, – крикнула она в темноту, – пригони мою машину. Не оставляй ее на дороге. Дарли, пожалуйста, пригони мою машину.
Но Дарли в своей ведерной шляпе, уткнув сморщенное, с кулачок, перекошенное от злости лицо подбородком в грудь, только что не крича от боли в ребрах, на бешеной скорости умчал прочь.
– Господи, что же делать-то? – сказала она.
Рольфы у топящегося смолистыми шпалами камина пропускали последний стаканчик перед ужином, когда на пороге возникла Хетти. Из колена у нее текла кровь, глаза сузились от ужаса, лицо посерело от пыли.
– Я зашиблась, – в отчаянии выпалила она. – Попала в аварию. Чихнула и выпустила руль. Джерри, пригони мою машину. Она на дороге.
Рольфы перевязали Хетти колено, отвезли ее домой, уложили в постель. Хелен Рольф обернула ей руку электрогрелкой.
– Грелка мне не по карману, – заныла Хетти. – Она то включается, то выключается, генератор всякий раз запускается, и уходит пропасть бензина.
– Это ты брось, Хетти, – сказал Рольф, – нашла время жадничать. Утром мы отвезем тебя в город, там за тобой будет уход. Хелен позвонит доктору Страуду.
Хетти чуть было не ляпнула: "Жадничать! Если кто и жадничает, так это вы. У меня же нет ни гроша. А вы с Хелен готовы из-за двух долларов друг другу горло перегрызть, когда играете в канасту".
При всем при том, если кто и позаботился о ней, это Рольфы, настоящие друзья, таких у нее здесь больше нет. У Дарли она бы всю ночь провалялась во дворе, а Пейс продал бы ее забойщику. Всего за доллар отправил бы на живодерню.
Поэтому она не отбрила Рольфов, но едва они прошли через залитый на редкость ярким лунным светом двор голубого дома, весь в раскидистой, точно юбка, тени клена, к своему новому фургону, Хетти повернула выключатель, и генератор заглох. Вскоре она ощутила сильную, теперь уже идущую изнутри боль в руке, сидела, боясь пошевелиться, согревая ушибленное место здоровой рукой. Кость торчит – она определенно это чувствовала. Перед уходом Хелен Рольф укрыла ее шалью – шаль эта принадлежала Индии, покойной подруге Хетти, той, которая оставила ей дом со всей обстановкой. Лежала эта шаль на постели Индии в ту ночь, когда та умерла, или не лежала? Хетти напрягала память, но мысли путались. Она почти не сомневалась, что отнесла подушку со смертного одра на чердак, а белье, насколько помнится, убрала в сундук. Тогда каким же образом шаль очутилась здесь? Но теперь уже ничего не поделаешь – шаль можно только откинуть подальше, чтобы не прикасаться к ней голой рукой. Ноги она греет. И пусть греет, но держать ее перед глазами она не хочет. Хетти все отчетливее и отчетливее представлялось, что о всей ее жизни, о каждом миге – от рождения до последней минуты – снимается фильм. Она забрала себе в голову, что увидит этот фильм после смерти. Вот тогда-то она и узнает, как выглядела со спины – в ванной, в постели, поливая цветы, играя на органе, обнимаясь – всегда-всегда, вплоть до нынешнего дня, дня в муке, едва ли не предсмертной, потому что нет больше ее мочи терпеть... Сколько еще всякой всячины уготовала ей жизнь? Конец фильма, похоже, не заставит себя ждать. Нет ничего хуже, когда в голове крутятся такие мысли, а сон нейдет... Лучше смерть, чем бессонница. Хетти не только любила спать, она верила в сон.
* * *
Первая попытка вправить перелом оказалась неудачной.
– Посмотрите, как они меня отделали, – говорила Хетти, демонстрируя посетителям синяки на груди.
После второй операции у нее помутился рассудок. На ее кровати пришлось поднять сетку: в помрачении Хетти бродила по палатам. А когда ее запирали, поносила сестер:
– Не для того у нас, суки вы позорные, демократия, чтобы людей без суда в тюрьму сажать.
Ругаться она научилась у Уикса.
– Он был сквернослов, – рассказывала она. – И я сама не заметила, как набралась от него.
Еще несколько недель в мыслях у нее был сумбур. Когда она спала, жизнь из ее лица уходила: щеки вздувались, большой рот, с ухмылкой от уха до уха, собирался в оборочку. При виде ее у Хелен вырвался вздох.
– Не связаться ли нам с ее семьей? – спросила Хелен врача.
У него была загрубевшая белесая кожа. Копна темно-рыжих, очень сухих волос. Он порой считал нужным объяснить пациентам: "Во время войны я перенес тропическую болезнь".
Врач спросил:
– А есть и семья?
– Старики братья. Дети дальних родственников, – сказала Хелен.
Она пыталась сообразить, кого призовут, когда она сама сляжет – в ее возрасте этого следует ожидать. Рольф позаботится, чтобы за ней был уход. Наймет сиделок. Хетти это не по карману. Ей и так уже пришлось потратиться не по средствам. Одна трасткомпания в Филадельфии выплачивала ей в месяц восемьдесят долларов. Имелись у нее и крохотные сбережения в банке.
– Смахивает на то, что оплата ее долгов ляжет на нас, – сказал Рольф. – Если только не приедет ее братец из Мексики. Не исключено, что нам придется вызвать кого-то из этого старичья.
* * *
В конце концов к родственникам обращаться не пришлось – Хетти пошла на поправку. И со временем стала узнавать посетителей, хотя голова еще не прояснилась. Из того, что случилось, она мало что помнила.
– Сколько литров крови мне перелили? – с этим вопросом она приставала ко всем. – Я вроде бы помню пять, шесть, восемь переливаний. При дневном свете, при электрическом. – Она пыталась выдавить улыбку, но приятное выражение не давалось – она не владела лицом. – Как я заплачу за кровь? вопрошала она. – Литр стоит двадцать пять долларов. Те деньги, что у меня имелись – а их и было немного, – чуть не все вышли.
Кровь стала темой всех ее разговоров, главной ее заботой. Кто бы ни навещал ее, она заводила свое:
– ...пришлось всю-всю кровь заменить. В меня вливали кровь ведрами. Ведрами. Надо надеяться, что кровь была не порченая.
И хотя силы к ней не вернулись, она скалилась и смеялась по-прежнему. Вот только смех чаще перемежался свистом: болезнь сказалась на бронхах.
– Ни курить, ни надираться ей нельзя, – сказал Хелен врач.
– Уж не думаете ли вы, доктор, – спросила Хелен, – что она переменится?
– И тем не менее мой долг предупредить вас.
– Хетти вряд ли сочтет соблазнительной перспективу трезвой жизни, сказала Хелен.
Муж ее засмеялся. Когда Рольф заходился смехом, один глаз у него слепнул. Сплюснутая ирландская моська наливалась кровью; спинка острого носишка белела.
– Тут мы с Хетти два сапога пара, – сказал он. – Она пить не перестанет, пока не сопьется вчистую. И если бы воду на озере Сиго претворили в виски, Хетти легла бы костьми, но разобрала бы свой старый дом на доски, чтобы построить плот. И поплыла бы, закачалась на алкогольных волнах. А раз так, что толку призывать ее к трезвости?
Хетти тоже признавала их сходство. Когда Рольф пришел ее проведать, она сказала:
– Джерри, по-настоящему я могу обсудить мои неприятности только с тобой. Как мне раздобыть деньги? У меня есть хотчкисовская страховка. Я каждый месяц вносила по восемь долларов.
– Она тебе мало что даст, Хет. Ты не член Синего креста*.
* Синий крест – неприбыльная страховая организация, возмещающая расходы на операции и т.п. членам, постоянно уплачивающим взносы. (Здесь и долее примеч. переводчиков.)
– Я перестала платить взносы лет десять назад. А что, если попробовать продать что-нибудь из моих ценностей?
– Какие еще у тебя ценности? – спросил Рольф. От смеха глаз у него почти закрылся.
– Да ты что, – взвилась Хетти. – У меня их хоть отбавляй. Во-первых, прекрасный персидский ковер, который мне оставила Индия, – ему цены нет.
– Он весь в дырах, Хет, его все эти годы прожигали угли из камина.
– Ковер в отличном, просто отличном состоянии. – Хетти сердито передернула плечами. – Такой прекрасный ковер всегда ценность. А дубовому столу из испанского монастыря три сотни лет.
– За него можно выручить долларов двадцать, и то если повезет. А чтобы увезти его, придется выложить не меньше пятидесяти. Дом – вот что тебе надо продать.
– Дом? – сказала она. Да, такая мысль посещала ее. – За него я могла бы выручить двадцать тысяч.
– Ему красная цена – восемь.
– Пятнадцать... – От обиды голос ее зазвучал с прежней силой. – Индия за два года вложила в него восемьдесят тысяч. И не забывай, что в мире мало есть мест красивее озера Сиго...
– Ну и что с того? От него до Сан-Франциско восемьсот километров с гаком, а до Солт-Лейк-Сити – триста. Кому взбредет в голову поселиться здесь, кроме таких ненормальных, как ты с Индией? Да я?
– Есть нечто, что не измеряется деньгами. Красота.
– Что ты несешь, Хет? Ты в красоте понимаешь как свинья в апельсинах. Точно так же, как и я. Я живу здесь, потому что меня это устраивает, ты потому что Индия оставила тебе дом. И вдобавок как нельзя кстати. Иначе у тебя не было бы ни кола ни двора.
Его рассуждения Хетти оскорбили, более того, напугали. Она примолкла, слова Джерри Рольфа заставили ее задуматься: ведь они были друг к другу привязаны. Джерри не откажешь в здравом смысле, к тому же он высказал то, о чем она и сама думала. Все, что он говорил и о завещании Индии, и о доме, было чистой правдой. Но, убеждала она себя, не такой уж Джерри и всеведущий. Архитектор из Сан-Франциско запросит как минимум десять тысяч за то, чтобы только подумать о проекте такого дома. До того, как возьмет в руки рейсфедер.
– Джерри, – сказала старуха. – Что мне делать, как возместить кровь банку крови?
– Надеешься получить литр-другой от меня, Хет? – Веко на одном его глазу пошло вниз.
– Твоя кровь не годится. У тебя два года назад была опухоль. Дарли вот кто должен отдать как минимум литр.
– Старикашка-то? – Рольф фыркнул. – Ты что, прикончить его задумала?
– Скажешь тоже! – Хетти рассердилась, оторвала от подушки оплывшее лицо. От высокой температуры и пота кудерьки надо лбом посеклись, а на затылке так спутались и свалялись, что их пришлось сбрить. – Дарли чуть не убил меня. Я совсем плохая стала, и виноват в этом Дарли. Хоть сколько-то крови у него есть. Он ведь ни одной дамочки, хоть молодая, хоть старая, не пропустит.
– Брось, ты ведь тоже была в подпитии, – сказал Рольф.
– Да я вожу машину в подпитии уже лет сорок, на меня чих напал – вот в чем причина. Ох, Джерри, у меня совсем нет сил. – И Хетти – одна кожа да кости – подалась к Рольфу. На губах ее, однако, играла счастливая до дурости ухмылка. Она была не способна горевать долго; у нее на лице было написано – она выживет во что бы то ни стало.
* * *
Через день она ходила к физиотерапевту. Молоденькая женщина разрабатывала ей руку; процедуры радовали и успокаивали Хетти – она охотно переложила бы свое излечение целиком на врача. Однако кое-какие упражнения ей велели делать самостоятельно, и упражнения оказались довольно трудными. Для нее соорудили блок, и Хетти должна была, придерживая веревку за оба конца, пропускать ее туда-сюда через скрипучее колесико. Она грузно наклонялась всем телом вперед, захлебываясь кашлем от табачного дыма. Но самое важное упражнение она избегала делать. Требовалось приложить ладонь к стене на уровне бедер и, медленно передвигая кончики пальцев, поднять руку на высоту плеча. Выполнять упражнение было больно, и она отлынивала, сколько врач ни предостерегал ее:
– Хетти, вы же не хотите, чтобы у вас образовались спайки?
В глазах Хетти проблеснуло отчаяние. Чуть погодя она предложила:
– Доктор Страуд, купите у меня дом, ну пожалуйста.
– Я не женат. К чему мне дом?
– У меня для вас есть на примете девушка – дочь моего родственника. Прелесть что за девушка, а уж умная какая! Без пяти минут доктор философии.
– Да вам самой наверняка предложения делают, и нередко, – сказал доктор.
– Чокнутые золотоискатели. Вот кто мне проходу не дает. Но штука в том, что, если я оплачу все счета, положение мое будет хуже некуда. Если б только я могла возместить кровь банку, у меня б камень с души свалился.
– Хетти, если вы не будете выполнять все указания физиотерапевта, вторая операция неминуема. Вы представляете себе, что такое спайки?
Еще как представляет. И тем не менее думала: доколе мне еще о себе заботиться? Она рассердилась, когда доктор упомянул о второй операции. Пришла было в отчаяние, но не показала виду. С ним, этим молодым человеком, чья белесая кожа так рано загрубела, а темно-рыжие волосы были безжизненные, как у мертвеца, она напускала на себя ребячливость. Кротким голоском она ответила:
– Да, доктор.
Но в глубине души ярилась.
При всем при том она днем и ночью твердила: Я побывала в долине смертной тени*. Но осталась жива. Исчахшая, одряхлевшая, она с трудом следила за ходом мысли, в голове у нее мутилось. И тем не менее она все еще здесь; здесь ее тело, и довольно крупное тело – вон сколько места оно занимает. И хотя были в ее жизни и волнения, и трудности и руку, случалось, пронзала такая боль, что Хетти думала – вот он конец; и пусть волосы у нее были ломкие от старости, как корни лука, и под гребнем разлетались в разные стороны, пусть так, но вопреки всему ее тешили беседы с посетителями; широкая ухмылка освещала ее лицо, душу отогревало любое доброе слово.
* Псалтирь, 22,4.
И еще она думала: мне помогут. Зачем волноваться? В последнюю минуту всегда что-нибудь подворачивалось, само собой, без каких-либо усилий с моей стороны. Меня любит Мэриан. Хелен и Джерри. Малявка. Они не дадут мне пропасть. И я их люблю. Окажись они на моем месте, я бы их выручила.
А над горизонтом, в тех запредельных высях, куда Хетти время от времени наведывалась в одиночестве, порой возникал облик Индии, ее бесплотный дух. Индия гневалась, разносила Хетти. Но худого ей не делала. По-настоящему – нет. Можно сказать, по-настоящему худого Хетти не делал никто. Но Индия сердилась на нее.
– Какого черта ты запустила сад, Хетти? – сказала она. – Сирень совсем зачахла.
– Что я могу поделать? Шланг сгнил. Протекает. И до сирени его не дотянуть.
– Вырой канаву, – сказал призрак Индии. – Попроси старикашку Сэма вырыть канаву. Сирень спаси во что бы то ни стало.
Разве я все еще слуга твоя! – говорила сама с собой Хетти. Нет, подумала она, предоставь мертвым погребать своих мертвецов*.
* Евангелие от Матфея, 8,22. 25
Но и теперь не стала перечить Индии – она и раньше, когда они еще жили вместе, не перечила ей. Предполагалось, что Хетти будет удерживать Индию от пьянства, но вскоре они повадились сразу после завтрака прикладываться к бутылке на пару. Забыв одеться, в комбинациях, пошатываясь, слонялись по дому, натыкались друг на друга – в отчаянии от того, что опять поддались своей слабости. Перед вечером они обычно располагались в гостиной, ждали захода солнца. Оно горело-горело и выгорало – лежало совсем маленькое на изрезанных трещинами горных хребтах. Когда солнце заходило, дневной свет прекращал неистовствовать, отроги гор становились совсем синими, зубчатыми, как угольные отвалы. Теряли сходство с лицами. Восток обретал простодушие, озеро утрачивало свою суровость и надменность. Наконец Индия говорила: "Хетти, пришла пора зажечь свет". И Хетти дергала за шнурки выключатели одной лампы за другой, чтобы загрузить генератор. Она включала шаткие, под восемнадцатый век, лампы с розетками, топырящимися над их тонюсенькими ножками, как стрекозиные крылья. Движок в сарае начинал трястись, чихал, запускался, стучал, и лампы загорались первым слабым, неровным светом.
"Хетти!" – кричала Индия. Выпив, она преисполнялась раскаянием, но и раскаяние ее было Хетти в тягость, и чем сильнее Индия гневалась, тем более английским становился ее выговор: "Хетти, какого черта, куда ты запропастилась?" После смерти Индии Хетти нашла стихи, в которых благожелательно, даже прочувствованно упоминалась Хетти. Да, хорошая эта штука – литература. Образование. Воспитание. Впрочем, интерес Хетти к миру идей был более чем ограниченным, Индия же, та, напротив, где только не побывала. Привыкла к блестящему обществу. Ей хотелось, чтобы Хетти рассуждала с ней о религиях Востока, Бергсоне и Прусте, но куда там – у Хетти голова не варила, и в результате Индия винила в своем пьянстве Хетти.
– Мне не о чем с тобой разговаривать, – не упускала она случая попрекнуть Хетти. – Ты ничего не смыслишь ни в религии, ни в культуре. А я торчу здесь, потому что для другой жизни не гожусь. Жить в Нью-Йорке я больше не могу. Женщине моего возраста слишком опасно появляться на улице вечером пьяной.
А Хетти, разговаривая со своими здешними друзьями об Индии, не упускала случая присовокупить: "Она настоящая дама" (подразумевая, что это их с Индией роднит). "Она творческая личность" (вот что их сблизило). "И при всем при том беспомощная? Не то слово. О чем речь, она даже в грацию не могла влезть самостоятельно".
"Хетти! Поди сюда. Хетти! Известно ли тебе, что такое нерадение?"
Раздевшись, Индия усаживалась на кровать, не выпуская сигареты из трясущейся морщинистой руки в кольцах, прожигала в одеялах дыры. Гордость Хетти тоже от нее пострадала – была вся в рубцах мелких обид. Индия помыкала ей как прислугой.
Потом Индия со слезами умоляла простить ее.