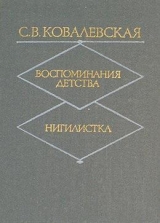
Текст книги "Воспоминания детства"
Автор книги: Софья Ковалевская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
Вот в это-то самое время окончил Достоевский своих «Бедных людей» и послал в «Современник». Однако, отослав рукопись, он тотчас же сам и раскаялся. С ним произошел тяжелый психологический процесс, который, вероятно, пришлось пережить всякому автору: пока он писал свой роман, он сам восхищался им и верил, что происходит нечто великое и гениальное. Но лишь только рукопись была окончена и отослана в редакцию, как на него вдруг нашло сомнение и разочарование. Все недостатки романа ярко выступили перед ним, все в нем показалось ему бледным, ничтожным. Он почувствовал отвращение к собственному детищу и устыдился его.
По всей вероятности, нет автора, которому не пришлось бы хоть раз в жизни пережить подобный же психологический процесс. Но при нервности и мнительности Достоевского процесс этот достиг в нем ужасного развития. «Осмеет Белинский моих «Бедных людей»», – почти со слезами говорил он себе и чувствовал при этом такое озлобление. И эти переходы от уверенности к подавленному состоянию духа в первые дни после отсылки рукописи дошли в нем до таких размеров, что он просто закутил с горя.
«Всю ночь, – рассказывал Достоевский своим приятелям, – провел я в разгуле, грязном, дешевом, без удовольствия, так просто, с тоски, с озлобления какого-то. Было уже четыре часа утра, когда я вернулся домой. Это было в мае месяце, и на дворе была белая петербургская ночь. Я этих ночей никогда выносить не мог, всегда они мне расстраивали нервы и наводили особую, какую-то «подлую» тоску. А уж сегодня и подавно. Вернулся я домой; не спится мне; сел я на открытую раму. Скверно на душе – ну хоть сейчас иди и топись. Сижу я так, вдруг слышу звонок. Кто бы это мог быть в такую пору?
Иду отворять. Батюшки… в комнату вбегают Некрасов и Григорович и, не говоря ни слова, принимаются меня обнимать, а я и знаком-то по-настоящему не был, знал их только в лицо.
Оказывается, они накануне вечером принялись читать мою рукопись, так, на пробу: «с десяти страниц видно будет». Но за первыми десятью последовало еще десять и потом еще и еще, пока незаметным образом в один присест не было прочтено все. Когда дело дошло до места, где за гробом Покровского бежит его старик-отец, Некрасов стукнул ладонью по рукописи: «ах, чтоб его!» Оба решили тотчас бежать ко мне: «Что же такое, что спит, мы разбудим его; это выше сна».
– Поймите же вы, поймите, что для меня такой их порыв значил, – говорил Достоевский, сам увлекаясь и почти захлебываясь от восторга при воспоминании. – У иного успех – ну хвалят его, встречают, поздравляют. А ведь они прибежали со слезами в четыре часа разбудить, потому что это выше сна!
Впрочем, как ни дорого было Достоевскому сочувствие Некрасова и Григоровича, но еще важнее для него было мнение Белинского. Его он все еще продолжал побаиваться. Однако и этот строгий критик проникнулся восторгом к «Бедным людям», хотя сначала и отнесся к ним критически. Некрасов, входя к нему с рукописью, провозгласил: «Новый Гоголь явился». «Ну, у вас Гоголи, как грибы, растут», – с неудовольствием заметил Белинский.
Эта неосторожная рекомендация Некрасова так скверно настроила его, что он долго мешкал и не принимался за чтение. Зато, когда он, наконец, прочел рукопись, он тотчас же потребовал, чтобы к нему привели молодого писателя.
«Шел я к нему с трепетанием сердца, – рассказывал мне Достоевский, – и принял он меня чрезвычайно важно и сдержанно. Долго вглядывался в меня молча, словно изучал меня, потом вдруг заговорил: «Да вы понимаете ли сами, что вы такое написали?»
И так это он строго спросил, что в первую минуту я даже растерялся, не зная, как понять это. Но за этим вступлением последовала такая патетическая тирада, что я даже сконфузился и подумал: Господи, да неужели же я в самом деле так велик?»
Теперь в литературе начался период необычайного движения. В следующем же году выступили в свет со своими первыми произведениями Тургенев, Гончаров и Герцен. Сверх того, на литературном горизонте появилось еще много других новых светил, которым, правда, суждено было оказаться впоследствии только блестящими мимолетными метеорами, но которых можно было принять за звезды первой величины.
В публике проявился теперь необычайный интерес к литературе. Редко когда покупалось в России столько книг и журналов, как в то время. С Запада приходили тревожные вести. Перед 1848 годом вся Европа находилась словно в брожении каком. Всюду чего-то ждали, всюду к чему-то готовились. Идеи свободы, равенства, братства народов носились в воздухе, еще не опошленные и не утратившие своего первого, опьянительного аромата.
В Петербурге, особенно между студентами университета и политехниками, заводились многочисленные кружки, имевшие вначале лишь чисто литературную цель. Молодые люди складывались, чтобы сообща выписывать иностранные книги и журналы, и затем сходились друг у друга и читали их вслух. Но вследствие необычайной строгости полиции, запрещавшей безусловно всякие ассоциации, молодые люди, сходясь, должны были окружать себя таинственностью, и именно вследствие этого и приняли скоро такие сходки характер политический.
Петрашевский, горячий поклонник идей Фурье, человек необыкновенно умный и начитанный, первый задумал связать все эти кружки общею организацией и составить из них род тайного политического общества. Впрочем, как видно из официальных документов по делу Петрашевского, цели этого общества имели характер чисто теоретический и весьма невинный, особенно если сравнить с позднейшей нигилистической пропагандой.
Ни покушений на жизнь императора, ни открытых восстаний петрашевцы не замышляли.
Тайные собрания обсуждали вопросы абстрактные и окружали себя с внешней стороны обрядами необычайно таинственными и почти торжественными: каждый вступающий в него должен был принести присягу и подписать «лист отречения», которым отдавал свою жизнь и имущество в руки общества и сам в случае измены обрекал себя на смертную казнь.
Тайные собрания их с внешней стороны были окружены большой таинственностью, но вопросы, обсуждаемые на них, все имели характер абстрактный, подчас довольно наивный, например: можно ли согласить идеи человеколюбия с убийством шпионов и предателей? Или – идет ли православная религия с идеями Фурье?
Достоевский тоже примкнул к обществу Петрашевского. Как видно из впоследствии состоявшегося над ним официального приговора, он обвинялся в том, что на одном из собраний прочел статью о теории Фурье и, кроме того, знал о предположении завести тайную типографию.
И вот эту-то тяжкую вину Достоевскому пришлось искупить восемью годами каторжной работы.
23 апреля 1849 г. был роковый день для Петрашевского. Сам Петрашевский и 34 из его товарищей арестованы.
«Вернулся я 22 апреля вечером, часов около 2 ночи, от одного из наших товарищей, – рассказывает Достоевский, – разделся, лег спать и тотчас уснул. Не более как через час я сквозь сон заметил, что в мою комнату вошли какие-то необыкновенные и подозрительные люди. Брякнула сабля, нахально за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатичный голос: «вставайте!» – Смотрю: квартальный с красивыми бакенбардами. Но говорил не он: говорил господин, одетый в голубое с подполковничьими эполетами [26]26
Голубой мундир – принадлежит исключительно жандармам, полку, приставленному к тайной полиции. (Примеч. С. В. Ковалевской.)
[Закрыть].
– Что случилось? – спросил я, привставая с кровати. – «По повелению»… – Смотрю: действительно «по повелению».
В дверях стоял солдат, тоже голубой. «Эге! Да это вот что!» – подумал я.
– Позвольте же мне, – начал я было.
– Ничего, ничего, одевайтесь. Мы подождем-с, – перебил меня подполковник еще более симпатичным голосом.
Пока я одевался, они потребовали все книги и начали рыться, – немного нашли, но все перерыли. Бумаги и письма аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности; полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер по его приглашению стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стула на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было.
Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее Иван, хоть и очень испуганный, но глядевший с какою-то тупою торжественностью, приличной событию.
У подъезда стояла карета: в нее сел солдат, я, пристав и подполковник. Мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту [27]27
Где помещалась тайная полиция. (Примеч. С. В. Ковалевской.)
[Закрыть]. Там много было ходьбы и народу. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин штатский, но в большом чине, принимал… беспрерывно входили голубые господа с новыми жертвами.
Нас разместили по различным углам и весь день продержали в томительной неизвестности. Кормили нас, впрочем, на славу: подавали чай, завтрак, кофе, обед, и жандармы уже угощали нас, сетовали, что мы мало кушаем.
К вечеру свезли нас в крепость. Странно, что по дороге туда мне вовсе и в голову не входило, что меня везут в крепость. По приезде, разумеется, стало ясно.
Меня отвели в крошечную каморку, едва освещенную плошкой на высоком уступе оконной амбразуры. Там меня оставили одного. Нумер мой оказался таким сырым, что когда на следующее утро зашел комендант, то должен был заметить: «А здесь ведь в самом деле нехорошо!» На мой вопрос: «Зачем меня арестовали?» – он ответил: «На допросе вам все объяснят». Однако к первому допросу меня повели лишь спустя 10 дней, а их я провел в полнейшем ничегонеделании: ни книг, ни бумаги! Разнообразие состояло разве только в том, что двери каземата отворялись по пяти раз в день: в 7 часов утра, когда приносили умываться и убирали комнату; в 10 час. при обходе казематов начальством; в 12 час, когда приносили обед – два блюда: щи или суп и нарезанная кусками говядина, так как ни ножей, ни вилок не допускалось; в 7 час. вечера, когда приносили ужин, и, наконец, когда стемнеется, чтобы поставить на окно плошку, довольно, впрочем, бесполезную, так как делать все равно ничего не давали.
Подобное заточение продолжалось целые восемь месяцев. После первых двух месяцев стали нам давать книги, но в очень небольшом количестве. Скука все же была такая страшная, что даже те дни, когда нас водили к допросу, считались праздниками. Как идет следствие, чем оно кончится – я ровно ничего не знал.
Вдруг рано утром 22 декабря является в мой каземат начальство и читают мне приговор: приговорен к смертной казни через расстреляние.
Когда совершится казнь – в приговоре сказано не было. Но не прошло и часа, как вошел опять надзиратель и велел мне одеться в собственное платье, а не в казарменный костюм, который я носил в каземате. Под строгим конвоем вывели меня на двор, где уже дожидались 19 человек моих бывших товарищей. Посадили нас всех в кареты, по четверо человек в одну, и с ними солдат. Было часов семь утра. Куда нас везут, мы не знали. Спросили мы об этом солдата, но он отвечал: «Не приказано сказывать!» Везли нас очень долго, но так как был мороз, то сквозь обледенелые окна кареты никак нельзя было разобрать, куда везут. Попробовал я было отчистить стекло пальцем, но солдат сказал: «Не делайте этого, не то меня будут бить». После этого пришлось, разумеется, отказаться от удовлетворения столь понятного любопытства.
После казавшейся нам бесконечной дороги привезли нас, наконец, на Семеновский плац, посреди которого возвышался эшафот. Нас, всего 20 человек, взвели на него и расставили в два ряда. После долгого заточения и разлуки с товарищами хотелось нам поздороваться, поговорить друг с другом, но за нами наблюдали так строго, что удалось только обменяться несколькими словами с теми, кто стоял ближе.
На середину эшафота вышел аудитор и прочел нам всем смертный приговор. Казнь должна была совершиться немедленно.
20 раз повторенные аудитором роковые слова: «Приговорен к смертной казни расстрелянием» – так глубоко врезались в моей памяти, что многие годы спустя случалось мне вдруг проснуться среди ночи от того, что казалось, кто-то прокричал мне их в ухо. Но не менее глубоко врезалась мне в память и другая, чисто внешняя подробность, как аудитор, окончив чтение, сложил бумагу, положил ее в боковой карман и сошел с возвышения.
– В эту самую минуту, – рассказывал Достоевский, – проглянуло из-за туч солнце, и мне вдруг так ясно стало: «Не может быть, чтобы нас казнили». Я сказал это стоявшему рядом со мной товарищу. Вместо ответа он только молча указал мне на стоявшую тут же возле эшафота телегу, на которой были положены гробы, прикрытые рогожей.
Увидя их, у меня мигом пропала всякая надежда и, напротив того, явилась уверенность, что нас непременно казнят…
Я помню, что я очень испугался, но в то же время решился не показать этого. Поэтому я стал говорить товарищу о всем, что только приходило мне на ум. Он рассказывал мне впоследствии, что я даже не был очень бледен и что я все говорил ему об одной повести, которую я задумал и которую очень жалел, что мне не придется написать. Но я сам не помню этого: зато помню массу посторонних пустяшных мыслей.
На эшафот вошел священник и предложил тем, кто хочет, исповедоваться. Никто не захотел, исключая одного, но, когда священник поднес к нам крест, все к нему приложились.
Трех из моих товарищей (Петрашевского, Григорьева и Момбелли), наиболее виновных, уже привязали к столбам и надели им на голову какие-то мешки. Против них расставили взвод солдат, ожидавших только роковой команды «пли».
Жить мне оставалось, как я полагал, всего каких-нибудь пять минут. Я их отсчитал, чтобы думать про себя. Мне не хотелось представить себе, как же это так? Теперь я есмь и живу, а через пять минут буду уже нечто, кто-то или что-то совсем другое.
С того места, где я стоял, виднелась церковь с золоченым куполом, который так и сиял на солнце. Я помню – я упорно глядел на этот купол и на лучи, от него сверкавшие, и странное вдруг на меня нашло ощущение: точно лучи эти – моя новая природа, точно через пять минут я сольюсь с ними. Помню, то физическое отвращение, которое я почувствовал к этому новому, неизвестному, которое сейчас будет, сейчас наступит, было ужасно.
Но вдруг произошло что-то необычайное. По близорукости я еще ничего разглядеть не мог, а только почувствовал, что что-то совершилось. Наконец, я увидел, что по площади скакал во весь дух по направлению к нам офицер, махавший белым платком.
Это государь прислал нам всем помилование. Оказалось впоследствии, что помилование наше было решено наперед, да и действительно возможны ли бы…»








