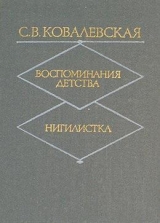
Текст книги "Воспоминания детства"
Автор книги: Софья Ковалевская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
V. Мой дядя Петр Васильевич
Это убеждение, что в семье меня любят меньше других детей, огорчало меня очень сильно, тем более что потребность в сильной и исключительной привязанности развилась во мне очень рано. Следствием этого было то, что лишь только кто-нибудь из родственников или друзей дома почему-то выказывал ко мне немного больше расположения, чем к брату или к сестре, я, с моей стороны, тотчас начинала испытывать к нему чувство, граничащее с обожанием.
Я помню в детстве две особенно сильные привязанности – к двум моим дядям. Один из них был старший брат моего отца, Петр Васильевич Корвин-Круковский. Это был чрезвычайно живописный старик высокого роста, с массивной головой, окаймленной совсем белыми густыми кудрями. Лицо его с правильным строгим профилем, с седыми взъерошенными бровями и с глубокой продольной складкой, пересекающей почти снизу доверху весь его высокий лоб, могло бы показаться суровым, почти жестоким на вид, если бы оно не освещалось такими добрыми, простодушными глазами, какие бывают только у ньюфаундлендских собак да у малых детей.
Дядя этот был в полном смысле слова человеком не от мира сего. Хотя он был старший в роде и должен бы был изображать главу семейства, но на самом деле каждый, кому только вздумается, помыкал им, и все в семье так и относились к нему, как к старому ребенку. За ним давно установилась репутация чудака и фантазера. Жена его умерла несколько лет тому назад; все свое довольно большое имение он передал своему единственному сыну, выговорив себе лишь очень незначительный ежемесячный пенсион, и, оставшись таким образом без определенного дела, приезжал часто к нам в Палибино и гостил целыми неделями. Приезд его всегда считался у нас праздником, и в доме всегда становилось как-то и уютнее и оживленнее, когда он бывал у нас.
Любимым его уголком была библиотека. На всякое физическое движение он был ленив непомерно, и целыми днями просиживал, бывало, неподвижно на большом кожаном диване, поджав под себя одну ногу, прищурив левый глаз, который был у него слабее правого, и весь уйдя в чтение «Revue des deux Mondes», своего любимого журнала.
Чтение до запоя, до одури было его единственною слабостью. Политика очень занимала его. С жадностью поглощал он газеты, приходившие к нам раз в неделю, и потом долго сидел и обдумывал: «Что-то нового затевает этот каналья Наполеошка?» В последние годы его жизни Бисмарк тоже задал ему немало головоломной работы. Впрочем, дядя был уверен, что «Наполеошка съест Бисмарка», и, немного не дожив до 1870 года, так и умер в этой уверенности.
Лишь только дело касалось политики, дядя обнаруживал кровожадность необычайную. Уложить на месте стотысячную армию ему нипочем было. Не меньшую беспощадность выказывал он, карая в воображении преступников. Преступник был для него лицом фантастическим, так как в действительной жизни он всех находил правыми.
Несмотря на протесты нашей гувернантки, он всех английских чиновников в Индии приговорил к повешению. «Да, сударыня, всех, всех!» – кричал он и в пылу увлеченья крепко ударял кулаком по столу. Вид у него тогда был такой грозный и свирепый, что всякий, войдя в комнату и увидя его, верно испугался бы. Но внезапно он, бывало, стихнет, и на лице его изобразится смущение и раскаяние – это он вдруг заметил, что своим неосторожным движением потревожил нашу общую любимицу, левретку Гризи, только что было пристроившуюся сесть рядом с ним на диване.
Но больше всего увлекался дядя, когда нападал в каком-нибудь журнале на описание нового важного открытия в области наук. В такие дни за столом у нас велись жаркие споры и пересуды, тогда как без дяди обед проходил обыкновенно в угрюмом молчании, так как все домашние, за отсутствием общих интересов, не знали, о чем говорить друг с другом.
– А читали ли вы, сестрица, что Поль Бер придумал? – скажет, бывало, дядя, обращаясь к моей матери. – Искусственных сиамских близнецов понаделал. Срастил нервы одного кролика с нервами другого. Вы одного бьете, а другому больно. А, каково? понимаете ли вы, чем это пахнет?
И начнет дядя передавать присутствующим содержание только что прочитанной им журнальной статьи, невольно, почти бессознательно украшая и пополняя ее и выводя из нее такие смелые заключения и последствия, которые, верно, не грезились и самому изобретателю.
После его рассказа начинается жаркий спор. Мама и Анюта обыкновенно переходят тотчас же на сторону дяди и преисполняются энтузиазмом к новому открытию. Гувернантка, по свойственному ей духу противоречия, почти столь же неизменно становится в ряды оппозиции и с яростью начинает доказывать неосновательность, подчас даже греховность высказываемых дядею теорий. Учитель подает иногда голос, когда дело идет о какой-нибудь чисто фактической справке, но от прямого участия в споре благоразумно уклоняется. Что же касается папы, то он изображает из себя скептического, насмешливого критика, который не берет сторону ни того, ни другого из противников, а только зорко подмечает и отчеканивает все слабые пунктики обоих лагерей.
Споры эти принимают иногда очень воинственный характер и по какой-то роковой случайности почти всегда кончаются тем, что от вопросов чисто абстрактного свойства вдруг возьмут да и перескачут в область мелких личных пикировок.
Самыми ожесточенными противницами выступают всегда Маргарита Францевна и Анюта, между которыми ведется глухая «семилетняя» война, прерываемая только периодами вооруженного выжидательного перемирия.
Если дядя поражает смелостью своих обобщений, то гувернантка, с своей стороны, отличается не меньшей гениальностью по части приложений. В самых отвлеченных, по-видимому, удаленных от жизни научных теориях она вдруг усмотрит довод для осуждения Анютиного поведения, столь неожиданный и оригинальный, что все только руками разведут.
Анюта не остается в долгу и отвечает так зло и дерзко, что гувернантка выпрыгивает из-за стола и объявляет, что после такой обиды она не останется у нас в доме. Всем присутствующим становится неловко и не по себе; мама, ненавидящая ссоры и истории, берет на себя роль посредницы, и после долгих переговоров все дело оканчивается миром.
Я и теперь помню, какую бурю подняли в нашем доме две статьи в «Revue des deux Mondes». Одна – об единстве физических сил (отчет о брошюре Гельмгольца), другая – об опытах Клода Бернара над вырезыванием частей мозга у голубя. Вероятно, и Гельмгольц, и Клод Бернар очень удивились бы, если бы узнали, какое яблоко раздора закинули они в мирную русскую семью, проживающую где-то в захолустье Витебской губернии.
Но не одна политика и отчеты о новейших изобретениях имели способность волновать моего дядюшку Петра Васильевича. С одинаковым увлечением читал он и романы, и путешествия, и исторические статьи. За неимением лучшего он готов был читать даже наши детские книги. Никогда ни у кого, за исключением разве у иных подростков, не встречала я такой страсти к чтению, как у него. Казалось бы, чего невиннее такой страсти и чего легче для богатого помещика, как удовлетворить ей! А между тем у дядюшки Петра Васильевича почти совсем не было своих собственных книг, и он лишь в последние годы своей жизни, и то благодаря нашей палибинской библиотеке, приобрел возможность пользоваться тем единственным наслаждением, которое он ценил.
Благодаря необычайной слабости его характера, идущей в такой разрез с его суровой, величавой наружностью, он всю свою жизнь находился под чьим-нибудь гнетом, и притом под гнетом столь жестким и самовластным, что об удовлетворении каких-либо прихотей или личных вкусов не могло быть для него и речи.
Вследствие этой же слабости характера он был признан в детстве неспособным к военной службе, единственной считавшейся в то время приличной для столбового дворянина, и так как нрава он был смирного и к шалостям не склонен, то нежные родители порешили оставить его дома, дав ему лишь настолько образования, сколько требовалось, дабы не попасть в недоросли из дворян. До всего, что он знал, он или додумался сам, или вычитал это впоследствии из книг. А сведения у него действительно были замечательные, но, как у всех самоучек, разбросанные и неровные. По одному предмету очень большие, по другому – совсем ничтожные.
Выросши, он продолжал жить дома, в деревне, не обнаруживая ни малейшего самолюбия и довольствуясь самым скромным положением в семье. Младшие, гораздо более блестящие братья относились к нему свысока, добродушно-покровительственно, как к безвредному чудаку. Но вдруг неожиданное счастье свалилось на него как с неба: первая красавица и самая богатая невеста всей губернии, Надежда Андреевна Н., обратила на него свое внимание. Увлеклась ли она его красивой наружностью, или просто рассчитала, что он будет именно таким мужем, какого ей надо, что приятно будет всегда иметь у своих ножек это большое, покорное, преданное ей существо, – бог ведает. Как бы то ни было, она ясно дала понять, что охотно пойдет за него замуж, если он посватается.
Сам Петр Васильевич не посмел бы и мечтать о чем-либо подобном, но многочисленные тетушки и сестрицы поспешили растолковать ему, какое на его долю выпало счастье, и, прежде чем он успел опомниться, он уже оказался нареченным женихом красивой, властной, избалованной Надежды Андреевны.
Но счастья из этого союза не вышло.
Хотя все мы, дети, были проникнуты тем убеждением, что дядя Петр Васильевич существует на свете преимущественно для нашего удовольствия и, не стесняясь, болтали с ним всякий вздор, какой нам ни вздумается, – однако все мы точно инстинктом чувствовали, что одного вопроса никогда не следует касаться: никогда не надо спрашивать дядю о его покойной жене.
Насчет тетушки Надежды Андреевны ходили между нами самые мрачные легенды. Старшие, т. е. отец, мать и гувернантка, никогда не упоминали ее имени в нашем присутствии. Но на тетушку Анну Васильевну, младшую незамужнюю сестру моего отца, находил иногда болтливый стих, и она начинала сообщать нам разные ужасы про «покойную сестрицу Надежду Андреевну».
– Вот была аспид! Упаси, боже! Меня и сестрицу Марфиньку она просто поедом ела! Да и брату Петру от нее доставалось! Бывало, как рассердится она на кого-нибудь из прислуги, сейчас прибежит к нему в кабинет и требует, чтобы он собственноручно наказал провинившегося. Он, по доброте своей, не хочет, пробует ее урезонить; куда тебе! От его резонов она только пуще рассвирепеет; на него самого накинется, начнет его всякими скверными словами ругать. И байбак-то он, и на мужчину совсем не похож!.. Со стороны слушать совестно. Наконец, видит, что словами его не проберешь, схватит в охапку его бумаги, книги, что ни попадется ей под руку на его столе, – да все это в печку. «Чтоб не было этого сора в моем доме!» – кричит. Случалось даже, сымет она с ноги туфельку, да и ну хлестать его по щекам.
Право! Так и хлещет. А он ничего себе, мой голубчик, только руки ее пробует удержать, да так осторожно, чтоб ей больно не сделать, и кротко ей выговаривает: «Что ты, Наденька, опомнись! Как тебе не стыдно? Да еще при людях!» А у нее и стыда никакого нет.
– Как же дядя мог выносить такое обращение? Как он не бросил свою жену! – восклицаем мы в негодовании.
– Э, милые, да разве жену-то законную сбросишь как перчатку! – отвечает тетушка Анна Васильевна. – Да и то сказать надо, как она им ни помыкала, а все ж таки он ее без памяти любил.
– Неужели он ее любил? Злую такую!
– И как еще любил, детушки, жить без нее не мог! Как порешили-то ее, так ведь он так затосковал, что чуть рук на себя не наложил.
– Что это вы такое говорите, тетенька? Как это ее порешили? – спрашиваем мы с любопытством.
Но тетушка, заметив, что наговорила лишнее, внезапно обрывает свой рассказ и начинает энергично вязать свой чулок, чтобы показать нам, что продолжения не будет. Однако любопытство наше разожжено, и мы не унимаемся.
– Тетенька, голубчик, расскажите! – пристаем мы к ней.
Тетушка и сама-то, видно, разболталась, не может остановиться.
– Да так вот… собственные крепостные девки ее задушили! – отвечает она вдруг.
– Господи! какие ужасы! Как же это случилось? Тетенька, друг милый, расскажите! – восклицаем мы.
– Да так, очень просто! – повествует Анна Васильевна. – Осталась она раз ночью одна в доме, брата Петра и детей куда-то услала. Вечером ее любимая горничная, девка Маланья, ее и раздела, и разула, и в постель уложила как следует, да вдруг как захлопает в ладоши! По этому знаку в спальню изо всех соседних комнат явились другие девки, да кучер Федор, да садовник Евстигней. Сестрица Надежда Андреевна, как взглянула на их лица, сейчас поняла, что не ладно дело; да только не сробела она, не растерялась. Как крикнет она на них: «Куда это вы, черти, лезете? С ума вы сошли! Сию минуту все вон!» Они, по привычке, и струсили, и попятились уже было к дверям, да Маланья, та смелее была, начала других уговаривать. «Что вы, трусы подлые? Своей шкуры не жалеете, что ли? Ведь она вас завтра всех в Сибирь упечет!» Ну, они тут и опомнились – всей гурьбой подступили к ее кровати, схватили сестрицу-покойницу за руки да за ноги, навалили на нее перину и стали ее душить. Она-то их и упрашивает, и денег, и добра всякого сулит! Нет, уж ничего их не берет. А Маланья, ее любимица, еще всех подговаривает: «Полотенце-то, полотенце мокрое ей на голову накиньте, чтобы пятен синих на лице не осталось». Они же сами, холопья подлые, потом и повинились. На суде, под розгами, все подробно рассказали, как что было. Ну, да и их же за это, за их хорошее дело, по головке не погладили. Многие из них, почитай что, и по сию пору в Сибири гниют!
Тетушка умолкает, а мы от ужаса тоже молчим.
– Ну, смотрите, не проговоритесь папеньке или маменьке о том, что я сдуру вам наболтала! – напутствует нас тетушка. Но мы и сами понимаем, что о подобных вещах ни с папой, ни с мамой, ни с гувернанткой говорить нельзя. Выйдет только история.
Зато вечером, когда наступает время ложиться спать, этот рассказ преследует меня и не дает мне уснуть.
Когда я была раз в дядином именье, я видела там портрет тетушки Надежды Андреевны, написанный масляными красками, во весь рост, той обычной шаблонной манерою, какой писались все портреты того времени. И вот теперь она, как живая, представляется мне. Маленького роста, изящная, как фарфоровая куколка, в алом бархатном платье, декольте, с гранатовым ожерельем на пышной белой груди, с ярким румянцем на круглых щечках, с надменным выражением в большущих черных глазах и с стереотипной улыбкой на розовом крошечном ротике. И я стараюсь представить себе, как еще расширились эти большущие глаза, какой ужас изобразился в них, когда она вдруг увидела перед собой своих смиренных рабов, пришедших убить ее!
Потом мне начинает представляться, что я сама на ее месте. Пока Дуняша раздевает меня, мне вдруг приходит в голову: а что если и ее доброе круглое лицо вдруг преобразится и станет злым; если она вдруг захлопает в ладоши и в комнату войдут Илья, и Степан, и Саша и скажут: «Мы пришли вас убить, барышня!»
Я вдруг не на шутку пугаюсь этой нелепой мысли, так что не удерживаю Дуняшу, как обыкновенно, а напротив, почти рада, когда она, кончив мой ночной туалет, уходит, наконец, унося с собой свечу. Однако я все же не могу уснуть и долго лежу в темноте с открытыми глазами, нетерпеливо поджидая, скоро ли придет гувернантка, оставшаяся наверху играть в карты с большими.
Всякий раз, когда я остаюсь наедине с дядей Петром Васильевичем, этот рассказ тоже невольно возвращается мне на ум, и мне странным и непонятным кажется, как этот человек, так много перестрадавший на своем веку, теперь так спокойно, как ни в чем не бывало, играет со мною в шахматы, строит мне кораблики из бумаги или волнуется по поводу только что вычитанного им где-то проекта о восстановлении старого русла Сыр-Дарьи или по поводу другой какой-нибудь журнальной статьи. Детям всегда так трудно представить себе, что кто-нибудь из их близких, которого они привыкли видеть запросто, в домашнем обиходе, пережил что-нибудь из ряда вон выходящее, трагическое, на своем веку.
Иногда у меня являлось просто какое-то болезненное желание расспросить дядю, как все это было. Смотрю я на него подолгу, бывало, не спуская глаз, и все мне представляется, как этот большой сильный умный мужчина трепещет перед маленькой красавицей женой и плачет, и руки ей целует, а она рвет его бумаги и книги или, сняв с ноги туфельку, шлепает его по щекам.
Раз, только один раз в течение всего моего детства, не удержалась я и дотронулась до дядиного больного места.
Это было вечером. Мы были одни в библиотеке. Дядя, по обыкновению, сидел на диване, поджав ноги, и читал; я бегала по комнате, играя в мячик, но, наконец, устала, присела рядом с ним на диване и, уставившись на него, предалась своим обычным размышлениям на его счет.
Дядя опустил вдруг книгу и, ласково погладив меня по голове, спросил:
– О чем ты это задумалась, деточка?
– Дядя, а вы были очень несчастны с вашей женой? – сорвалось у меня вдруг, почти невольно, с языка.
Никогда не забуду я, как подействовал этот неожиданный вопрос на бедного дядю. Его спокойное строгое лицо вдруг все избороздилось мелкими морщинками, как от физической боли. Он даже руки вперед протянул, словно отстраняя от себя удар. И мне стало так жаль его, так больно и так стыдно. Мне почудилось, что и я, сняв с ноги туфельку, ударила его по щекам.
– Дядя, голубчик, простите! Я не подумав спросила! – говорила я, ласкаясь к нему и пряча на его груди мое раскрасневшееся от стыда лицо. И доброму же дяде пришлось утешать меня за мою нескромность.
С тех пор я уже никогда больше не возвращалась к этому недозволенному вопросу. Но о всем остальном я смело могла расспрашивать дядюшку Петра Васильевича. Я считалась его любимицей, и мы, бывало, часами просиживали вместе, толкуя о всякой всячине. Когда он бывал занят какой-нибудь идеей, он только о ней одной мог и думать, и говорить. Забывая совершенно, что он обращается к ребенку, он нередко развивал передо мною самые отвлеченные теории. А мне именно то и нравилось, что он говорит со мною как с большой, и я напрягала все усилия, чтобы понять его или, по крайней мере, сделать вид, будто понимаю.
Хотя он математике никогда не обучался, но питал к этой науке глубочайшее уважение. Из разных книг набрался он кое-каких математических сведений и любил пофилософствовать по их поводу, причем ему часто случалось размышлять вслух в моем присутствии. От него услышала я, например, в первый раз о квадратуре круга, об асимптотах, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, о многих других вещах подобного же рода, – смысла которых я, разумеется, понять еще не могла, но которые действовали на мою фантазию, внушая мне благоговение к математике как к науке высшей и таинственной, открывающей перед посвященными в нее новый чудесный мир, недоступный простым смертным.
Говоря об этих первых моих соприкосновениях с областью математики, я не могу не упомянуть об одном очень курьезном обстоятельстве, тоже возбудившем во мне интерес к этой науке.
Когда мы переезжали на житье в деревню, весь дом пришлось отделать заново и все комнаты оклеить новыми обоями. Но так как комнат было много, то на одну из наших детских комнат обоев не хватило, а выписывать-то обои приходилось из Петербурга, это было целой историей, и для одной комнаты выписывать решительно не стоило. Все ждали случая, и в ожидании его эта обиженная комната так и простояла много лет с одной стеной, оклеенной простой бумагой. Но, по счастливой случайности, на эту предварительную оклейку пошли именно листы литографированных лекций Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении, приобретенные моим отцом в его молодости.
Листы эти, испещренные странными, непонятными формулами, скоро обратили на себя мое внимание. Я помню, как я в детстве проводила целые часы перед этой таинственной стеной, пытаясь разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в котором листы должны бы следовать друг за другом. От долгого ежедневного созерцания внешний вид многих формул так и врезался в моей памяти, да и самый текст оставил по себе глубокий след в мозгу, хотя в самый момент прочтения он и остался для меня непонятным.
Когда, много лет спустя, уже пятнадцатилетней девочкой, я брала первый урок дифференциального исчисления у известного преподавателя математики в Петербурге, Александра Николаевича Страннолюбского, он удивился, как скоро я охватила и усвоила себе понятия о пределе и о производной, «точно я наперед их знала». Я помню, он именно так и выразился. И дело, действительно, было в том, что в ту минуту, когда он объяснял мне эти понятия, мне вдруг живо припомнилось, что все это стояло на памятных мне листах Остроградского, и самое понятие о пределе показалось мне давно знакомым.








