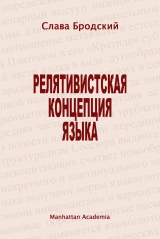
Текст книги "Релятивистская концепция языка"
Автор книги: Слава Бродский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Второй довод в пользу релятивизма связан с рассмотрением того, насколько человеческое общество в целом подвержено изменениям в эстетических оценках. Не так уж давно о написании стихов без рифм и размера, сочинении музыки без мелодии или создании картин без сюжета никто даже и не помышлял. Сейчас это дело уже вполне освоено. И никто уже не удивляется самому факту существования подобных областей. (К делу не относится, но хочется вот что заметить. Многие сейчас думают, что для новаторства больше не осталось никакого простора. Для таких людей я предложил бы попробовать писать музыку без звука, а литературные произведения – без слов.)
Когда я рассказывал о релятивистской концепции языка в одной не очень знакомой мне компании, в этом месте один представительный мужчина заметил, что я так говорю потому, что, как видно, мне не нравятся абстрактные картины, современная поэзия и современная музыка. Но это еще не значит (я продолжаю цитировать представительного мужчину), что они не нравятся никому. Вкусы, мол, бывают разные. Одни любят одно, другие – другое.
И я немедленно с ним согласился. И мне даже захотелось его обнять по-дружески, потому что я тоже считаю, что вкусы бывают разные. Единственное, что удержало меня от этого дружеского жеста, так это то, что мне было непонятно, почему мой оппонент решил, что мне не нравятся абстрактные картины и все такое прочее. И я сказал ему тогда, что получил достаточно хорошее образование. Ну, в том смысле, что мне с самого раннего детства внушали и вколачивали любовь ко всем этим невозможно прекрасным вещам. И я уже давно без ума от всего их немыслимого совершенства. И дело не в том, люблю я что-то или не люблю. Моя мысль заключается в том, что человеческое общество в целом подвержено изменениям в эстетических оценках. И это, безусловно, говорит в пользу релятивизма.
Наблюдения за реальной действительностью могли бы дать нам еще больше подтверждений в пользу релятивизма в эстетике. Различия во вкусах, например, были бы хорошим дополнительным доводом. Примеры относительности эстетических литературных суждений еще будут даны мной в одном из следующих разделов приложения. Здесь я только подчеркну, что в действительности различия во вкусах гораздо более глубокие, чем это кажется поверхностно. И объяснение этому – довольно простое. Когда вас спрашивают, любите ли вы Мону Лизу, у вас нет никаких других вариантов, кроме положительного ответа. Правда, в последнее время народ стал немного хитрить. Наум Коржавин обратил внимание на то, что можно слышать от людей высказывания такого типа: «Мне такой-то поэт не близок, но я понимаю, что он гениален». Коржавин определил такой ответ как ответ от лукавого. Он также добавил, что если поэт тебе не близок, то ты не можешь знать, гениален он или нет. С этим я, кстати, не очень согласен. Хотя, как это часто бывает и как это следует из духа моих заметок, это несогласие, возможно, связано с неоднозначным толкованием слова «знать». Если оно в этом контексте близко к слову «понимать», тогда я с этим утверждением соглашусь. Потому что, если поэт не близок тебе, ты не можешь добавить свою лепту к суждению о его гениальности. А если слово «знать» в рассматриваемом контексте означает обладание определенной информацией, то в этом смысле ты вполне можешь знать, что поэт признается многими как гениальный, даже если он тебе не близок.
Но это не очень существенная деталь. Я просто хотел подчеркнуть здесь, что естественная человеческая робость часто маскирует значительные различия во вкусах.
Таким образом, мы пришли здесь к тому, что вполне согласуется с выводами релятивистской концепции. А именно: любые два человека имеют различные эстетические литературные представления. Эти представления у каждого человека меняются со временем и всецело зависят от временно́го периода, в котором он живет, и от окружающей его обстановки.
Можно ли распространить выводы об относительности литературно-эстетических суждений людей на относительность религиозных и моральных убеждений? Должен признаться, что мне пришлось сделать над собой некоторое усилие, чтобы задать этот вопрос в моих заметках, поскольку он уводит меня еще дальше (чем литература) от языковой тематики. Однако все рассуждения этого раздела практически не привязаны к литературе или литературной эстетике. Поэтому я все-таки задал этот вопрос.
Отвечаю я на свой вопрос положительно. И думается, что мой положительный ответ не вызовет ни у кого никаких возражений. Не ожидаю я даже возражений по поводу религии. Я думаю, что любой человек, независимо от своих религиозных убеждений, должен найти здесь подтверждение своей точки зрения.
Религиозные люди принимают свою религию в результате акта веры, а не на основании каких-то научно-исторических изысканий или логических умозаключений. Поэтому мои выводы не должны иметь никакого отношения к их религиозным убеждениям. В то же время идеи релятивизма помогают им понять, как и почему сторонники других религий, или нерелигиозные люди, или даже атеисты выбрали свой путь.
Что касается противников любых религий, то они, я думаю, найдут в моих заметках еще одно подтверждение своей точки зрения на сугубо земное происхождение убеждений религиозных людей.
О взаимопонимании
– Do you have more quarters?
– I’m hungry, my dear.
Из разговора на пляже
Здесь я хочу выполнить обещание, данное мною в одном из предыдущих разделов. Я хочу привести несколько ярких примеров отсутствия взаимопонимания между людьми, говорящими на одном и том же национальном языке.
Первый пример связан с юриспруденцией. Почему мы сталкиваемся в суде с такими сложностями? Почему, даже когда сняты все проблемы по фактам, то и в этом случае все вопросы оказываются очень спорными? Мне могут сказать, что в этом случае мы сталкиваемся либо с проблемой неполноты законов, либо с их противоречивостью. Тем более что из какой-то умной математической теоремы (здесь я прошу прощения у математиков и их обожателей за тавтологию) следует, что такая система, как свод судебных законов, может быть либо неполной, либо противоречивой. Мне также могут сказать, что часто споры возникают по причинам логического характера. Да, это все так. Однако на простом языке можно сказать, что огромное число споров происходит из-за различного толкования понятий.
Один из примеров – это ставшее широко известным судебное разбирательство о выплате страховой суммы после террористического нападения на Мировой торговый центр (World Trade Center) 11 сентября 2001 года.
По условиям страхования эта сумма была ограничена некоторой величиной, относящейся к одному инциденту (occurrence). Вопрос заключался в том, сколько было инцидентов. Если был только один инцидент, то это была бы одна сумма. Если инцидентов было два – сумма удваивалась. Владелец зданий утверждал, что было два инцидента. Первый был в 9:46 утра, когда первый самолет врезался в Южную башню. А второй – через 16 минут, когда второй самолет врезался в Северную башню. Страховые компании утверждали, что оба самолета были частями одного и того же инцидента. Разница в трактовке одного слова приводила к разнице в выплате страховой суммы в несколько миллиардов долларов.
Я, конечно, привожу здесь это судебное разбирательство в сильно упрощенном варианте. На самом деле было много других обстоятельств, которые усложняли дело и имели только косвенное отношение к трактовке слова «инцидент».
В какой-то момент определение, данное в страховой форме WilProp, было признано основополагающим для этого дела. В этом определении говорилось о том, что инцидентом (occurrence) признается серия похожих случаев, независимо от времени и места происшествия. И тут позиция владельца зданий была очень сильно подорвана.
Однако нельзя сказать, что это дело вселяет в нас оптимизм относительно разрешения похожих дел в будущем. Можно легко представить себе, что суд должен будет решать, какие случаи можно считать «похожими». И, наверное, кто-то захочет внести бо́льшую ясность относительно понятия «похожие», определив его. А затем внести ясность в использующиеся при этом определении слова. И идти по этой дорожке вперед к созданию противоречивой системы.
Первый мой пример имел отношение к разбирательству споров в суде. Можно ли сказать, что похожее происходит также и в бытовых спорах? Мне кажется, что можно. Я думаю, что терминологические расхождения наряду с ошибками по фактам и логической путаницей составляют основу всех споров. Проверка этого моего утверждения дается читателю в качестве его единственного домашнего задания к моим заметкам.
Можно ли подтвердить практикой, что эстетическое содержание одного и того же литературного произведения воспринимается по-разному различными людьми и что каждый индивидуум по-разному воспринимает одно и то же литературное произведение в разное время? Наблюдаем ли мы это в реальной жизни?
Конечно наблюдаем. Мы видим на каждом нашем шагу, что одни и те же литературные произведения вызывают разные отклики разных людей. Можно даже привести много примеров, когда признанным мэтрам литературы не нравились произведения других больших мастеров. Первый напрашивающийся пример: Льву Николаевичу Толстому активно не нравился Шекспир. Лев Николаевич в различные периоды своей жизни по-разному относился к Пушкину. Пастернак не любил Хлебникова, Багрицкого, Мандельштама и Гумилева. Гумилева не любили еще Брюсов и Вячеслав Иванов. Пастернака не любили Набоков и Волошин. А Набоков, кроме Пастернака, не любил еще Достоевского и Бунина. Бунин не любил Достоевского, Блока и Андрея Белого. Цветаева и Ахматова не любили Чехова. Мандельштам не любил Цветаеву. Андрей Белый не любил Мандельштама. Мандельштам не любил Андрея Белого.
А как насчет естественных наук? Может быть, там дела обстоят лучше?
Мой третий пример относится к биологии. Это касается начавшейся в конце 30-х годов в большевицкой России дискуссии по вопросам генетики. В основном дискуссия велась по поводу справедливости законов Менделя.
Я представлю здесь этот пример несколько подробнее предыдущих двух, потому что он был долгое время на острие общественного внимания.
В спор вступили два академика, чьи имена были известны чуть ли не всей стране (возможно, по разным причинам).
Академик Колмогоров обратил свое внимание на проведенные аспиранткой академика Лысенко опыты. По мнению этой аспирантки, ее опыты опровергали теорию Менделя о расщеплении в отношении трех к одному. К этому выводу она пришла, проведя некоторые простые вычисления по результатам этих опытов.
Академик Колмогоров произвел свои математико-статистические вычисления на основании тех же самых опытов и пришел к выводу, что никакого противоречия с теорией Менделя нет. Эти свои результаты он в 1940 году опубликовал в Докладах Академии Наук СССР под названием «Об одном новом подтверждении законов Менделя». В своих выводах он написал, что опыты аспирантки академика Лысенко, вопреки ее собственному мнению, блестяще подтверждают теорию Менделя.
Многие дальше заголовка и выводов статьи не идут. Поэтому они и не обратили внимания на то, что это не совсем одно и то же – сказать, что опыты не противоречат теории или что они блестяще ее подтверждают. У простого народа уважение к математике – большое. А в советской России оно было просто огромным. Колмогоров сейчас признается многими математиком номер один двадцатого столетия. В 1940 году, может быть, до такого признания дело еще не дошло. Но все равно – если Колмогоров сказал, что он математически доказал справедливость законов Менделя (а как еще можно понять слова о блестящем подтверждении законов Менделя?), то, значит, он действительно это доказал.
Сторонники академика Лысенко, правда, заподозрили что-то неладное. И они в один голос стали говорить, что, мол, никакая математика не может доказать или опровергнуть биологические законы.
Ну, я должен здесь заметить, что опровергнуть законы математика может очень просто. А вот с подтверждением законов дела в математике обстоят гораздо хуже. И сторонники Лысенко, наверное, печенками своими это почувствовали. И тут бы им прочитать не только заголовок и выводы, а всю статью Андрея Николаевича (академика Колмогорова, то есть). И сказать, что, мол, Андрей Николаевич, у нас с вами терминологическое взаимонепонимание произошло. Вы-то вовсе не показали, что опыты подтверждают теорию Менделя. Вы просто не нашли противоречий между опытами и теорией. И говоря, что опыты подтверждают теорию, вы просто имели в виду, что они не противоречат ей. А это могло случиться, например, по той причине, что опытов было мало. Если бы опытов было намного больше, то вы, может быть, с помощью своих же методов смогли бы и опровергнуть теорию Менделя.
Сторонники академика Лысенко могли бы еще и такое сказать. Представим себе на одну минуту (могли бы они сказать), что по теории Менделя расщепление должно было бы происходить в отношении не 3 к 1, а, скажем, 100 к 33. В этом случае на основании тех же самых опытов с помощью практически тех же самых вычислений академик Колмогоров пришел бы к аналогичному выводу. А именно, что проведенные опыты не противоречат теории расщепления 100 к 33. И, по всей видимости, он должен был бы продолжить, что они блестяще подтверждают эту теорию. И тогда получалось бы, что Андрей Николаевич одновременно доказал, что расщепление происходит и в отношении 3 к 1, и в отношении 100 к 33. Что на самом деле противоречит одно другому.
Но сторонники академика Лысенко не смогли продраться сквозь формулы Андрея Николаевича. Поэтому они ничего такого не сказали. А вместо этого стали бить Колмогорова цитатами классиков большевизма. И по этой причине (или по какой-то другой) победили. Теория Менделя и (заодно) математическая статистика были поруганы. Оправданы в России они были только много лет спустя.
Но когда они были оправданы, никто почему-то не вспомнил, что и Андрей Николаевич тоже был виновен в возникшем взаимонепонимании, утверждая, что опыты блестяще подтверждают теорию Менделя. И до сих пор по поводу этой оплошности никто не решился еще сделать никаких критических замечаний. Более того, сторонники математико-статистических методов настолько осмелели, что стали просто-напросто допускать презрительные высказывания о людях, которые выражали свои сомнения в том, что математико-статистические методы способны доказывать законы биологии и других естественных наук. Однако этот момент уже не относится к теме моих заметок. Поэтому на этом месте я закончу описание всей этой истории, которая представляется мне поразительным примером того, как люди науки могут говорить на разных языках.
О нормах языка
– Где ты купила эти очки?
– Они для чтения.
Из разговора на пляже
В этом разделе я хочу подробнее обсудить процесс создания норм национального языка. И первый вопрос здесь таков: для чего создается нормативный язык?
Теоретически, было бы хорошо договориться об определенных правилах национального языка. Действительно, при этом возникает надежда, что нормативный язык мог бы позволить уменьшить взаимонепонимание индивидуумов. И это вроде бы не идет вразрез с тем, что обсуждалось в предыдущих разделах.
И в реальности вы видим, как параллельно с академиками, многосторонне изучающими национальный язык, обычно работает другая группа, которая делает одно, на первый взгляд, очень полезное дело: регламентирует употребление языка индивидуумами. В том, что дело это полезное, никто не сомневается. То есть предполагается, что никто не сомневается в полезности этого дела. На самом деле кто-то, безусловно, в этом сомневается. Я, например, долго сомневался, полезное ли это дело или бесполезное. А сейчас я думаю, что регламентировать национальный язык до малейших тонкостей – дело бессмысленное. С другой стороны, не регламентировать абсолютно ничего – тоже не очень-то хорошо. Вот договорились ставить точку в конце предложения. Разве это плохо? Это, я считаю, здорово. Еще какие-то там несколько правил или несколько страниц правил – может быть, на этом можно было бы и остановиться?
На самом деле академики и их помощники останавливаются не в зависимости от логики, а от того, сколько у них находится средств на их полезное дело.
В этом месте я хотел бы сосредоточиться на обсуждении примера российского подхода (отрицательного, как мне кажется) к процессу выработки норм национального языка.
В России в последние сто лет академикам русского языка всегда выделяли много денег (сравнительно с другими областями). Деньги эти шли из кармана налогоплательщиков (если так можно сказать в ситуации полной финансовой неразберихи). Специально для академиков русского языка был создан Институт русского языка. Дело было поставлено с большим размахом по одной простой причине. Необходимые средства выделялись по решению небольшой группы правителей. А российским правителям эта деятельность казалась полезной, поэтому денег на нее не жалели.
Как же в России академики объясняли (и объясняют сейчас) людям цель своей работы над нормами языка? Да никак они этого не объясняют. Просто предполагается (этими академиками), что любые аспекты их деятельности необходимы всем, а тот, кто этого не понимает, – невежда.
Если вы, скажем, написали книгу, то ее язык должен соответствовать тем нормативам, которые они выработали. И с этой целью книга ваша будет пропущена через редакторское и корректорское сито.
Предположим теперь, что вы помните школьные правила русского языка, но никогда не выходили за рамки школьной программы. Это, кстати, не так уж и плохо. Потому что школьные правила достаточно хорошо покрывают правила русского языка, которые (напоминаю на случай, если вы об этом забыли) были изданы советскими академиками в 1956 году. Правила эти долгие годы (и до сих пор) считаются единственными официальными правилами русского языка. Хотя, что это значит, что правила были официальными, не очень-то ясно. Но русский народ привык, что если какая-то бумажка напечатана и на ней написано «Правила», то лучше понимающе обратить свой взгляд к небу и стараться не нарушать эти правила умышленно или (по крайней мере) каким-либо вызывающим образом.
Правда, «Правила» эти были долгое время засекречены. Не знаю, входили ли они в печально известный «Перечень» запрещенных сведений, но, так или иначе, из продажи «Правила» в какой-то момент исчезли. Были они, выражаясь современным языком, политически некорректны. Например, словосочетание «вторая мировая война» писалось в «Правилах» именно так, с маленькой буквы. А это противоречило орфографии главной большевицкой газеты «Правда».
Теперь я возвращаюсь к истории с вашей книгой. Допустим, что вы перед сдачей книги в издательство выверили ее с помощью Microsoft Proofing Tools, использовав при этом весь свой багаж школьных знаний. Можно представить себе, как будет выглядеть корректорская правка? Думаю, что правки будет много. В частности, корректор найдет у вас много ошибок с запятыми. И, что самое удивительное, запятые эти будут корректором поставлены в основном без вашего участия. А задумывались ли вы над следующим: что, в сущности, означает тот факт, что корректор может расставить запятые без вашего участия? Я помогу вам с ответом. Это значит, что эти запятые функционально не нужны. Хотя все они будут поставлены (если, конечно, вам попался хороший корректор) в соответствии… Вы думаете, что я скажу «в соответствии с правилами русского языка»? Нет, я так не скажу. С правилами русского языка уже справились вы сами вместе с Proofing Tools. Запятые будут поставлены в соответствии с различными грамматическими пособиями, среди которых заслуживающими наибольшего доверия считаются в России справочники Розенталя.
Я понятия не имею, как удалось Розенталю убедить советских аппаратчиков в необходимости добавлений к правилам русского языка. Но как-то, видно, удалось. Во всяком случае, «Вторая мировая война» Розенталь писал с большой буквы. И, следовательно, правила Розенталя противоречат правилам русского языка.
В течение десятилетий правила русского языка уточнялись и дополнялись. Знали эти дополнения в полном объеме, пожалуй, только некоторые работники печати. Авторы книг правил этих не знали. Если корректор говорил, что надо было поставить какую-то запятую, которая из школьных правил явно не следовала, то авторы обычно соглашались. Как правило потому, что просто доверяли корректору. Рядовой читатель тоже никаких правил сверх школьной программы не знал. Да не только рядовой. Читатель, о котором можно было бы сказать, что он – грамотный читатель, тоже этих правил не знал.
По поводу этой моей точки зрения я услышал возражение одной знакомой, которая гостила у меня как раз тогда, когда я заканчивал работать над своими заметками. Она сказала мне, что я незаслуженно обижаю всех русскоговорящих. И что, мол, это уж всем известно, что русский читатель в массе своей грамотнее любого другого читателя в мире. А происходит это потому, что никто не читал так много, как читали в советской России. И что, мол, всем известно, что в этом смысле такой страны, как советская Россия, никогда не было и, скорее всего, больше и не будет.
Ну, я вообще люблю критические замечания в мой адрес, и когда я с ними соглашаюсь, испытываю даже чувство удовлетворения. А в этот раз я очень даже был согласен с моей знакомой. Действительно, в России в прошлом веке читали всё подряд и все свободное время. А свободного времени было много. Читали и дома, и на работе. И по дороге с работы домой, и из дома на работу (благо руки рулем заняты не были). У многих были большие личные библиотеки. Но их хватало только на несколько лет. А потом приходилось читать все по второму разу. А потом – еще и еще. Так что я действительно согласен с моей знакомой, что русский народ читал много. Хотя знакомая моя, так же как и я, имела в виду, наверное, только жителей больших городов. В основном – жителей двух российских столиц. Все остальное российское население книгу редко видело. Но я на самом-то деле имел в виду совсем другое. Я хотел только подчеркнуть, что многочисленные дополнения к правилам русского языка, на мой взгляд, избыточны. И тот факт, что их никто не знает (даже не полностью, а хотя бы в значительной мере), просто подтверждает мою точку зрения. И я вовсе не считаю, что русский читатель их не знает, потому что он глуп, или ленив, или необразован. Он их не знает потому, что дополнения очень уж обширны и, хотя бы только поэтому, сложны. Другими словами, получается так, что соблюдение правил Розенталя нужно только для работников печати, стоящих на страже этих правил.
Зачем вообще нужна сверхдетальная регламентация в русском языке? Зачем нужно соблюдать правила Розенталя, если их практически никто не знает? Вряд ли кто-то сможет ответить на эти вопросы.
Кстати, я уже упоминал, что при детализации правил увеличиваются шансы внутренних противоречий. Интересно было бы понять вот что. Являются ли правила русского языка со всеми действующими уточнениями и дополнениями непротиворечивыми?
Я могу ответить на свой вопрос отрицательно не в каком-то теоретическом смысле, а имея в виду практику использования правил. Вы можете убедиться в справедливости моего вывода самостоятельно. Только для этого вы должны не пожалеть своих денег и отдать уже откорректированную рукопись на вторичное корректирование. Даже в том случае, когда оба корректора будут квалифицированными мастерами своего дела, вы все равно получите довольно много исправлений в первоначально откорректированном варианте. Я имел возможность убеждаться в этом много раз. А это и означает, что практически внутренней непротиворечивости в правилах русского языка нет.
Часто можно слышать (особенно из недр Института русского языка), что, мол, назрела необходимость пересмотра правил русского языка. Однако доводы в пользу пересмотра не выглядят (скажем, для меня) убедительными. Хотя по-человечески я могу понять людей из института Академии наук. Конечно они хотят, чтобы их деятельность имела какое-то практическое применение. Конечно они хотят, чтобы на реформу правил русского языка были выделены большие средства, потому что это даст им новую работу.
У меня, кстати, есть хорошее предложение для сторонников реформы правил русского языка. Я предлагаю ставить запятые после каждого слова, за исключением тех случаев, когда возникает языковая пауза, и тех случаев, где должен стоять другой знак препинания. Если бы реформаторы правил русского языка со мной согласились, то тогда были бы сразу убиты четыре зайца.
Во-первых, запятая ставилась бы в пику американцам и вообще всем говорящим на английском языке. (А в английском языке, напоминаю, основное правило постановки запятых – обратное: запятая ставится там, где возникает языковая пауза.)
Во-вторых, запятая в русском языке стала бы работать таким же образом, как и в английском. Потому что и в том, и в другом случае мы точно знали бы, где есть языковая пауза. И, таким образом, функциональное значение запятой было бы очень приличным.
В-третьих, количество пунктуационных правил уменьшилось бы примерно в сто раз.
И, в-четвертых, была бы удовлетворена любовь всех последователей русского языковеда Розенталя к запятой.
После всех моих высказываний я, конечно, вполне мог бы ожидать вопрос: работал ли я с корректором в процессе публикации этих своих заметок? Вместо ответа разрешите мне привести такой пример. Предположим, я считаю, что ходить по улицам голым очень полезно для здоровья. Представляется ли вам логичным ожидать от меня, что я с сегодняшнего дня буду ходить только голым? Мне кажется, что никакой логики тут нет. Точно так же и с моими заметками. Моя цель – изложить свою точку зрения. Никакой другой цели я не преследую.
О языке как элементе
общественной структуры
– What time is it?
– Darling, you’ve had a good breakfast of granola, oatmeal, fruit, yogurt, and a double espresso!
Из разговора на пляже
В предыдущих разделах шла речь о том, каким образом генерируется нормативный, или литературный, язык. Основной вопрос, на который я попытаюсь ответить в настоящем разделе: каково отношение общества к литературному языку?
Я не могу высказывать свои суждения обо всех обществах на Земле. Мне трудно даже делать выводы в целом об обществе, говорящем на русском языке. Гораздо более уверенно я могу рассуждать о тех, кто говорит на том же подмножестве русского национального языка, что и я сам – на нормативном, или литературном, русском языке.
Так вот в этой довольно узкой среде я слышал примерно такие высказывания: «Язык является как бы лакмусовой бумажкой, определяющей, к какой категории общества относится конкретный человек. Если кто-то говорит на литературном языке, то это значит, что этот человек из моего круга. Он образован. С ним не зазорно общаться». А те, языковый снобизм которых был еще выше, добавляли: «А если кто-то говорит на языке, сильно отличающемся от моего, то он не из моего круга. Я не хочу с ним общаться. И не хочу, чтобы мои дети дружили с его детьми. И постараюсь, чтобы они ходили в разные школы».
Такой подход по существу очень близок к обыкновенному расизму, поскольку он дискриминирует людей по их происхождению. Подход этот культивируется, конечно, значительнее в закрытых, тоталитарных режимах, чем в открытых, демократических. В наиболее передовых (разумеется, с моей точки зрения) демократических странах он считается неэтичным общественным поведением и нелегален во многих сферах деятельности.
В большевицкой России носители литературного языка называли себя интеллигентными людьми. Принадлежность к интеллигенции являлась привилегией в основном жителей двух российских столиц, где русский литературный язык практически только и поддерживался. Эта привилегия была частью пакета привилегий столичных жителей, самой главной из которых было наличие вареных и копченых колбас в магазинах. Однако же именно нормы русского языка стали лакмусовой бумажкой российской интеллигенции. Наверное, так случилось потому, что изобразить колбасу на своем флаге российская интеллигенция не решилась. А с языком она неожиданно получила сильную поддержку печатным словом и вообще всеми большевицкими органами информации. И замелькали все эти «источник знания», «великий могучий», «лучший подарок».
Печатное слово всегда и везде пользовалось авторитетом. Конечно, его воздействие различно в различных обстоятельствах. Но думаю, что не ошибусь, если скажу, что в основном это воздействие на индивидуума определяется структурой общества, в котором он живет. В открытых, свободных структурах это воздействие слабо. В закрытых, тоталитарных режимах оно гораздо сильнее. Поэтому и грамматические правила воспринимаются по-разному. В демократическом обществе они рассматриваются каждым индивидуумом скорее как средство для достижения каких-то целей. В тоталитарном – как безоговорочное предписание.
Что лучше? Каждому – свое. Мне нравится демократическое общество, и я не люблю безоговорочные предписания. Вполне допускаю, что многим нравятся тоталитарные режимы и не нравятся возможности выбора. И я допускаю, хотя мне и трудно себе это представить, что существуют и смешанные варианты.
Однако с упомянутым выбором дело обстоит гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В одном из предыдущих разделов я уже отмечал, что академик, работающий над нормами, скажем, русского языка, под видом нормативного (литературного) русского языка предлагает нам язык, на котором он говорит. Поэтому те люди, которые живут в одном доме с академиками и говорят на близком языке, имеют возможность выбирать. И каждый из них в действительности делает такой выбор относительно принятия или непринятия (частичного или полного) официальной языковой доктрины. Такой выбор индивидуумы делают, возможно, не осознавая того, что они его делают.
Для тех, кто живет вдали от академиков, принятие официальной языковой доктрины связано со значительными усилиями. Осмелюсь утверждать следующее: в глухой сибирской или саратовской деревне этот процесс будет напоминать изучение иностранного языка.
Насколько же сильно был развит языковый снобизм русской интеллигенции в большевицкой России? За одно только «неправильное» ударение в одном слове «начать» человеку ставили клеймо неинтеллигентного человека и относили его к разряду некультурных людей. Склонение числительных всегда считалось хорошим тестом на интеллигентность.








