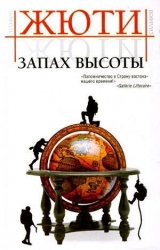
Текст книги "Запах высоты"
Автор книги: Сильвен Жюти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Истинный героизм
Мершана – это его ложь, – думает Уго, который ничего уже больше не понимает.
Уго не знает, что думать, что делать. Обычно ему не свойственна подобная нерешительность.
Необычные и неопределенные обстоятельства чаще всего неудобны.
Уго не страшат неудобства, но сейчас неудобство того положения, в котором он оказался, имело иную природу.
Он молча закрылся в своей палатке. Карим знает, что с ним происходит в подобных случаях. Он оставляет его в покое.
Уго держит в руках слишком много деталей странного паззла; хуже того – они от разных паззлов, и узор не складывается. Мершан, Клаус, Ильдефонс. И сам Уго. Ильдефонса Мершан, вероятно, мог и придумать. Клауса он придумать не мог. А мог он придумать его, Уго?
Не фон Бах исчез на пути к вершине, это был Мершан. Итак, Мершан спустился – но другим путем, поэтому-то остальные напрасно ждали его. И этот другой спуск, каким бы он ни был, может вести только через вершину. Или быть где-то рядом. Теперь Уго в этом не сомневался.
Пункт, в котором Мершан не солгал: они умерли из-за него. Но он скрыл то единственное обстоятельство, которое могло бы все объяснить и оправдать его: покорение величайшей вершины мира, на которую никогда не ступала нога человека. Чего ему не хватило: сил, чтобы доказать это? Он боялся, что ему не поверят?
Мифоманы встречаются, Уго знавал многих из них: их полно в горах. Но когда они лгут, то не для того, чтобы принизить себя, они мечтают о величии. Они приписывают себе необыкновенные подвиги; и если бы кому-то из них выпал случай действительно совершить подвиг, он не стал бы это скрывать.
Быть может, Мершан хотел, чтобы Уго до самого конца верил, что вершина – не завоевана?
Камень! Камень, подаренный ему Мершаном!
Уго порылся в своих ящиках. Вот он. Обыкновенный обломок слюдяного сланца, блестит чуть ярче, чем обычно. На срезе четко видна зазубрина: будто его отбивали ледорубом. Резкие углы. Такие же, или почти такие, можно найти в горах Рейнвальдхорна возле Парадисглетчера. Он кладет его в верхний карман своей куртки.
Если Мершан взошел на вершину, этот камень… Ну так что ж, что такое этот камень? Что в нем такого особенного, чего нет в других?
То, что Мершан просил его положить камень на вершину. И то, что Уго обещал это сделать.
А если Мершан и в самом деле придумал себе Уго? Уточним: что, если Мершан каким-то образом заставил Уго отправиться на Сертог и, следовательно, отыскатьтам?…
Отыскать что?
Подобное восхождение на такую трудную и высокую гору в 1913 году граничило с чудом. И Мершан мог бы стать «самым высоким человеком мира». Так по какой причине он стал бы это скрывать? Почему он захотел сохранить этот великий подвиг для одного себя? Что же он нашел там, на вершине, такого, о чем не сумел бы никому рассказать?
Вот это – верно: там было что-то, что не могло быть рассказано; то, что нельзя извратитьсловами; что-то такое, что Мершан не нашел иного способа сохранить это, кроме одного: молчания. И это – именно то, о чем Уго или кто угодно другой сможет узнать – когда-нибудь.
Внезапная вспышка озарения: Мершан скрыл нечто неуловимое.
И хотел, чтобы он, Уго, знал это.Конечно, Мершан не сумел предупредить Клауса. Но этот камешек не может быть ничем иным, кроме доказательства, чем-то вроде визитной карточки, какие оставляли друг другу альпинисты его эпохи.
Мершан указал ему путь.
Неожиданно Уго понял: ему остается сделать только одно. Впервые он догадался, к чему приведет его Сертог.
А что, если он ошибается? Мершан, может быть, просто дожидался реванша, желая, чтобы кто-то другой доказал его восхождение, чтобы ему наконец воздали заслуженные почести…
Нет, это было бы слишком пошло. Этим поступком он в своей гордыне скрыл от истории исторический факт – причем настолько лежащий на поверхности, что бы там ни произошло на самом деле, и как раз потому, что только то, что так лежит на поверхности, можно легко скрыть. Что-то,что надо было защищать как можно дольше, – что-тотакое хрупкое, такое исчезающе мимолетное, такое, быть может, бесполезное с точки зрения современного мироустройства, что об этом ничего нельзя было рассказать.
Положение вещей начинало медленно проясняться.
Тогда, иди все как обычно, восхождение Уго должно было бы разрушить его, даже если бы он и не понял этого что-то.Мершану хотелось подать ему знак, чтобы он пережил краткий миг внезапного ощущения потери этого нечто.
Уго решился. Теперь он чувствует в себе силы, выбрав своей задачей защиту самой этой хрупкости. Неожиданно он испытал прилив горячего счастья при мысли о том, что Мершан тоже ничего не узнает о поступке Уго, который станет продолжением и развитием его собственного – если только можно продолжить нечто.
Он внимательно перечитал свои контракты: никаких обязательств. Разумеется, это выражено совершенно ясно. Единственная просьба к нему: в интервью перед прессой он должен будет упомянуть несколько имен – как и предсказывал Мершан. И то же самое – в фильмах, книгах, на конференциях. А если публикаций не будет? Этот случай никто не предусмотрел. Разве кто-то когда-то отказывался выступать, кроме, конечно, сумасшедших? Это – единственное табу, оставшееся в обществе, мнящем себя свободным от любых запретов: все, что опубликовано, – хорошо, все, что хорошо, – опубликовано.
И следовательно, кто бы ни отказывался от того, чтобы его поступки, его жизнь и т. д. стали видимыми,кто бы ни отказывался отвечать на вопросы,он – сумасшедший или преступник. Не важно, если люди лгут или приукрашивают действительность, это легко принимается и даже приветствуется. Единственное преступление – это скрытность. Молчание. Или еще точнее: отказ от рекламы.
Разумеется, это важно только для публичных людей. То, что жизнь миллиардов других человеческих созданий остается невидимой, – не имеет значения. То, что тонны людей не имеют иной мечты, кроме той, чтобы их заметили, и желают заявить о себе любыми средствами (альпинизм – одно из них, так же как написание книг, жонглирование карликами и участие в глупейших телевизионных передачах), которые только увеличивают престиж тех, кто туда приходит. Когда же пресса интересуется невидимками, это обычно делается для того, что извлечь на свет божий «типичного» персонажа и создать эфемерную «звезду». Например, Уго – самый типичный альпинист; великолепный образчик, можно сказать, «жемчужина» альпинизма.
И все-таки – его собственный опыт хождения по городским задворкам тому доказательство – множество вещей, бок о бок с которыми проживают миллионы людей, остаются невидимыми. Сколько всего еще жаждет сделаться видимым.
Но не вершина Сертог.
Уго улыбается, представив себе газетные заголовки.
«Тайна У.Д. Гора, порождающая безумие. В чем его открытие? Ему есть что скрывать. Мистика. Он стал сектантом? Сведенный с ума высотой».
Медики говорят: слишком долгое и частое пребывание на большой высоте медленно разрушает нейроны. Уго, несомненно, провел на высоте семи с половиной тысяч метров больше часов, чем кто бы то ни было во все времена. И наверняка – выше восьми тысяч.
Да нет: о нем быстро забудут, потому что сплетничать будет не о чем – материала не хватит. Спекуляции не могут питаться пустотой. И потом, есть столько других, алчущих заполнить собой иную пустоту – пустоту газет…
Сможет ли он удержаться от искушения и не ответить как-нибудь вроде «Позже» или «No comment»? Но «No comment» – это ведь тоже комментарий. Следовало бы вообще ничего не говорить. Онеметь, остаться безгласным и скрытным, как тайна тех не-пейзажей, картин унылых городских предместий, которые так его завораживали – и именно по этой самой причине,как он только что понял. Молчать перед натиском слепой нерассуждающей волны, всей своей силой желающей превратить неизвестное в известное, невероятное в банальное, непродажное сделать продажным, а неопределимое – определенным; решить загадку; так как у каждой задачи должнобыть решение.
Задача, в структуре которой не заключено решение, – вот самый сильный вызов разуму, какой только можно себе вообразить.
Гора, взойти на которую невозможно…
Впрочем, люди об этом знают: их интересуют только решаемые проблемы; те, что им уже известны. А о проблемах, не имеющих решения, они старательно забывают, считая, что их не существует. Как, например, о невыразимом трагизме существования – об этой глубочайшей пропасти, которую вырыла эволюция человека и которая становится все глубже по мере того, как человечество тщетно пытается ее засыпать. Это и называется прогрессом.
Любая проблема появляется только тогда, когда уже обозначилось начало ее решения. Уже сам факт возникновения какой-то новой проблемы – сигнал того, что оно вот-вот будет найдено (даже если на это должны порой уйти десятки лет, а иногда и веков).
Уго часто случалось наблюдать, как журналисты, когда им не хватало опыта или внимания, не понимали его и сокращали или выбрасывали его слова – приводя неизвестное к известному и заменяя новизну старым и привычным. Все сказанное должно иметь объяснение, общепринятый смысл, то есть быть понятным. Все надлежит выражать в установленных оборотах.
Говорите яснее: в двух словах, да или нет. Все, абсолютно все, любой ценой должно уложиться в это прокрустово ложе. И лишь молчание пока еще ускользает от этого правила: почти только оно одно сохраняет право оставаться сложным для понимания.
Можно говорить все что угодно, лгать, выдумывать, лишь бы не позволять свершиться этой непристойной неловкости: молчанию; отказу от общения; Пустоте.
Молчание предельных высот пугает; это – картина, которой нечего сказать и которую вот уже двести лет пытают, стараясь заставить заговорить.
Ибо гора – это что-то высокое, невыразимое. А журналисты стремятся разрушить это высокое. Газеты – прямая противоположность поэзии.
Из чувства стыдливости Уго никогда не говорил журналистам, что его любимый поэт – Леопарди. [100]100
Джакомо Леопарди (1798–1837) – итальянский поэт-романтик.
[Закрыть]Из безнадежных строф этого возвышенного поэта они извлекли бы только повод для пустой болтовни.
Да, в сущности, кто из журналистов мог знать Леопарди? Ему задавали вопросы о спорте, о перформансах – но не о Гельдерлине [101]101
Гельдерлин Йоган Кристиан Фридрих (1770–1843) – немецкий поэт-романтик; вдохновлялся образами Эллады, воспевал величие «духа природы»; с 1804 года страдал тяжелым душевным расстройством, в 1806-м помещен в психиатрическую лечебницу.
[Закрыть]или Хопкинсе, [102]102
Хопкинс Джерард Мэнли (1844–1889) – английский поэт-романтик и теоретик литературы, принял католичество, служил приходским священником, был членом ордена иезуитов. При жизни не печатался. Написал 35 сонетов.
[Закрыть]двух вершинах его личного Парнаса, который в отличие от Парнаса классического имел больше двух вершин.
О the mind, mind has mountains; cliffs of fall
Frightfull, sheer, no-man-fathomed. Hold them cheap
May who ne'er hung there [103]103
О разум! У разума есть вершины, отвесные стены, ужасные пропасти, которых никогда не постичь человеку. Он воздвигает их вокруг пустоты, где ему не за что зацепиться.
[Закрыть]
Джерард Мэнли Хопкинс, 1885 год. Хопкинс дорог его сердцу еще и потому, что он единственный поэт, у которого был опыт покорения высокой горы: он взошел на Бретхорн в 1868 году – как раз перед тем, как вступить в запрещенный в то время в Швейцарии орден иезуитов.
Каждому – свое: у гениального поэта Хопкинса через сто лет после смерти – всего тысяча читателей; а им, тщеславным героем современности, его подвигами восхищаются миллионы. Признание в его литературных вкусах могло бы, конечно, стать для него «плюсом», знаком его связи с другой кастой. В сущности, ничего особенного.
А пока Уго подозревал, что в разрыве между двумя этими классами есть нечто фальшивое и что эта фальшь исходит не от него.
Он не имел в виду религию: то, что Хопкинс обратился в католичество, не суть важно.
Уго не верит ни в Бога, ни в нечто потустороннее. И меньше всего – в то искусственное потустороннее, символом которого стали «выход за пределы самого себя», «самореализация» – этот нелепый культ, которому послушны все его современники, от президента фирмы до законченного наркомана.
Он спросил себя, достанет ли у него сил. До сих пор он никогда не сомневался в себе. Но до сих пор он всегда был послушен, поступая так, как от него ждали. В общем, это было так просто: он чувствовал, как его несет воля стольких людей, обожавших его свершения; ему было легко завоевывать горы. Побеждать. Выигрывать. Быть лучшим. Воплощать собой Совершенство, Мужество, Власть над Опасностью.
Он – пример для юношества и общества. Герой нашего времени. Он выступал на семинарах (его лекции щедро оплачивались) перед руководителями высшего звена, а они строчили заметки и степенно задавали ему вопросы, послушно положив рядом с креслами свои кейс-атташе и оставив мобильник на поясе. Он – в полярной шубе, обросший всклокоченной бородой, они – при костюмах-галстуках, гладко выбриты; каждый – в своей униформе. Иногда они снимали галстуки и обращались к нему на «ты»: так действовал на них дух приключений. Уго объяснял им, как проявить дух инициативы и дерзости. Как пользоваться своими страхами, тревогами, стрессом, чтобы стать сильнее соседа. Он, одиночка, воплощал собой Новые Ценности Индустриальной Эпохи. Самыми активными его спонсорами были, как следовало ожидать, представители транснациональных корпораций. Они так похожи на него: целеустремленные, преуспевающие, лучшие. А все пресс-атташе – милые и симпатичные, всегда в курсе всего, приятные модные люди. Быть в курсе всего – вот что сейчас модно. Они стоят друг друга. Он воплощает чистоту страсти. Энергию успеха. Совершенство воли. Уго – пример для мира властей предержащих, залог его честности, живое доказательство того, что там царят вовсе не погоня за наживой, не массовые увольнения, не стремление раздавить конкурента или спрятать концы в воду, тотальная маскировка последствий своих поступков, влияющих на жизнь одного, десяти, сотни, тысячи, десятка тысяч людей сегодня и завтра; нет, там правят Благородство и Гуманность – за эту вывеску ему и платили.
Отвратительно.
Подлинное приключение ждет его после Сертог. Она – всего лишь ступенька на подходе к нему.
И все-таки он колеблется, внезапно осознав, что молчание может стать просто новым способом заставить говорить о его подвигах – teasing,«разводка», если пользоваться языком пивных баров.
Нет, его профессия состоит в том, чтобы заставить говорить о себе. Его дело – известность, и именно потому он – приятный «славный малый». С тех пор как появилось телевидение, мир никогда уже больше не видел людей, которые были бы известны и антипатичны. Старые ворчливые неприятные брюзги (делающие все, чтобы остаться неприятными) – такие, как Поль Леото, – могли существовать лишь в дотелевизионную эпоху. А альпинизм – это просто техника, это – единственное, чем он может распоряжаться.
Уго привык решать свои проблемы. Но сейчас он чувствует, что стоящая перед ним задача – выше его сил. Она превосходит и подавляет его так же, как подавляют и завораживают его уродство и сила нищих окраин.
Горы обладают такой же неистовой силой, они тоже долго казались ужасными, пугающими. Окраина – край света, место ссылки – быть может, однажды миру тоже откроется его красота?
Неожиданно Уго подумал, что первых альпинистов – Ораса-Бенедикта де Соссюра, Рамона де Карбоньера, Бельзазара Аккета де ла Мотта, Пласидуса а Спечча – пленяли прежде всего те же самые геологическая ярость и неодолимая сила, какие притягивали его сегодня в окраинах. И привлеченные этим притяжением-отторжением, они, должно быть, тоже старались отыскать красотугор.
Правда ли, что гора красива? Уго бросает взгляд на вершину. А пригородные окраины – уродливы? Но если первая – красива, а вторые – уродливы, почему же ему хочется снимать не горные пейзажи, а пригородные задворки?
Ясно одно: Сертог не даст ему ответов на такие вопросы. И однако, он знает, что только гора позволит ему приблизиться к ответу.
Так краем чего, местом какой ссылки была Сертог (или, возможно, любая другая гора)?
Он должен пройти эту гору. Чтобы решить загадку – если это возможно.
Что ж, подведем итоги. У Мершана не было другого выхода, как только дойти до вершины.
Мершан мог спуститься только другим маршрутом.
Есть две возможности: обратная сторона горы – склон, ведущий к затерянной долине, и Большой кулуар.
Спуск к затерянной долине? Ведь монахи говорили ему, что спуститься туда проще простого – сесть «задом на снег» и съехать вниз.
Или все же Большой кулуар?
Или – магия? Как Миларепа на Кайласе?
Кайлас – священная гора: настолько, что ни один альпинист никогда туда не поднимался. Канченджанга – тоже священна. Во время первого восхождения англичане остановились в нескольких метрах от ее вершины по просьбе правителя Сиккима; с тех пор ее наводнили сотни людей, презревших давно забытый запрет. А правитель Сиккима женился на американке и был смещен Индией. Его личная богиня-хранительница – гора – не могла больше его защитить?
Уго опять пришли на ум слова гарпонаНгари, объяснявшего в 1938 году Герберту Тич'и, почему тибетцы так не любят гостей с Запада: «Я встречал многих европейцев и индийцев, воспитанных европейцами. Все они показались мне очень несчастными. У нас есть наши боги, и мы довольны. Если бы европейцы пришли сюда, они прогнали бы наших богов и ничем не сумели бы их заменить. Вот почему мы предпочитаем держаться в стороне».
А может, Мершана защитил какой-нибудь безымянный бог, имя которого не может быть ни названо, ни написано. Бог, которому невозможно поклоняться. О котором можно говорить только околичностями, намеками, если только не заявить, что его не существует. Правда ли это – узнать об этом можно лишь, подобравшись к нему совсем близко; а это пугает – так же, как смерть. Быть может, альпинизм есть последняя форма апофатизма? [104]104
Апофатизм (греч.) – путь отрицания, учение о том, что высшая реальность в своей последней глубине непостижима и неопределима. (Это учение было впервые ясно провозглашено Упанишадами). В христианском богословии апофатизм, по словам В.Н. Лосского, – это «выражение совершенно определенной умонастроенности, превращающей каждую богословскую науку в созерцание тайн Откровения».
[Закрыть]
Но есть и другие. Их смерть – до сих пор тайна, и Уго терпеливо старается найти разгадку с помощью того единственного средства, какое у него осталось: воображения. Весь следующий день он по-прежнему не выходит из палатки, тасуя события, прикидывая, как они могли бы происходить. Время от времени Карим предлагает ему чаю. Уго что-то невнятно бурчит в ответ, почти не слыша; он попеременно становитсяКлаусом, Даштейном, Им Хофом, он проживает вместе с ними их медленную агонию. Он должен им хотя бы это: это его способ воздвигнуть для них могилы.
Конечно, все это – смутно, неясно и вряд ли верно. Но в основных чертах – должно сойтись.
Когда наступил вечер, Уго уже знал, что ему делать: остался только один путь – к вершине. Он акклиматизировался, он – в прекрасной форме. Он проведет эту ночь в Каре, потом – молниеносный бросок наверх.
Ответ принесла гора:
Обломок скалы,
этот кусочек камня, который Корнелиус преподнес мне в доказательство своих слов, показался мне совершенно ничтожным. Однако монахи ценили его превыше алмаза, почитаемого ими более всех других драгоценных камней, а Корнелиус до сих пор еще не забыл своего сна и был недалек от того, чтобы позволить еще глубже увлечь себя в безумные мечты. Я старался разуверить его в его заблуждении, толкуя ему про то, что не мог бы я так долго дожидаться его в монастыре, так как я бы решил, что он давно уже умер, и, кроме того, наша миссия понуждала нас вернуться назад задолго до истечении трех лет, кои он будто бы провел в сей призрачной стране; но он упорствовал в бредовых своих измышлениях и мечтаниях – так что даже когда я представлял ему шаткость его рассуждений, он утверждал, что, напротив, это меня опоили усыпляющими настоями, каковые гилонгидавали мне, чтобы я терпеливо дождался его возвращения; и он так упрямо держался за свои иллюзии, что ни я, ни гилонгибыли не в силах доказать обратное, ибо календарь их довольно смутен; а он, не довольствуясь верою в подобную химеру и забывая, что его три года оказались всего лишь тремя днями, думал теперь, будто открыл некое царство, чудесным образом защищенное ото льдов и сохранившее невинность первых лет творения и добродетель наших праотцев; на что я решился возразить ему, говоря, что Эдем,о коем повествует Святое Писание и который нужно, конечно же, понимать буквально – как реальное место, а вовсе не как символ, на чем настаивают еретики, – стал с тех пор, как наши прародители были изгнаны оттуда Огненным Мечом Херувима, запретен и закрыт для людей до Дня Последнего Суда и конца всех времен; и что, следовательно, даже помыслить о том, будто можно, пусть даже, как это случилось с ним самим, преодолев тысячи препятствий, хотя бы приблизиться к нему на самую малость, да и просто уверять, будто видел отблеск этого места, – было бы ересью и богохульством. Но на это рассуждение святой отец легко припомнил и начал приводить мне самые ученые труды – Abramus, Malvenda, Moncaieus,а также множество отрывков из святых отцов, посвященных сей теме, из чего стало совершенно очевидно, сколь сильно Корнелиус интересовался этим сюжетом – даже до своего отъезда из Рима. Тогда я в конце концов прибавил, что с тех пор, как мы здесь, я ни разу не встретил в этих горах никого, кроме чумазых язычников, запачканных грязью и суевериями, а то и самым презираемым из пороков – распутством; и все это – в ужасной пустыне ледяных гор, продуваемых всеми ветрами; а здешний климат до того суров, что тут не растет ни единого деревца; и не похоже, чтобы в сих страшных местах могли обретаться Райские кущи. И вот в самом сердце этих льдов вы, отец мой (сказал я Корнелиусу), хотели бы, чтобы я счел возможным обрести вечную весну вкупе со всеми радостями, какие вкушали Адам и Ева до своего грехопадения. Поистине, отец мой, вы сбились с пути, и разум ваш помутился: распространять подобные бредни – великий грех. Корнелиус же ответил мне, что он – да простит его Бог! – и не мыслил, будто набрел на тот Эдем,куда ото всех людей после Адама был восхищен один только святой Павел, да и то лишь духом; тогда как он, Корнелиус, побывал в сей стране во плоти, и, следовательно, она, несомненно, не может быть тем самым раем, а просто неким местом, неким его подобием – так что оно неким образом напоминает его величие и великолепие. Я хотел было съязвить над всеми этими «некими», но он в доказательство своих слов показал мне омертвевшие ступни, измученные долгой дорогой, забыв, что, если он и вправду провел три года в оном месте, полном всяческих чудес, во что он до сих пор верит, так и не объяснив мне, как могло свершиться это таинственное диво, раны его давным-давно успели бы зажить. Святой отец утверждал, что Эдемскрыт от нас навеки в стране, лежащей где-то к востоку, за Тебетскимигорами; а эти варвары, несмотря на свое язычество, сохранили какую-то память о нем, на что и указывает их басня о Шамбале;и святой отец вовсе не думает, чтобы они могли хоть как-то приблизиться к нему, скорее наоборот: святость и благость оного рая, прежде этим людям неведомые, наложили на соседствующие с ним края свой отпечаток и окрасили их светом высшего совершенства; и приводил мне в доказательство не столько чудесный климат и изобилие всяких прекрасных вещей, коими он наслаждался все время, пока жил в том краю (приходится мне признать, что Корнелиус выглядел в превосходном здравии, нимало не исхудавшим и не голодным – как по прибытии нашем в монастырь Гампогар,после ужасных гор Палпу, – хотя его ноги были изранены из-за тягот пути во льдах), сколько свое свидетельство, как быстро люди сии перешли в нашу истинную веру и приняли крещение и все обряды нашей Святой Мессы – что вещь невиданная, и никогда варвары так не поступали, разве только некоторые; а так как я возразил ему, что говорить так о самых священных догматах нашей церкви – тяжкий грех, он мне ответил в сильном волнении такими исполненными ереси словами: «Проклят – не Рай, проклят – человек».
И Корнелиус продолжал докучать мне, и изумлял меня другими сумасбродными речами, и без конца богохульствовал, бредил и волновался; а ум его был уже столь расстроен, что вразумить его казалось невозможно; сверх того, он считал, что вернуться в ту же пещеру, откуда мы начинали свой путь с гилонгами,ему удалось только по милости Господней, и по тому же милосердию своему Бог дозволил ему приоткрыть великую тайну, каковую он, говоря по правде, понял едва ли наполовину и помнил лишь как сновидение, ниспосланное ему свыше; но поверил ему и внушил себе, будто великая гора Сертоявляет некий отсвет благодати Эдема,кою смогли воспринять даже эти варвары, несмотря на их преступную ересь; и отсюда святой отец заключил, что их учение тоже, должно быть, хранит что-то (уж и не знаю что) от этой благости; и провозгласил такое богохульство, что у меня волосы встали дыбом от ужаса: «Каждый может иметь свою собственную веру, как и свое лицо».
Тогда-то я и постиг, как крепко уже опутали его эти ламы своими сетями и заворожили его чарами, усыпив сначала каким-то магическим колдовством. Я постарался объяснить ему, как он неискушен в таких делах, словно желторотый птенец, и возражал ему, приводя на его рассуждения мнения авторитетнейших отцов нашей Церкви и ссылаясь на самые сильные из тех, какие только мог вспомнить; но Корнелиус непрестанно мне прекословил, припоминая другие сентенции святых отцов, и, правду сказать, такие же неотразимые, от чего я сбивался с толку и, совсем запутавшись, не умел ему ответить. А он так упрямился и так упорно стоял на своем и прожужжал мне все уши своими россказнями – так что я уже не знал, что и думать; тем более что менее всего на свете мог бы счесть его способным измыслить такую историю. Я попытался вернуть святого отца на путь рассудка и заставить его признать, что сия гора Серто– всего лишь куча камней, гилонгиже – злые маги и интриганы, кои дьявольскими своими проделками хотели обратить его в их Веру, вместо того чтобы принять нашу – в Господа Нашего Иисуса Христа, а страна их – самый грязный и жалкий край на всем свете, а вовсе не неведомая, скрытая до срока земля чудес; но он уже так далеко продвинулся в своем безумии, что не желал ничего слышать и не внимал моим доводам. Я из себя выходил; слушая, как святой отец так хладнокровно нес несуразную ахинею, да к тому же ужасную ересь, в коей упорствовал до того, что вскоре отказался покинуть монастырь и решил остаться, чтобы, как он сказал, потрудиться над согласием наших народов и наших религий. Напрасно я толковал ему, насколько подобный труд идет вразрез с нашей миссией, он не желал уступать.
Конечно, он сохранял видимость глубочайшего благочестия и проводил все свое время в молитвах; а гилонгисчитали меня теперь дурным человеком, не видя, в чем я могу упрекать столь славного священника – такого набожного и так неотступно блюдущего все предписания нашей религии; однако хотя он много раз бывал на церемониях сих гилонгов,и они все чаще приходили поучаствовать в наших обрядах, и кое-то из них выказывал похвальное рвение, несмотря на то, что понимание ими тайн Святого Писания оставляло желать лучшего, и я горько печалился, что такой прекрасный успех померк, пригашенный затмением души и разума святого отца, смущенного Демоном. Не зная, что предпринять, и не надеясь на помощь гилонговв столь трудном случае, не в силах больше ни спорить с отцом Корнелиусом, ни убедить его в чем бы то ни было, я решился возвратиться на Гоаи дать отчет обо всех событиях нашим начальникам.
Прежде всего, едва эти варвары узнали его байку, они возрадовались и тут же затянули бесконечную и самую любимую молитву своим божкам, то есть: «Ом мани пеме хунг». [105]105
«Ом мани пеме хунг» – мантра бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары, каждый слог ее освобождает живущих в одном из шести миров сансары, в том числе и того, кто повторяет эту мантру, от перерождения в этих мирах.
[Закрыть]И они так часто просили его повторить рассказ о его приключениях в Шамбале,что уже не удивлялись тому, какую огромную роль играет в нем наша религия. Они теперь принимали Корнелиуса за человека великой святости – после того, как он побывал в сей стране; и просили его благословения, каковое он им давал с большой охотою; и, почитая его, возлагали его ступню себе на голову в знак своего смирения, поскольку он, по их словам, был достоин такой награды за свои заслуги; и твердо верили, что он непременно вернется в царство Шамбалу,равно именуемое ими также Байул,и ликовали. Причина такой радости: это тайное царство, замкнутое в горах, было до сей поры недоступно никому, кроме нескольких их величайших святых, нашедших там (здесь я передаю как можно ближе к их преданию) жизнь столь сладостную, что никогда не пожелали бы они вернуться назад, если бы не сострадание, кое они должны были, согласно их вере, испытывать к своей стране и народу; и в довершение всего на памяти их хроник не было еще случая, чтобы туда попал бы кто-то моложе восьмидесяти. Но есть предсказание одного из самых почитаемых ими лам по имени Угуен,гласящее, что, когда откроется людям Шамбала,настанет время радости и изобилия: ужасная пустыня Тебетскогоцарства покроется лесами и цветами, ледяной ветер обернется нежным зефиром, стиснувшие его со всех сторон страшные горы внезапно изгладятся, и т. д., и т. д. И они полагали, слушая сказку, рассказанную им Корнелиусом, что пора эта наступила; он же, убеждая меня в том же самом, ссылался на некие письма, дошедшие до священников наших из Европы, согласно которым евреи и турки стоят на пути к обращению в истинную веру; вот почему Корнелиус так уверен, что все эти ложные боги вскоре падут и уступят место нашей религии и что грядет Тысячелетнее Пришествие Господа Нашего.
Конечно, на их легенде сияет отблеск писаний наших святых отцов, хотя она и была расцвечена разными сказками и суевериями. Оттого и чудилось нам, как утверждал святой отец, что у них остались какие-то воспоминания о Писании, хотя искаженные ошибками. В это я еще мог охотно поверить; и, возможно, Корнелиус, невзирая на собственные свои заблуждения, мог бы сыграть свою роль в спасении сих язычников и, так как теперь он близко сошелся с ними сумел бы растолковать им, что ожидаемое ими Царствие – не от мира сего, но грядет вскоре, о чем говорят уже явленные нам повсюду знаки; и они, несомненно, войдут в него лишь бы были они добры сердцем, искренни в помыслах и благородны душою и согласились на обряд святого крещения – хотя кальвинистская ересь и утверждает обратное.
Но Корнелиус не желал ничего и слышать об этом и теперь настаивал, что, трудясь вкупе с самыми знающими их учителями, отыскал некую новую истину, и будто бы она приведет ко всеобщему согласию, как когда-то мечтали о том некоторые еретики.
Несмотря на все мои увещевания, святой отец вскорости наотрез отказался от споров на эту тему, и я ясно видел, что отныне подстрекаемые им гилонгипитают ко мне недоверие. Он так меня подвел, что мне не оставалось ничего другого, кроме как покинуть эту страну. Вот почему, сокрушаясь о печальном конце нашего предприятия и глубоко скорбя еще от того, что оно могло закончиться совсем иначе, я решил отправиться к Утангу,а оттуда направить свои стопы к Шапарангу, Ладакуи Гоа,ибо дорога к странам Палпуи Брамасионбыла закрыта снегами. Не без горечи и досады оставил я Корнелиуса, коего, невзирая на ужасные и преступные его заблуждения, до сих пор считал своим другом, хотя он и выказал явное облегчение, видя, что я собираюсь уйти. По моем уходе со мной торжественно попрощались и гилонги,и сам Дулку,и святой отец, каковые почтительно осыпали меня тьмой учтивых поклонов и бесконечных любезностей; и я опять попытался представить себе истинную историю его пребывания в сих горах и отделить в его словах правду от лжи. Тогда Корнелиус, плача, сжал меня в объятиях и пожелал обнажить дно своей души, признавшись в том, что до поры таил от меня. Он взял меня за руку и указал мне на вершину горы, где еще сияла…








