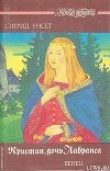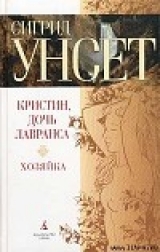
Текст книги "Хозяйка"
Автор книги: Сигрид Унсет
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
Симон молчал. О невольном смущении, которое он испытывал перед глубочайшими тайнами мук и наслаждений, какие могла явить ему жизнь, Эрленд, казалось, даже и не имел понятия. Он обращался с самым скверным и с самым прекрасным столь же простодушно, как неразумный мальчик, которого друзья повели с собой в бордель, пьяного и любопытного…
Эрленд нетерпеливо завертел головой:
– Эти мухи… хуже всего… Они, верно, созданы нечистым!
Симон снял шапку и стал бить ею и вверх и вниз по густым роям сине-черных мух, так что те целыми тучами, жужжа, взвились к потолку. Он в бешенстве втаптывал в грязь тех, которые падали, оглушенные, на пол.
Это не очень помогло, потому что отдушина в стене оставалась открытой, – минувшей зимой она прикрывалась деревянным щитом с прорезанными в нем отверстиями, закрытыми пузырем, но тогда в помещении было очень темно.
Симон еще продолжал заниматься этим, когда вернулся Улав Кюрнинг со священником, который нес чашу с питьем.
Священник бережно приподнял Эрленду голову и поддерживал его, пока тот пил. Много проливалось ему на бороду и стекало по шее, а потом он лежал спокойно и невозмутимо, как дитя, когда священник вытирал его тряпкой.
Симон был в таком состоянии, словно что-то бродило в его теле; кровь глухо стучала и стучала у него где-то под ушами, и сердце билось как-то странно и беспокойно.
Мгновение он постоял, глядя из двери неподвижным взором на длинное вытянутое тело под плащом. Лихорадочный румянец ходил теперь волнами по лицу Эрленда, он лежал с полузакрытыми блещущими глазами, но улыбался свояку – какой-то тенью своей удивительной, невзрослой улыбки.
* * *
На следующий день, когда Стиг, сын Хокона, сидел у себя в Мандвике за столом и завтракал со своими гостями – господином Эрлингом, сыном Видкюна, и его сыном Бьярне, – они услышали топот копыт одинокой лошади во дворе. Сейчас же после этого дверь в господскую горницу распахнулась, и к ним быстрыми шагами подошел Симон, сын Андреса. Он вытер лицо рукавом – был забрызган грязью с ног до головы после езды.
Трое мужчин за столом поднялись с места навстречу прибывшему с легкими восклицаниями полупривета-полуизумления.
Симон не поздоровался, – он стоял, опираясь обеими руками на рукоять своего меча; он сказал:
– Хотите услышать изумительные, потрясающие вести? Эрленда сына Никулауса, взяли и растянули на дыбе… какие-то иноземцы, которых король прислал допросить его…
Мужчины вскрикнули и столпились вокруг Симона. Стиг ударил рукой об руку:
– Что он сказал?
В то же время они невольно обернулись к господину Эрлингу – и Стиг и Бьярне. Симон разразился громким смехом – все хохотал, хохотал.
Он рухнул на кресло, придвинутое к нему Бьярне, взял чашу с пивом, которую подал ему молодой человек, и стал жадно пить.
– Почему вы смеетесь? – сурово спросил господин Эрлинг.
– Я смеялся над Стигом. – Симон сидел, немного нагнувшись вперед и упираясь руками в колени, обтянутые испачканными глиной штанами. Он еще два-три раза фыркнул от смеха. – Я подумал… ведь мы все здесь сыновья знатных людей… Я ожидал, что вы придете в гнев, узнав; что такие дела могут совершаться с одним из равных вам людей, что вы прежде всего спросите, как это могло случиться.
…Не могу сказать, чтобы я знал так уж точно, что гласит в подобных случаях закон. С тех пор как умер мой повелитель король Хокон, я довольствовался тем, что готов был предоставить свои услуги его преемнику, когда тому угодно будет распоряжаться мной в военное или мирное время, – а то сидел себе спокойно дома. Но могу сказать только, что в этом деле с Эрлендом, сыном Никулауса, поступили незаконно. Его товарищи рассмотрели его дело и вынесли свой приговор; по какому праву они присудили его к смерти – не знаю… Потом ему была дарована пощада и дана охранная грамота, чтобы он мог явиться на свидание с королем, своим родичем, – не позволит ли тот Эрленду примириться с ним. С тех пор человек просидел в башне акерснесского замка около года, а король был за границей почти все это время, несколько писем было отправлено в оба конца – и ничего не воспоследовало. Потом король присылает сюда каких-то холуев – они и не норвежцы и не королевские дружинники – и пытается допросить Эрленда способом, неслыханным но отношению к норвежцу, обладающему правами дружинника… А между тем в стране царит мир, и родичи Эрленда и равные ему люди стекаются толпами в Тюнсберг па празднование королевской свадьбы… Какого вы мнения об этом, господин Эрлинг?
– Я такого мнения… – Эрлинг уселся на скамейку прямо против него. – Я такою мнения, что вы рассказали ясно и точно, Симон Дарре, о том, как обстоит это дело. Мне думается, король может сделать лишь одну их трех вещей: или приказать привести в исполнение тот приговор суда, который был вынесен Эрленду в Нидаросе, или назначить новый суд из дружинников и приказать, чтобы дело против Эрленда велось человеком, не имеющим звания рыцаря, – и тогда те присудят Эрленда к изгнанию с предоставлением законного срока для выезда из пределов государств короля Магнуса. Или же он должен позволить Эрленду примириться с собой. И это будет самым умным из всего, что он может сделать.
Это дело, как мне кажется, настолько теперь ясно, что, кому бы вы ни изложили его в Тюнсберге, всякий пойдет за вами и вас поддержит. Там сейчас Ион, сын Хафтура, и ею брат… Эрленд им родич, точно так же, как и королю… Сыновья Огмюнда тоже поймут, что несправедливость тут неразумна. Прежде всего вы должны, конечно, обратиться к предводителю дружины – добиться от него и господина Поля, сына Эйрика, созыва собрания королевских вассалов из числа находящихся сейчас в городе и наиболее подходящих, чтобы взяться за это дело…
– А вы, господин, и ваши родичи не хотите поехать со мной?
– Мы не собираемся на празднества, – коротко ответил Эрлинг.
– Сыновья Хафтура молоды… а господин Поль стар и хил… А другие… Вы сами лучше всех знаете, господин, – правда, у них есть некоторая сила, благодаря королевским милостям и тому подобному, но… Эрлинг, сын Видкюна, что значат они по сравнению с вами? Вы, господин, вы обладали такой властью в этой стране, как никто из других знатных людей, начиная… я уж не знаю с какого времени. За вашей спиной, господин, стоят древние роды, из которых народ нашей страны знал каждого человека с самых незапамятных времен, с каких только начинается предание о дурных и хороших временах в наших долинах. А по отцу… Что такое Магнус, сын Эйрика, или сыновья Хафтура из Сюдрхейма против вас? Стоит ли говорить об их богатстве по сравнению с вашим? Те советы, что вы мне даете… Это потребует времени, а французы сидят в Осло, и вы можете побожиться, что они не сдадутся… Ясно, что король хочет попытаться править в Норвегии по обычаям, принятым в чужих странах; я знаю, в заморских землях повелось так, что король ставит себя выше закона, когда ему это заблагорассудится, если может найти охочих людей среди своего рыцарства, которые поддержат его прочив своих же собственных сотоварищей, равных им по положению…
Улав Кюрнинг уже разослал письма, и господские сыновья, которых он нашел, готовы идти с ним… Епископ тоже обещал написать… Но все это смятение, все эти раздоры, Эрлинг, сын Видкюна, вы могли бы прекратить в тот самый час, когда выступили бы перед королем Магнусом. Вы – первый наследник всей прежней власти знатных господ в Норвегии; король знает, что за вашей спиной встанем мы все…
– Не могу сказать, чтобы я замечал это раньше, – с горечью произнес Эрлинг. – Ты говоришь с таким жаром за своего свояка, Симон!.. Но неужели же ты не понимаешь? Теперь я не могу. Ведь тогда скажут: в тот самый час, когда на Эрленда так нажали, что можно было опасаться, хватит ли у него сил держать язык за зубами… выступаю я!
На минуту стало тихо. Потом Стиг опять спросил:
– А что… Эрленд проговорился?
– Нет, – отвечал Симон нетерпеливо. – Он молчал как рыба. И я думаю, так это будет и дальше. Эрлинг, сын Видкюна, – сказал он с мольбой, – ведь он же ваш родич… Вы с ним были друзьями!..
Снова последовало молчание.
Эрлинг несколько раз вздохнул коротко и тяжело, затем заговорил горячо, убежденно:
– Да… Слушайте, Симон, сын Андреса! Полностью ли вы понимаете, что взял на себя Эрленд, сын Никулауса? Положить конец этому положению, когда у нас общий король со шведами… этому образу правления, которого никогда еще раньше не испытывали… которое, кажется, приносит нашей стране все больше и больше бедствий и затруднений с каждым новым годом… вернуться обратно к старому правлению, нам известному, о котором мы знаем, что оно несет с собой удачу и благоденствие. Разве вы не понимаете, что это было замыслом для дерзкого и умного человека?.. И разве вы не понимаете, что теперь, после него, этот замысел трудно подхватить другому? Дело сыновей Порее он погубил, других людей королевского рода, вокруг которых мог бы сплотиться народ, больше нет. Быть может, вы скажете, что если бы Эрленду удалось осуществить свое намерение и привезти в Норвегию принца Хокона, то он сыграл бы на руку мне? А что дальше, после высадки на берег с этим мальчиком… Все эти… мальчишки… едва ли бы оказались в силах продвинуться в своих замыслах одни… без других, разумных людей, которые помогли бы справиться с тем, что предстояло… Вот как обстоит дело… Решаюсь в этом признаться. Один Господь Бог знает, что я не только не имел никакого барыша, но скорее должен был откладывать попечение о своем собственном имуществе на протяжении тех десяти лет, что я прожил в беспокойстве и трудах, в страданиях и бесконечных мучениях… Кое-кто в этой стране это понял, и этим я и должен удовольствоваться! – Он с силой ударил кулаком по столу. – И разве вы не понимаете, Симон, что человек, взяв на свои плечи столь огромные замыслы, что никто не ведает, не шло ли тут дело о благополучии всех нас, жителей этой страны, и наших потомков на долгие времена… и сложив это все с себя вместе со штанами на край кровати какой-то распутной бабы… Кровь Христова! Да ведь он вполне бы заслужил такую же участь, какая выпала на долю Эудюна Хестакурна!
Потом он сказал немного спокойнее:
– А впрочем, не в том дело, что я не желаю Эрленду спасения, и вы не должны думать, что меня не возмущает все, о чем вы сообщили. И я полагаю, что если вы последуете моему совету, то найдете достаточно людей, которые пойдут вместе с вами в этом деле. Но не думаю, чтобы я мог принести вам такую пользу своим сопутствием, чтобы ради этого мне ехать незваным к королю.
Симон тяжело поднялся с места. Лицо у него посерело от усталости. Стяг, сын Хокона, подошел к нему и взял за плечи, – сейчас подадут поесть; он нарочно не хотел впускать в горницу посторонних, пока не кончился, разговор. Но сейчас можно подкрепить свои силы, поев и попив, а потом соснуть.
Симон поблагодарил; немного погодя он поедет дальше, если Стиг предоставит ему свежую лошадь. И если тот сможет приютить у себя на ночь его слугу Иона Долка… Симону пришлось вчера вечером оставить своего слугу позади, потому что лошадь Иона не могла угнаться за его Дигербейном.[54]54
Дигербейн – по-норвежски тонконогий.
[Закрыть] Да, он скакал большую часть ночи… считал, что отлично знает дорогу сюда… но все же несколько раз сбивался с пути…
Стиг просил его подождать до завтра, тогда и он сам с ним поедет, – во всяком случае, хоть часть пути… Впрочем, охотно съездит с ним и в Тюнсберг…
– Здесь мне нечего больше делать. Я хочу лишь пройти в церковь… Раз уж я приехал сюда, хочу еще помолиться на могиле Халфрид…
Кровь шумела и звенела колоколами в его утомленном теле, сердце оглушительно колотилось в груди. От усталости он был точно в полусне, словно падал куда-то в пропасть. Но услышал свой собственный голос, произнесший ровно и спокойно;
– Не пожелаете ли составить мне компанию, господин Эрлинг? Я знаю, она любила вас больше всех своих родичей…
Он не глядел на него, но почувствовал, как тот весь застыл, И немного погодя услышал сквозь шумящий и поющий звук своей крови отчетливый и учтивый голос Эрлинга:
– Охотно составлю, Симон Дарре… Какая скверная погода! – сказал он, повязывая на себе пояс с мечом и набрасывая на плечи толстой плащ.
Симон стоял неподвижно как вкопанный, пока Эрлинг не был готов. Потом они вышли.
На дворе лил проливной осенний дождь, а с моря наползал такой густой туман, что поля и пожелтевшие лиственные рощи по обеим сторонам тропинки можно было разглядеть не дальше, чем на расстоянии двух-трех коней. До церкви было недалеко. Симон взял ключ в усадьбе священника, расположенной как раз рядом, и обрадовался, увидев там все новый народ, приехавший сюда после его отъезда из Мандвика: значит, можно избегнуть долгих разговоров.
То была маленькая каменная церковка с единственным алтарем. Симон преклонил колена у белой мраморной плиты, отойдя немного от Эрлинга, сына Видкюна, и глядя рассеянно на те же старые изображения и украшения, которые уже видал когда-то столько сотен раз, читал молитвы да крестился в положенных местах, не сознавая ничего.
Он и сам не понимал, как это у него вышло. Но теперь возврата нет. О том, что ему нужно будет сказать, он не имел ни малейшего понятия; но, хоть и чувствовал тошноту от страха и стыда за самого себя, знал, что он все-таки испытает это средство.
Ему вспомнилось бледное, болезненное лицо немолодой женщины в полумраке закрытой кровати, ее милый, нежный голос, – в тот послеполуденный час, когда Симон сидел на краю ее постели и она рассказывала ему об этом. То было за месяц до рождения ребенка, она сама ждала, что он будет стоить ей жизни, но радовалась и желала купить их сына и такой дорогой ценой. Бедный малютка, лежащий там внизу, под плитой, в гробике, у плеча своей матери! Нет, того, что он хотел было сделать, не может сделать никто из людей!..
Но побелевшее лицо Кристин! Она уже знала все, когда Симон вернулся домой из Лкерснеса в тот день. Бледная и спокойная, заговорила она об этом и стала его расспрашивать, но он увидел ее глаза на самый короткий миг и больше не посмел встречаться с их взглядом. Где она сейчас и что она делает он не знал, сидит ли у себя дома, или на свидании с мужем, или же ее убедили уехать в Скугхейм, – Симон передал все это в руки Улава Кюрнинга к отца Инголфа… Больше он был не в силах выдерживать, и, кроме того, ему показалось, что нельзя терять времени…
Симон не заметил, что он закрыл себе лицо руками. Халфрид… Ведь в этом же нет ни греха, ни стыда, моя Халфрид!.. И все же. То, что она рассказала ему, своему мужу… о своем горе и о своей любви, которые заставляли ее оставаться у этого старого дьявола. Однажды он уже убил свое дитя под сердцем матери… а она осталась с ним, потому что не хотела подвергать искушению своего дорогого друга…
Эрлинг, сын Видкюна, преклонил колена без всякого выражения на бесцветном, правильном лице. Руки он прижимал к груди, сложив их ладонями; время от времени осенял себя крестным знамением спокойным, мягким и красивым движением руки и опять складывал пальцы рук концами вместе.
Нет. Это столь ужасно, что никто из людей не в состоянии это сделать. Даже ради Кристин этого он сделать не может! Оба поднялись на ноги одновременно, поклонились алтарю и направились к выходу из церкви. Шпоры Симона тихонько позвякивали при каждом его шаге по каменному полу. Они еще не обменялись ни единым словом с тех пор, как вышли из дому, и Симон не знал, что сейчас произойдет.
Он замкнул церковную дверь, и Эрлинг, сын Видкюна, пошел впереди него через кладбище. Под небольшой крышей над кладбищенской калиткой он остановился. Симон шел за ним; они немного постояли, прежде чем выйти под моросивший дождь.
Эрлинг, сын Видкюна, заговорил спокойно и ровно, но Симон почувствовал безграничное бешенство, бушевавшее в душе спутника, – и не смел поднять глаз.
– Во имя дьявола, Симон, сын Андреса, что вы хотите сказать этим… Что вы тут… подстроили? Симон не мог ответить ни слова.
– Вы полагаете, что можете мне угрожать… и тогда я поступлю по вашему желанию… потому что вы, быть может, слышали какие-нибудь лживые слухи о событиях, которые произошли… в то время, когда вы едва ли еще разучились титьку сосать… – Его гнев постепенно нарастал.
Симон покачал головой.
– Я подумал, господин, что когда вы вспомните ту, которая была лучше самого чистейшего золота… то, может быть, пожалеете жену и детей Эрленда.
Господин Эрлинг взглянул на него, не ответил, но принялся сдирать мох и лишай с камней кладбищенской стены. Симон проглотил слюну и смочил губы языком.
– Я сам не знаю, о чем я думал, Эрлинг, сын Видкюна… Может быть, когда вы вспомните о той, которая претерпела все те тяжкие годы… без всякого иною утешения или помощи, кроме одного только Бога… то захотите помочь стольким людям… А вы можете! Раз вы не могли помочь ей. И если вы раскаивались когда-либо, что уехали в тот день из Мандвика, дозволив Халфрид остаться во власти господина Финна…
– Но я не раскаиваюсь! – Теперь голос Эрлинга словно резал. – Потому что знаю, что она никогда… Но мне думается, ты этого не поймешь. Потому что если бы ты полностью понимал хоть на один-единственный миг, как горда была она, та женщина, которую ты получил в жены… – Он засмеялся от гнева. – Тогда ты не сделал бы этого. Я не знаю, что тебе известно… Но вот что ты, во всяком случае, можешь узнать. Меня послали, – ибо Хокон лежал больной в то время, – чтобы я увез ее домой к ее родичам. Элин и она росли вместе, как сестры они были почти ровесницами, хотя Элин была ей теткой… Мы с ней… Дело в том, что если бы она вернулась домой из Maндвика, мы вынуждены были бы встречаться с ней постоянно. Мы сидели и беседовали всю ночь напролет на галерее стабюра – того, что с головами змея, – за каждое слово, что нами было сказано, мы с ней оба можем ответить перед Богом в день Страшного суда. Пусть ОН ответит за нас, почему это так случилось…
Хотя Бог вознаградил ее наконец за благочестие. Дал ей хорошего супруга в утешение за того, который был у нее раньше… дал такого молокососа, каким ты был… что валялся с ее же собственными служанками в ее собственном доме… и давал ей вскармливать своих пащенков. – Он отшвырнул слепленный в мяч комок мха.
Симон стоял недвижимый и немой. Эрлинг отодрал еще кусок мха и отбросил его в сторону.
– Я сделал то, о чем она просила. Ты слышишь? Иного выхода не было. Где бы еще мы ни встретились на свете, мы бы с ней… Мы бы с ней… Блуд – некрасивое слово. Кровосмешение… еще хуже…
Симон шевельнул головой и, не сгибая шеи, слегка кивнул.
Он сам понимал… Будет смешно говорить о том, что он думал, Эрлингу, сыну Видкюна, было тогда немногим больше двадцати лет, он был изящен и учтив, Халфрид любила его так, что готова была целовать следы его ног на покрытой росою траве двора в то весеннее утро… А он, пожилой, ожиревший, некрасивый мужик… и Кристин? Ей-то, конечно, никогда и в голову не придет, что будет опасно для чьего-нибудь душевного здравия, если они проживут с ней в одном доме хоть двадцать лет. Уж это-то он научился понимать, на пользу для себя…
И вот он сказал тихо, почти смиренно:
– Она не могла допустить, чтобы даже невинному дитяти, которое ее служанка прижила от ее мужа, жилось плохо на свете. Это она просила меня поступить с ребенком по справедливости, насколько это было в моей власти. Ах, Эрлинг, сын Видкюна!.. Ради бедной невинной жены Эрленда… Она умрет от горя… Мне казалось, я должен был испытать все средства, когда стану искать помощи ей и ее детям…
Эрлинг, сын Видкюна, стоял, прислонившись к столбу ворот. Лицо его было таким же спокойным, каким оно обычно бывало, а голос – учтивым и холодным, когда он опять заговорил:
– Мне правилась Кристин, дочь Лавранса, хоть я и мало с ней встречался… Она прекрасная и достойная женщина… И я повторял вам уже много раз, Симон Дарре, – я уверен, что вы получите помощь, если захотите последовать моему совету. Но я не совсем понимаю, что вы имели в виду под этой… странной выдумкой. Не можете же вы думать, что из-за того, что мне пришлось подчиниться моему дяде, когда он решал в вопросе моего брака, – я ведь был тогда несовершеннолетним, а девушка, которую я любил больше всех, была уже просватана за другого, когда мы познакомились… Супруга Эрленда, конечно, не так уж невинна, как вы говорите. Да, это правда, вы женаты на ее сестре, это так; но ведь вы, а не я, повинны в том. что нам; пришлось вести этот… странный разговор… И потому вам придется стерпеть, что я говорю об этом. Помнится, когда Эрленд женился на ней, немало болтали… будто эта сделка состоялась против воли Лавранса, сына Бьёргюльфа, и вопреки его решению, – но девушка больше думала о том, чтобы проявить свою волю, чем о том, чтобы слушаться отца и оберегать свою честь. Конечно, она тем не менее может быть хорошей женой… Но ведь она получила Эрленда, значит, у них было время и радости и утех. Я никогда не поверю, чтобы Лавранс очень любил этого своего зятя… Ведь он-то уже выбрал для своей дочери другого мужа, когда она познакомилась с Эрлендом… Я знаю, она была уже просватана… – Он внезапно умолк, на мгновение поглядел на Симона и довольно смущенно отвернулся от него.
Сгорая от стыда, Симон низко склонил голову на грудь, но все же сказал тихо и твердо:
– Да, она была обещана мне.
С минуту они стояли, не смея глядеть друг на друга. Затем Эрлинг отшвырнул последний комок мха, резко повернулся и вышел под дождь. Симон остался стоять… Но его собеседник, который уже отошел немного и начал скрываться в тумане, остановился и нетерпеливо помахал ему.
Я вот они пошли обратно, столь же молча, как и пришли сюда. Когда они уже подходили к дому, господин Эрлинг сказал:
– Я сделаю это, Симон Дарре. Подождите до завтра, мы поедем вместе, все четверо.
Симон взглянул на Эрлинга… Лицо его было искажено от зла и боли. Он хотел поблагодарить, но был не в силах, ему пришлось крепко прикусить себе губу, потому что нижняя челюсть у него страшно дрожала.
Когда они проходили в дверь горницы, Эрлинг словно случайно дотронулся до плеча Симона. Но каждый из них знал о другом, что они не смеют взглянуть друг на друга.
На следующий день, когда они готовились к отъезду, Стиг, сын Хокона, все навязывал Симону свою одежду, – тот не захватил с собой ни одной смены. Симон оглядел себя, – его слуга почистил и выколотил ему платье, однако это не помогло: платье сильно пострадало после такого долгого пути в плохую погоду. Но Симон хлопнул себя по ляжкам.
– Я слишком толст, Стиг… Да и на пиру мне не бывать!.. Эрлинг, сын Видкюна, стоял, поставив ногу на скамью, и сын подвязывал ему позолоченную шпору, – господин Эрлинг словно старался обойтись сегодня по возможности без слуг. Рыцарь рассмеялся со странным раздражением.
– Пожалуй, не повредит, если по Симону Дарре будет видно, что он не жалеет себя, чтобы услужить свояку… а является прямо с большой дороги со своими смелыми и добросердечными речами. У него язык прекрасно подвешен, у нашего с тобой прежнего свояка, Стиг! Одного я боюсь… что он сам не будет знать, когда ему следует остановиться.
Симон стоял, густо покраснев, но ничего не сказал. Во всем, что Эрлинг, сын Видкюна, говорил ему со вчерашнего дня, он замечал насмешку с обидой пополам… и какую-то странную доброту… и твердую волю довести дело до конца – раз уж он за него взялся.
И вот они поехали на север от Мандвика, – господин Эрлинг, его сын и Стиг с десятью прекрасно одетыми и хорошо вооруженными слугами. Симон, ехавший со своим единственным слугой, подумал, что у него должно было бы хватить ума ехать ко двору с более подобающей свитой и вооружением, – Симону Дарре из Формо нет надобности ехать вкупе со своими прежними родичами, словно маленькому человеку, который ищет их поддержки в своем бессилия. Но ему было все равно. Он так устал и был так разбит от всего совершенного им вчера, что теперь ему почти казалось безразличным, каков будет исход этой поездки.
* * *
Симон всегда делал вид, что не питает доверия к скверным слухам о короле Магнусе. Сам он был не таким уж святым человеком, чтобы не вынести грубой шутки среди взрослых мужчин, Но когда люди подсаживались друг к другу и, тесно сблизив головы, начинали с содроганием бормотать о темных к тайных грехах, Симон всегда чувствовал себя неловко, И ему казалось непристойным верить или внимать чему-нибудь гадкому о короле, на верность которому он присягал.
И все же он изумился, стоя перед молодым королем. Он не видал Магнуса, сына Эйрика, с тех пор, как тот был ребенком, и все-таки ждал, что в нем проявится нечто женственное, липкое, нездоровое; однако перед ним был один из самых красивых молодых людей, на каких когда-либо падал его взгляд, и у него был мужественный и царственный вид, несмотря на всю его молодость и хрупкую стройность.
На короле был голубой с зеленым кафтан, ниспадавший до самых пят широкими складками и перехваченный в тонком стане позолоченным поясом; он был высок ростом и еще по-юношески худощав, но держался с непринужденным изяществом, несмотря на свою тяжелую одежду. У него были белокурые волосы, лежавшие гладко на красивой голове, но на концах искусно завитые. Черты его лица были тонки и задорны, цвет кожи свежий, с румянцем на щеках и желтоватым оттенком солнечного загара, глаза ясные, взгляд открытый. Он поздоровался со своими подданными с красивым достоинством и с любезной мягкостью. Потом положил руку на рукав Эрлинга, сына Видкюна, отвел его за собой на несколько шагов в сторону от других собравшихся и поблагодарил за приезд.
Они немного поговорили между собой, и господин Эрлинг упомянул, что у него есть особое дело, в котором он рассчитывает на милость и благосклонность короля. Тут королевские слуги поставили для рыцаря кресло перед почетным королевским сиденьем и, указав трем остальным места несколько подальше, удалились из зала.
Как будто сами собой у Симона появились те обращение и повадка, которые он приобрел в молодости, и так как он наконец сдался и взял у Стига заимообразно длинную коричневую суконную одежду, то и по внешности не отличался от других присутствовавших. Но, сидя здесь, он чувствовал себя словно во сне: был и не был тем юным Симоном Дарре, живым и учтивым сыном рыцаря, который подавал полотенце и носил свечу при Дворе короля Хокона в Осло бесконечно много лет тому назад. Он был и не был Симоном, крестьянином из Формо, жившим относительно привольной и веселой жизнью на севере долины все эти годы, в то время как где-то глубоко в нем лежал и тлел уголек… Но он отвращал свои мысли от этого. В нем поднималась глухая и грозная воля к возмущению… То не было сознательным грехом или его собственной виной, ему известной, – нет, то сама судьба раздувала тлеющую искру в яркое пламя, а ему приходилось бороться и делать вид, что он ничего не замечает, поджариваясь на медленном огне.
Он встал, когда все другие встали, – король Магнус поднялся со своего места.
– Дорогой родич! – прозвучал его юный, свежий голос. – Мне кажется, дело обстоит так. Принц – мой брат, но ведь мы никогда не пытались содержать Двор и дружину совместно: одни и те же люди не могут служить нам обоим. По-видимому, и Эрленду не приходило в голову, что такое положение вещей может продолжаться, – хотя он в течение некоторого времени сидел на воеводстве под моей державой и вместе с тем был вассалом принца Хокона. Но те из моих людей, которые предпочтут последовать за моим братом Хоконом, получат освобождение от службы мне и свободу искать себе счастья при его Дворе. А кто же они такие – вот это я и намерен узнать из уст Эрленда!
– Тогда, государь, вы должны подумать, не сможете ли вы прийти в этом вопросе к соглашению с Эрлендом, сыном Никулауса. Вам следовало бы выполнить данное вами обещание об охранной грамоте и предоставить вашему родичу возможность переговорить с вами…
– Да, он мой родич и ваш родич, и господин Ивар побудил меня пообещать ему охранную грамоту, но ведь он не сдержал своих кляты на верность мне и не вспомнил о родстве между нами. – Король Магнус тихо рассмеялся и опять положил руку на рукав Эрлинга. – Мои родичи, родич, видно, живут по пословице, которая есть у нас в Норвегии, что родич родичу – худший враг. Ныне я полностью желаю проявить милосердие к своему родичу Эрленду из Хюсабю, ради Господа Бога, девы Марии и моей невесты, – дарую ему жизнь, и имущество, и разрешение обитать здесь, в Норвегии, если он захочет примириться со мной, и законный срок на выезд из моих стран, если он пожелает поехать к своему новому повелителю, принцу Хокону. Ту же самую милость я окажу каждому, кто был в союзе с Эрлендом; но я хочу знать, кто они такие и которые из моих людей, живущих по всей стране, служили своему государю лукаво. Что скажете вы, Симон, сын Андреев, – я знаю, ваш отец был вернейшей опорой моего деда, вы сами с честью служили королю Хокону, – разве вы не считаете, что я имею право производить расследование по этому делу?
– Я считаю, государь, – Симон выступил вперед и опять поклонился, – что пока ваша милость правит по законам и обычаям нашей страны милосердно, вы, несомненно, никогда не узнаете, что за люди могли бы возыметь в мыслях беззаконие и измену своему королю. Ибо пока народ нашей страны видит, что ваша милость соблюдает те права и обычаи, которые установили ваши далекие предки, ни один человек в этом государстве, разумеется, не помыслит о нарушении мира. А те, которым, может быть, когда-то и казалось трудным поверить, чтобы вы, государь, при вашей молодости, были способны управлять с мудростью и твердостью двумя большими государствами, те смолчат и передумают.
– Это так, государь, – вставил Эрлинг, сын Видкюна, – ни один человек в нашей стране не думал отказывать вам в послушании в том, чего вы требуете по праву…
– Не думал отказывать? Значит, вы так полагаете? Что Эрленд невиновен в предательстве и государственной измене… если внимательно рассмотреть дело?
На мгновение казалось, что господин Эрлинг не находит ответа; тогда взял слово Симон:
– Вы, государь, – наш король, от вас каждый ждет, что вы будете карать беззаконие по закону. Но если вы пойдете путем Эрленда, то может статься, что те, которых вы сейчас так ревностно стремитесь обнаружить, выступят вперед и сами назовут свои имена, – или же другие люди, которые могут начать размышлять о том, все ли чисто в этом деле… Ибо о нем поднимется много разговоров, если ваша милость будет и впредь поступать так, как вы грозите, со столь известным и знатным человеком, как Эрленд, сын Никулауса.
– Что вы хотите этим сказать, Симон, сын Андреев? – резко сказал король, внезапно покраснев.