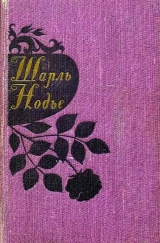
Текст книги "Трильби"
Автор книги: Шарль Нодье
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Вот это, – сказал Рональд, продолжая свою беседу с Дугалом, – благочестивый Магнус Мак-Фарлан, самый щедрый из наших благодетелей, тот, за кого мы возносим больше всего молитв. Возмущенный оскудением веры у своих потомков, грехи которых на многие века продлили муки его души, он преследует их сторонников и сообщников даже из рамы этого чудодейственного портрета. Мне говорили, что едва только друзья последних Мак-Фарланов появлялись в этом зале, как благочестивый Магнус, чтобы отомстить им за преступления их недостойного рода, срывался со своего полотна, на котором художник думал запечатлеть его навеки. Следующие за ним пустые места предназначались для портретов наших угнетателей, но эти стены отвергли их, как отвергло и небо.
– Однако, – сказала Джанни, – последний из этих простенков, кажется, занят… Вот там портрет, в конце галереи, и если бы занавес, который его закрывает…
– Я вам говорил, Дугал, – продолжал монах, не обращая внимания на слова Джанни, – что это портрет Магнуса Мак-Фарлана и что все его потомки осуждены на вечное проклятие.
– Однако, – повторила Джанни, – вот тот портрет в конце галереи, портрет, закрытый занавесом, ведь он не мог бы находиться в этом святом месте, если бы человек, изображенный на нем, тоже был предан вечному проклятию. По расположению остальных портретов галереи видно, что он принадлежит к роду Мак-Фарланов, но в таком случае как же мог один из Мак-Фарланов?..
– Гнев господен имеет свои границы и поражает не всех, – прервал ее Рональд, – значит, у этого молодого человека есть друзья среди святых…
– Он был молод!.. – воскликнула Джанни.
– Ну и что ж из того, – резко возразил Дугал. – Не все ли равно, сколько лет проклятому богом?..
– У проклятых нет друзей на небе, – живо ответила Джанни и бросилась к портрету. Дугал удержал ее. Она села. Богомольцы постепенно входили в зал, и их огромный круг все теснее смыкался вокруг кресла почтенного старца, который, обращаясь к ним, начал свою речь с того места, где он прервал ее.
– Истинно, истинно говорю вам, – повторял он, приложив руки к запрокинутому лбу, – нужны страшные жертвы! Нашими молитвами мы можем призвать покровительство господне только к тем душам, которые просят о нем искренне и, как мы, не знают ни колебаний, ни слабости. Недостаточно бояться наваждения дьявола и молить небо избавить нас от него. Нужно еще проклясть дьявола! Знаете ли вы, что милосердие может оказаться большим грехом?
– Возможно ли? – спросил Дугал.
Джанни повернулась к Рональду и посмотрела на него, немного осмелев.
– Как можем мы, несчастные, сопротивляться врагу, добивающемуся нашей погибели, если мы не обратим против него все средства, которые предоставляет нам религия, всю силу, которую она нам дает? Зачем нам усердно молиться за тех, кто преследует нас, если они беспрестанно возобновляют свои козни и злодеяния? Даже святая власяница и жесткие вериги наших покаяний не защищают нас от чар злого духа; мы страдаем от них так же, как и вы, дети мои, и о жестокости вашей борьбы можем судить по той борьбе, которую ведем мы сами. Неужели вы думаете, что наши бедные монахи прошли такой длинный путь по этой земле, столь богатой наслаждениями, провели жизнь, в которой уделом их были только лишения и тяготы, и их никогда не тянуло к земным радостям и им не приходилось бороться со стремлением к тому преходящему благу, что вы называете счастьем? О, сколько сладостных мечтаний обуревало нас в юности! Сколько преступно тщеславных порывов мучило нас в зрелые годы! Сколько горьких сожалений ускорило появление седины в наших волосах и сколько угрызений совести отягощало бы нас перед ликом нашего господа, если бы мы медлили вооружиться против греховного духа проклятиями и мщением!..
При этих словах старый Рональд сделал знак толпе, и все богомольцы сели в ряд на узкую резную скамью, тянувшуюся вдоль стен вокруг всего зала; а он продолжал.
– Судите о силе наших горестей, – сказал Рональд, – по глубине одиночества, окружающего нас, по бесконечной покинутости, на которую мы обречены. Среди самых жестоких тягот судьбы вам не отказано в утешении и даже в радости. К каждому из вас стремится чья-то душа, каждого из вас понимает чья-то мысль, у каждого из вас есть второе я, связанное воспоминаниями, или выгодой, или надеждой с вашим прошлым, настоящим или будущим. Вы вольны думать о чем вам угодно, идти куда захотите, вы свободны в выборе своих привязанностей, тогда как вся жизнь монаха, вся история отшельника на земле протекают в суровом уединении между порогом церкви и входом в катакомбы. Длинная чреда наших лет, неизменно похожих друг на друга, заканчивается тем, что одну могилу мы меняем на другую и переходим из сонма священников в сонм святых. Разве не должны вы хоть как-нибудь воздать тем, кто, претерпевая такие муки, упорно жертвует собой ради вашего спасения? Так вот, братья мои, узнайте же, до какой степени забота о ваших душах день ото дня отягощает суровость нашего покаяния! Узнайте, что недостаточно было того, чтобы мы, подобно всем остальным людям, испытали власть демонов сердца, которой не может избежать ни один из несчастных сынов Адама. Нет! Даже самые отверженные духи, самые презренные домовые находят злобную радость в том, чтобы смущать краткие минуты нашего отдыха и покой наших келий, так долго остававшийся нерушимым. В особенности некоторые из этих праздных эльфов, от которых с таким трудом и ценою стольких молитв мы избавили ваши жилища, жестоко мстят нам за то, что лишились своей власти благодаря нашим смелым заклинаниям. Изгоняя их из тайного убежища на ваших фермах, мы не называли точно места их изгнания, и поэтому только те дома, откуда мы их удалили, могут не бояться их вторжения. Поверите ли, даже святые места не внушают им уважения, и теперь, когда я говорю с вами, их адский рой ждет только наступления сумерек, чтобы густыми стаями разлететься под монастырскими сводами!
Несколько дней тому назад, в то самое мгновение, когда гроб одного из наших братьев готов был опуститься в глубину погребального склепа, веревки вдруг оборвались со свистом, похожим на пронзительный смех, и рака, падая со ступени на ступень, с грохотом низверглась под своды. Оттуда доносились голоса, похожие на голоса мертвецов, разгневанных тем, что смутили их последний сон; они стонали, возмущались, кричали. Тем из присутствовавших, кто стоял к склепу ближе других и чей взгляд достигал его глубины, чудилось, что приподнимаются могильные плиты, развеваются саваны и скелеты, движимые колдовскою силой духов, неясными группами располагаются на скамьях и их безобразные очертания сливаются с сумраком, царящим в алтаре. И вдруг все огни в церкви… Слушайте!
Толпа теснилась, внимая Рональду. Только Джанни, охваченная одной неотвязною мыслью, играла кольцами своих кудрей и слушала, не вникая в смысл его слов.
– Слушайте, братья мои, и скажите, какой тайный грех, какое предательство, какое убийство, какое прелюбодеяние в мыслях или на деле могло навлечь на нас это бедствие? Все огни в храме погасли. Только факелы послушников разбрасывали беглые искры, которые, то удаляясь, то приближаясь, собирались в зыбкие и тонкие голубые лучи, похожие на волшебные огоньки ведьм, потом поднимались вверх и терялись в темных углах преддверья и часовен. Наконец неугасимая лампада святейшего из святых… Я видел, как пламя ее заколебалось, потемнело и потухло. Потухло! Глубокая ночь, ночь беспросветная, воцарилась во всем храме, на хорах, в алтаре! Святые дары впервые погрузились во мрак ночи! Такая сырая, такая темная ночь, ночь, всегда пугающая нас, но особенно страшная, наводящая необыкновенный ужас под куполом наших церквей, где нам обещан вечный свет!.. Растерянные монахи разбежались по огромному храму, в темноте казавшемуся еще обширнее; стремясь найти узкий выход, позабытый ими, они наталкивались на предательские стены; их жалобные голоса сливались в общий гул, и эхо доносило до их слуха страшный, угрожающий шум, и они в ужасе убегали, думая, что эти крики и стоны исходят от печальных призраков могил, плачущих над своим каменным ложем. Один из них почувствовал, как статуя святого Дунстана шевельнулась, схватила его ледяною рукой и в вечном объятии прижала к себе. Там и нашли его мертвым на следующий день. Самый юный из наших братьев (он прибыл к нам недавно, и мы еще не знали ни его имени, ни из какой он семьи) так крепко обхватил статую молодой святой, надеясь на ее помощь, что свалил ее на себя, и она, падая, придавила его. Это была, как вы знаете, статуя, недавно изваянная одним из искусных мастеров по образу той девы из Лотиана, которая умерла с горя, потому что ее разлучили с женихом. Причина стольких несчастий, – продолжал Рональд, стараясь привлечь неподвижный взгляд Джанни, – быть может, заключается в чьей-нибудь неуместной жалости, в непреднамеренно греховном заступничестве, в одном каком-нибудь грехе, быть может совершенном только в помыслах…
– В одном грехе, совершенном только в помыслах! – воскликнула Клэди, младшая дочь Колла Камерона.
– В одном-единственном! – с нетерпением повторил Рональд.
Джанни, спокойная и рассеянная, даже не вздохнула. Душа ее была захвачена тайной портрета, скрытого занавесом.
– Итак, – сказал Рональд, вставая и вкладывая в свои слова проникновенно-торжественное и властное выражение, – мы назначили этот день, чтобы предать вечному проклятию злых духов Шотландии.
– Вечному проклятию! – со стоном прошептал чей-то замирающий вдали голос.
Да, вечному проклятию, если оно будет произнесено добровольно и единодушно. Если все голоса повторят его, когда оно вознесется перед алтарем.
– Если все голоса вознесут вопль проклятия перед алтарем! – повторил тот же голос. Джанни уходила в конец галереи.
– Тогда все будет кончено, и злые духи навсегда низвергнутся в бездну.
– Да будет так! – проговорил народ и толпой последовал за грозным врагом эльфов. Другие монахи, более робкие или не такие строгие, уклонились от мрачной церемонии этого жестокого обряда, потому что, как мы уже говорили, эльфы Шотландии, по народным верованиям, не осуждались на вечное проклятие и внушали скорее тревогу, чем ненависть; ходили довольно правдоподобные слухи о том, что некоторые из них, не боясь суровых заклинаний, угроз и анафемы, забиралась даже в келью милосердного отшельника или в замурованную нишу святого подвижника. Что до рыбаков и пастухов, то они по большей части могли быть только благодарны домашним духам, так внезапно и безжалостно осужденным: но, плохо помня о прошлых услугах, они охотно разделили гнев Рональда и, не колеблясь, обрекли на изгнание этого неведомого врага, чье присутствие проявлялось только в благодеяниях.
К тому же слухи об изгнании бедного Трильби дошли до соседей Дугала, и дочери Колла Камерона часто говорили друг другу во время вечерних бесед, что это, наверное, ему Джанни обязана была своим успехом на праздниках клана, а Дугал – своим уловом, гораздо более обильным, чем у их женихов и у их отца. Разве Мэне Камерон не видела, как сам Трильби, сидя на носу лодки, пригоршнями стал бросать в пустые сети спящего рыбака тысячи голубых рыб, а потом разбудил его, толкнув лодку ногой, и покатился с волны на волну, в белой пене, до самого берега?..
– Проклятие! – вскричала Мэне.
– Проклятие! – проговорила Фени.
«Ах! Только Джанни чарует тебя своей красотой, – подумала Клэди. – Это для нее ты покинул меня, милый призрак моих снов, которого я так любила, и если проклятие, произнесенное над тобой, не осуществится, ты сможешь выбрать любую из хижин Шотландии и навеки поселишься в хижине Джанни! Нет, ни за что!»
– Проклятие! – повторил Рональд грозным голосом.
Клэди нелегко было произнести это слово, но вошла Джанни, такая прекрасная от волнения и любви, что Клэди больше не колебалась.
– Проклятие! – воскликнула она.
Одна только Джанни не присутствовала на церемонии, но из-за быстрой смены сильных и глубоких впечатлений вначале никто не обратил на это внимания. Впрочем, Клэди заметила ее отсутствие, так как считала, что кроме Джанни у нее нет достойной соперницы по красоте. Мы помним, что как раз в ту минуту, когда старый монах подготовлял своих слушателей к исполнению жестокого долга, к которому он призывал их благочестие, непреодолимое любопытство повлекло Джанни в конец картинной галереи. Едва лишь толпа освободила зал, как Джанни, дрожа от нетерпения и, быть может, невольно поддавшись еще и другому чувству, бросилась к таинственному портрету, сорвала скрывавший его занавес и с первого взгляда узнала те черты, которые снились ей так часто. То был он. То было знакомое лицо, одежда, оружие, щит, знакомо было и имя Мак-Фарланов. Средневековый художник, по обычаю своего времени, начертал внизу портрета имя изображенного на нем человека:
ДЖОН ТРИЛЬБИ МАК-ФАРЛАН
– Трильби! – в ужасе вскричала Джанни. Быстрее молнии пронеслась она по галереям, залам, лестницам, коридорам, приделам и упала у подножия алтаря святого Коломбана как раз в тот миг, когда Клэди, дрожа от сделанного над собой усилия, возглашала свое проклятие.
– Милосердие! – воскликнула Джанни, обнимая святую гробницу. – Любовь и милосердие, – повторила она тихо.
И если бы у Джанни даже и не хватило мужества и милосердия, образа святого Коломбана было бы достаточно, чтобы возбудить их в ее сердце. Только тот, кто видел священный лик покровителя монастыря, может представить себе божественное выражение, которое ангелы вдохнули в чудесное полотно; ведь все знают, что эта картина начертана не человеческой рукой и что это дух спускался с небес во время невольной дремоты художника, дабы облагородить ангельские черты блаженного чувством такого кроткого благочестия и неведомого на земле милосердия. Среди всех избранников господа только у святого Коломбана грустный взгляд и горькая улыбка, – то ли он оставил на земле кого-то, кто был ему так дорог, что он не мог забыть его даже и среди несказанных радостей вечной славы и вечного блаженства, то ли, слишком чувствительный к несчастьям человечества, он в новом своем положении испытывал только невыразимую боль при виде переживших его страдальцев, подверженных стольким опасностям, от которых он не мог их спасти, и изнывающих от тоски, облегчить которую он был не в силах. И в самом деле, таково, должно быть, единственное огорчение святых, если только события их жизни случайно не связали их с судьбою существа, для них потерянного, которого они не могут разыскать. Теплое сияние, лившееся из глаз святого Коломбана, какая-то всеобъемлющая ласка, о которой словно говорили его трепещущие жизнью уста, потоки любви и милосердия, наполнявшие сердце набожным умилением, укрепили уже сложившееся решение Джанни; она мысленно с еще большей силой повторила: «Любовь и милосердие».
– По какому праву, – сказала она, – стану я произносить проклятие? Ах! Это право не дано слабой женщине, и не нам господь поручил совершать его грозную месть. Быть может, он даже и не мстит! А если у него и есть враги, которых нужно наказать, то он, кому не страшны никакие враги, не стал бы поручать исполнение грозного правосудия слепым страстям самых слабых своих созданий. Как это я, каждую мысль которой он некогда подвергнет суду, как это я смогу просить о прощении моих грехов, коль скоро они откроются ему и я не смогу их опровергнуть, если за грехи, неизвестные мне… если за грехи, быть может и не совершенные, я соглашусь возгласить это ужасное проклятие несчастному, и так уже, конечно, наказанному слишком сурово?
Здесь Джанни испугалась своего собственного предположения и со страхом подняла глаза на лик святого Коломбана, но, успокоенная чистотой своих чувств (потому что, несмотря на непреодолимое влечение к Трильби, она никогда не забывала, что была женой Дугала), стала пытаться взглядом и мыслью уловить неясную мысль святого подвижника гор. Слабый луч заходящего солнца, преломляясь в витраже, спускался на алтарь, расцвеченный нежными переливами красок, оживленных закатом, и от этого сияние вокруг чела блаженного стало еще яснее, безмятежность – еще спокойнее, радость – еще полнее. Джанни поняла, что святой Коломбан доволен, и, исполненная благодарности, прижалась губами к плитам часовни и ступеням гробницы, продолжая молить о милосердии. Возможно даже, что она вознесла к небу такую молитву, которую нельзя было исполнить на земле. Кто может проникнуть в тайны нежной души и оценить преданность любящей женщины?
Старый монах, внимательно следивший за Джанни и довольный ее волнением, не сомневаясь в том, что она оправдала его надежды, поднял ее с пола святилища и поручил заботам Дугала, собиравшегося в обратный путь и уже представлявшего себе все те богатства, которые притекут к нему, когда он вернется с успешного богомолья, заручившись покровительством святых Бальвы.
– А все-таки, – сказал он Джанни, подходя к своей хижине, – я должен признаться, что мне нелегко было произнести это проклятие; хорошо бы мне отвлечься и забыть его на рыбной ловле.
Для Джанни все было кончено. Ничто не могло рассеять ее воспоминаний.
Однажды, – накануне она отвезла до бухты Клайд семью лендлорда Розенейса, – лодочница возвращалась в конец Длинного озера, двигаясь по течению, уносившему ее лодку на равном расстоянии от обоих берегов, между селениями Аргайль и Ленокс; ей не приходилось утомляться, работая веслами; стоя в своей узкой и подвижной плоскодонке, она распустила по ветру длинные черные кудри, которыми так гордилась, и ее шея и грудь, не потемневшие, а лишь слегка порозовевшие от солнца, сияли ослепительной белизной над красным платьем, вытканным на мануфактурах Эйра. [4]4
Эйр– графство в Шотландии.
[Закрыть]Упираясь в борт обнаженной ногой, она едва покачивала свой утлый челн в такт приливавшей и отливавшей волне, и та, возбужденная этим едва заметным сопротивлением, возвращалась, бурля и белея, и, заливая ногу Джанни, покрывала ее своей убегающей пеной.
Лето еще не наступило, но уже с некоторых пор стало заметно теплее, и Джанни казалось, что это один из самых прекрасных дней, сохранившихся в ее памяти. Туман, обычно поднимающийся над озером и густым занавесом закрывающий горы, понемногу рассеял зыбкие ромбы своей сети, сплетенной из марева. На западе, где его остатки еще не совсем растопило солнце, они плавно качались, словно золотая пелена, сотканная феями озера и повешенная здесь в честь их праздника. В других местах они сверкали отдельными пятнами, подвижные, ослепительные, как блестки, разбросанные по прозрачному фону чудесных оттенков. То были маленькие влажные облачка оранжевого, бледно-зеленого цвета, переходившего в зависимости от прихотливого преломления случайно упавших лучей в лазурный, пурпурный или лиловый. Порой, когда таяла плавучая дымка тумана, когда исчезал берег, от которого лодку уносило течением, когда он вдруг понижался, свободно пропуская порывы ветра, все сливалось в несказанном и неуловимом оттенке, изумлявшем душу ощущением настолько неожиданным, что казалось, будто у вас появляется какое-то новое, шестое чувство; а тем временем разнообразные картины сменялись перед глазами лодочницы. Перед нею, преломляя на своих округлых боках все лучи заходящего солнца, бежали огромные купола; одни из них сияли, как хрусталь, другие были матово-серые и почти тусклые, как железо; самые отдаленные к западу были окружены у вершины ярко-розовым сиянием, которое, бледнея, спускалось на покрытые льдом склоны горы и исчезало у ее подножия в слабо окрашенной мгле, почти не похожей на сумерки. Там были темные, совсем черные мысы, которые издали можно было принять за лежащие прямо на пути подводные камни; но внезапно они отступали перед носом лодки, и за ними открывались широкие, удобные для лодочников бухты. Страшный подводный камень удалялся, и все затем озарялось чувством безопасности, радостью счастливого плавания. Издали Джанни увидела блуждающие лодки славных рыбаков с озера Гойль. Она бросила взгляд на хрупкие фабричные строения Портинкэпля. Она снова и снова созерцала с волнением, которое возобновлялось, не ослабевая, каждый день, эту толпу вершин, что как будто гонятся друг за другом, теснятся, сливаются, выделяясь затем на общем фоне лишь благодаря неожиданной игре света, особенно в такое время года, когда под однообразной снежной пеленой исчезают и серебристый шелк шпата, и темные пятна гранита, и перламутровая чешуя подводных скал. Небо было такое прозрачное и чистое, что ей показалось, будто она узнает слева округлые вершины Бен-Мора и Бен-Натэна; справа выделялись затененные, не покрытые снегом выступы Бен-Ломонда, словно взъерошившие черными гребнями лысую голову короля гор. Задний план этого пейзажа напомнил Джанни очень распространенную в стране легенду, которую душа ее, более чем когда-либо жаждущая сильных волнений и всего чудесного, представляла себе сейчас в новом свете. У самой оконечности озера к небу поднимается огромная масса Бен-Артура, увенчанная двумя черными базальтовыми скалами, из которых одна словно наклонилась к другой, как рабочий к станку, куда он положил инструменты своего ежедневного труда. Эти колоссальные камни были принесены из пещер той горы, где царил гигант Артур, когда на берегах Форта смелые люди начали возводить стены Эдинбурга. Артур, изгнанный из своего одинокого высокогорного жилища искусством дерзновенного народа, шагнул до конца Длинного озера и положил на самую высокую из стоявших перед ним гор развалины своего дикого замка. Сидя на одной из ее скал и прислонив голову к другой, он обводил гневным взглядом укрепления нечестивцев, захвативших его земли и навсегда лишивших его счастья и даже надежды, а ведь он, говорят, питал напрасную любовь к таинственной королеве тех берегов, одной из фей, которых древние называли нимфами и которые живут в зачарованных гротах и ходят по коврам из морских цветов при свете жемчугов и карбункулов океана. Горе дерзкой лодке, скользнувшей по поверхности неподвижного озера, когда на горе, между двух скал, упираясь своими бесформенными стопами в их неравные вершины, вдруг поднималась неясная, как вечерний туман, высокая фигура гиганта и, качаясь по воле ветра, простирала к горизонту свои темные колеблющиеся руки, которые в конце концов как бы широким поясом охватывали все небо. Едва лишь последние складки его облачного плаща погружались в озеро, как молния вырывалась из страшных глаз призрака, его грозный голос ревел, рокотал, словно гром, и вздыбившиеся воды бросались на берега, опустошая их. Из-за его появлений, пугавших рыбаков, богатый и удобный рейд Арокхара совсем опустел, и вот однажды из бурных морей Ирландии приплыл бедный отшельник, имя которого уже забыто: он был один, но его незримо сопровождали дух веры и дух милосердия; непреодолимая сила вела вперед его лодку, которая, наперекор буре, уверенно бороздила волны, хотя святой отец не прибегал к помощи весел и руля. Стоя на коленях в своем утлом челне, он держал в руках крест и смотрел на небо. Приблизившись к цели своего плавания, он с достоинством встал, окропил несколькими каплями святой воды бурные волны и обратился к гиганту над озером со словами, произнесенными на каком-то неведомом языке. Вероятно, он приказывал ему от имени первых спутников спасителя, которые также были рыбаками и лодочниками, вернуть рыбакам и лодочникам Длинного озера спокойную власть над водами, дарованную им провидением. В тот же миг угрожающий призрак рассеялся легкими хлопьями, похожими на хлопья тумана, гонимые утренним ветерком по невидимым волнам, и издали напоминающими облако пуха, летящее из гнезд больших птиц, что живут на этих берегах. Все широкое пространство залива успокоилось; даже волны, которые в ту минуту, пенясь, поднимались на прибрежный песок, не спустились обратно: они утратили текучесть, не утратив своей формы и вида, и глаз, до сей поры обманываясь их округлыми контурами, волнистыми линиями, голубоватым, с переливающимися отсветами, тоном чешуйчатых рифов, торчащих у берега, принимает их издали за полосы пены и все ждет, хоть и напрасно, что вот-вот они схлынут. Потом святой старец вытащил свою лодку на прибрежный песок, быть может надеясь, что какой-нибудь бедный горец найдет ее здесь, прижал, скрестив руки, распятие к груди и твердыми шагами поднялся по тропинке к келье, которую ангелы построили ему рядом с недоступным гнездом белого орла. Много отшельников последовало за ним в эту пустыню и постепенно разошлось по окрестностям, образовав благочестивые поселения. Таково происхождение монастыря Бальвы, а также, конечно, и той дани, которую вожди клана Мак-Фарланов долго считали себя обязанными платить монахам этого монастыря из чувства благодарности, слишком быстро оставившего их. Легко понять, какая тайная связь соединяла с неотступными мыслями Джанни все эти древние заклятия и их последствия, хорошо известные в народе.
В это время года дневной свет царит лишь в продолжение нескольких часов; тени рано наступившей ночи уже легли над озером и, поднявшись по окружающим его склонам, окутали вершины самых высоких гор. Усталость, голод, долгое созерцание и глубокие размышления истощили силы Джанни, и, чувствуя неизъяснимую подавленность, она сидела на корме лодки, уносимой течением в сторону зеленых аргайльских лугов, по направлению к дому Дугала, и уже почти спала, когда с противоположного берега до нее донесся голос какого-то путника. Только жалость к человеку, заблудившемуся на берегу, где не живут его жена и дети, только мысль о том, что, если лодочник почему-либо не услышит его зова, близкие будут с тоской считать долгие часы в напрасной надежде на его возвращение, только участие, которое женщины всегда принимают в изгнаннике, в больном либо в заброшенном ребенке, заставило Джанни стряхнуть одолевавший ее сон и повернуть лодку, так долго боровшуюся с волнами, к тростникам, закрывавшим берег длинного горного залива. «Что бы это могло вынудить его перебираться через озеро в такой час, – думала она, – кроме необходимости уйти от врага или встретиться с ожидающим его другом? О! Пусть надежда никогда не обманывает тех, кто ждет своего любимого, пусть сбудется то, чего они желают!»
И волны, широкие и спокойные, множились под веслом Джанни, ударявшим по ним словно бич. С того берега все доносились крики, но такие слабые и надтреснутые, что они походили скорее на жалобу призрака, чем на голос человеческого существа, и Джанни, с усилием всматривавшаяся в берег, различала только темный горизонт, глубокую неподвижность которого не нарушало ничто живое. Если вначале ей показалось, что она видит какую-то фигуру, склонившуюся над озером и с мольбой протягивавшую к ней руки, то вскоре она убедилась, что этот незнакомец – просто сухой ствол и что на ветру качаются две тронутые морозом, высохшие ветки. Если на мгновение ей почудилось, что рядом с лодкой, в уже совсем спустившемся тумане, движется какая-то тень, то это была ее собственная тень, отброшенная последним лучом сумерек на плавучее марево и все больше и больше сливавшаяся с необъятным ночным мраком. Наконец ее весло уже стало задевать свистящие стебли берегового тростника, когда она увидела, как из зарослей вышел старик, столь согбенный под тяжестью лет, что, казалось, его отяжелевшая голова искала опоры на его собственных коленях и равновесие его шаткого тела поддерживалось только хрупкой тростинкой, на которую он опирался; но эта тростинка не гнулась под его тяжестью, потому что старик этот был карлик, и, по всей видимости, самый маленький карлик, какого когда-либо встречали в Шотландии. Удивление Джанни удвоилось, когда, при всей своей дряхлости, он легко вскочил в лодку и сел напротив перевозчицы; движения его не были лишены ни живости, ни грации.
– Отец мой, – сказала она, – я не спрашиваю вас, куда вы держите путь, потому что цель вашего странствия, наверное, слишком далека, чтобы вы могли надеяться достичь ее нынче ночью.
– Вы ошибаетесь, дочь моя, – ответил он. – Никогда еще я не был от нее так близко, как сейчас, и с тех пор, как я сел в эту лодку, мне, кажется, больше некуда стремиться, даже если вечные льды вдруг скуют озеро и мы останемся посреди залива.
– Это удивительно, – продолжала Джанни. – Человек вашего роста и возраста был бы известен по всей округе, если бы он жил в наших местах. Не тот ли вы маленький человечек с острова Мэн, о котором я часто слышала от своей матери? Он научил жителей здешнего берега искусству плести из тростника продолговатые корзины, откуда рыбы никак не могут найти выхода (им, конечно, мешает какая-то волшебная сила). Если это не вы, то быось об заклад, что ваш родной кров не на берегах Ирландского моря.
– О! У меня здесь был родной кров, дорогое дитя мое, и очень близко от этого берега, но меня жестоко лишили его!
– Тогда мне понятно, добрый старец, почему вы пришли к аргайльским берегам. Нужно оставить там очень нежные воспоминания, чтобы в это время года, в такой поздний час покинуть радостное побережье озера Ломонд, усеянное очаровательными домиками, озера, где в изобилии водится редкостная рыба, которой нет в нашей морской воде, край, где пьют виски, более полезное для человека вашего возраста, чем то, каким довольствуются наши рыбаки и матросы. Чтобы вернуться к нам, нужно любить кого-нибудь в этой стране бурь, из которой, когда приближается зима, убегают даже змеи. Они сползают к озеру Ломонд, переплывают его беспорядочной толпой, точно клан грабителей, возвращающихся с добычей, и стараются укрыться под какими-нибудь защищенными с севера скалами. Только мужья, отцы, влюбленные не боятся вступить в суровую страну, если они надеются встретить там любимое существо; но для вас было бы безумием отойти сегодня ночью от берегов Длинного озера.
– Я и не собираюсь, – сказал незнакомец. – Во сто крат больше я хотел бы умереть здесь!
– Хотя Дугал и очень прижимист, – продолжала Джанни, не оставляя все тех же мыслей и почти не слушая ответов путника, – хотя он и допускает, – добавила она с легкой горечью, – чтобы у жены и дочерей Колла Камерона праздничные наряды были лучше моих, – а ведь они беднее нас, – в его хижине всегда найдется овсяный хлеб и молоко для странника; и мне было бы гораздо приятнее, чтобы наше доброе виски тратилось на вас, чем на этого старого монаха из Бальвы, который, если приходит к нам, всегда делает одно только зло.
– Что я слышу, дитя мое, – возразил старичок, изобразив на лице величайшее удивление, – ведь я как раз и держу путь к хижине рыбака Дугала; здесь, – воскликнул он, придав еще более нежный тон своему дрожащему голосу, – я вновь увижу все, что люблю, если только меня не обманули неверные сведения. Как же мне посчастливилось, что я нашел эту лодку!








