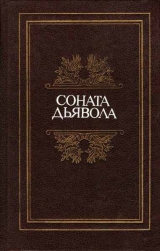
Текст книги "Адель"
Автор книги: Шарль Нодье
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Это блаженное состояние доказывает, во всяком случае, что я ошибался, когда писал тебе, что мирная жизнь в деревне превосходно соответствует моему теперешнему положению и что все мое счастье заключается только в том, чтобы незаметно прожить здесь остаток моих дней. Ты видишь теперь, что романический склад моего ума и восторженность мыслей происходили от причин, не имеющих ничего общего с безумными страстями юности, – этого все вы никогда не хотели понять. Я хорошо знаю себя и редко ошибаюсь в своих чувствах.
3 мая
Вчера вечером, как раз в то время, как я кончил письмо к тебе, в комнату вошел Латур с встревоженным и даже немного растерянным видом. Он уселся поодаль, некоторое время мрачно молчал, после чего начал ворчать что-то сквозь зубы.
«Что случилось, добрый мой Латур? – спросил я его. – Ты, я вижу, чем-то очень встревожен». – «Пусть никто никогда больше не назовет меня Латуром, по прозванию Королевское Сердце, – отвечал он, – если это не Можи, этот подлый, этот гнусный Можи! Помните ли вы, сударь, того пройдоху, что явился к нашему генералу с фальшивой бумагой? Он воспользовался ею, подлец, чтобы выдать врагу большой отряд наших людей, а потом, на нашу беду, успел удрать, ускользнув от заслуженной кары». – «Да, я слыхал об этом мерзавце, и ты, кажется, прав, Латур, он в самом деле называл себя Можи – быть может, для того чтобы скрыть свое настоящее имя, а может быть, подчиняясь тогдашнему довольно странному обычаю наших офицеров; но какое отношение…» – «Какое отношение? – вскричал он. – Да ведь этот чертов Можи, которого я узнал бы среди тысячи других и мог бы, если бы понадобилось, нарисовать, не кто иной, как ваш благонравный Форреоль де Монбрёз, с которым вы вчера виделись, и я поклялся бы миллионом покойников, что не существует никакого другого Можи. Проклятье! Какой позор, что провидение допускает, чтобы подобные люди дышали воздухом и любовались солнцем!»
Мне с большим трудом удалось успокоить рассерженного Латура и уверить его в полной необоснованности его подозрений. Он ушел, скорее удивленный тем, что я не поверил ему, нежели убежденный моими доводами.
Мне пришлось выдержать сегодня более трудный спор – спор, к которому ты, быть может, окажешься более подготовленным всем тем, что я писал тебе последние дни, чем я сам. Мать моя призвала меня к себе для серьезной – да и в самом деле, оказывается, весьма серьезной – беседы. Речь шла о том, что мне необходимо упрочить свое имя, придав ему больший блеск посредством брачных уз. Ты понимаешь? Придать больший блеск имени моего отца! Я должен узнать, было мне сказано, что происхождение мое со стороны отца не совсем соответствует тому большому состоянию, которым я ныне располагаю. И если богатство имеет некоторые преимущества, то разве не состоят эти преимущества прежде всего в том, что оно способствует получению почетных должностей, которые возвышают наши дворянские имена и дают возможность передавать их потомкам, еще более знаменитым? Вслед за тем мне пристойнейшим образом было дано понять, что именно таким благоразумным брачным расчетам я обязан тем, что у меня есть мать. А я-то полагал, что обязан этим лишь любви и природе… Что сказать тебе еще? Валанси не так богаты, как мы, Эдокси менее богата, чем я, но она принадлежит к знатному роду, так же как и моя мать, с которой она имеет честь состоять в родстве. Об остальном ты догадываешься.
Все это произвело на меня такое сильное и такое тягостное впечатление, что я долго не в состоянии был собраться с мыслями и еще дольше не мог найти, что сказать в ответ. Единственное, что я довольно смутно припоминаю из тех, как видно, весьма бессвязных слов, которые вырвались у меня в ту минуту смущения и уныния, – это то, что я, кажется, просил несколько месяцев на размышление; вероятно, я заявил, что в противном случае от меня ничего не добьются, и к тому же таким тоном, который устранял малейшие сомнения на этот счет, ибо матушка, покидая комнату, взглянула на меня еще более сурово, чем обычно. Однако она, как видно, поняла, что ничего не выиграет, принуждая мое сердце, ибо сразу же снизошла к моей просьбе, хотя я еще не успел собраться с силами, чтобы повторить ее. Впрочем, о моем решении я должен буду уведомить ее через полтора месяца; и вряд ли можно ожидать, что за это время оно изменится…
Другими словами, решение мое уже принято – оно останется таким же неизменным, как те правила, которыми я руководствовался в жизни до сегодняшнего дня. Нет, я не стану покупать ценой своего счастья – а я убежден, что Эдокси не сделала бы меня счастливым, – ценой своего покоя, ценой своей свободы, своих – пусть неверных, но сладостных – надежд нелепую честь связать свое имя с именем женщины, которую я никогда не смогу полюбить. Если я придаю какое-то значение своему богатству и положению в обществе, то главным образом потому, что они дают мне независимость и предоставляют полную свободу выбрать ту, которую я захочу; ибо в конце концов… к чему скрывать? Если уж идти на мезальянс, то я сто раз предпочел бы снизойти до кого-то, чем мириться с тем, чтобы кто-то снизошел до меня. Я слишком горд; я никогда не соглашусь стать чьим-то должником ради того, чтобы набить себе цену в обществе и поставить себя тем самым в зависимость от женского тщеславия. Чем подобное унижение, я согласился бы жениться даже на Адели… Адель!..
Право же, это так!
5 мая
Бывают дни – дни слишком быстротечные! – словно приносимые нам в дар провидением, когда нашему сердцу, уставшему от печалей, становится необходимо омыться счастьем, чтобы вовсе не изнемочь.
Один такой день – вознаграждение за целую вечность одиночества и горя. Да, сказал бы я судьбе, пусть повторится он, этот день, пусть наступит он вновь во всем своем очаровании, со всеми его обманчивыми иллюзиями; пусть будет мне дано пережить его снова, до конца насладиться им, вкусить все его радости – и с той же доверчивостью, с тем же самозабвением, что и в первый раз; а там… пусть приходит оно – Небытие!
Неподалеку от замка Валанси, в лесу, я заприметил прелестный тенистый уголок, куда сходятся тропинки, ведущие сюда от обоих селений и тянущиеся дальше к равнине, где они теряются вдалеке. Здесь, в этой своеобразной зеленой горнице, где потолком служит широкий лиственный свод, а полом – ковер цветущих трав, источающих сладчайший аромат, есть нечто вроде скамеек, созданных самой природой, столь удобных, как если бы они были сделаны руками человека. Совсем близко отсюда виднеется сквозь ветви блестящая гладь пруда с удивительно прозрачной водой. Словно хрустальным поясом окаймляют лес небольшие бухты, привлекающие на свои берега бесчисленные стаи птиц.
Я сидел в этом уголке, добросовестно пересчитывая тычинки на незнакомом мне цветке, когда чьи-то легкие шаги и шелест женского платья отвлекли меня от моих занятий. Это была Адель; и хотя в том, что она оказалась в лесу, не было, собственно, ничего удивительного (я почему-то даже ожидал встретить ее здесь), да и к тому же я видел в ней не больше чем привлекательную, правда, но все же совсем почти незнакомую девушку, – сердце мое бурно заколотилось; я задрожал, какой-то трепет охватил меня, перед глазами заплясали все цвета радуги, непонятная слабость овладела всем моим существом, и я невольно замедлил шаги, ибо незаметно для самого себя я встал и подходил к Адели; не глядя ей в лицо, во всяком случае не различая его черт, я предложил проводить ее, не догадавшись даже осведомиться, куда она идет. Когда пелена, застилавшая мне глаза, немного рассеялась и я смог увидеть лицо Адели, мне стало ясно, что она удивлена моим предложением, – да, по правде сказать, я и сам был немало удивлен им; но все же я повторил его – на этот раз, вероятно, более уверенным тоном. Несколько мгновений Адель колебалась, потом вдруг, словно подчиняясь приказу, а не уступая просьбе, легонько оперлась на мою руку; тогда я решительно удержал эту доверившуюся мне ручку, прижал ее к груди, и мы быстро зашагали в ту сторону, куда она, по-видимому, направлялась.
Когда мое волнение немного улеглось, предоставив некоторую свободу рассудку, я заметил, что и Адель взволнована не менее моего; я понял это не по глазам ее, взгляда которых все еще избегал, а по дрожанию ее пальчиков, – сжав их бессознательным движением, правая моя рука держала их теперь у самого сердца. Ничто не могло лучше вывести нас из состояния смущения, чем безразличный и вполне естественный в подобных обстоятельствах вопрос, который я не подумал задать в первую минуту; к тому же я рассудил, что разговор, который, несомненно, будет менее страстным, менее тревожным, нежели наше молчание, поможет нам окончательно вернуть спокойствие. Поэтому я спросил у Адели, куда она идет; она ответила с лукавой, но бесхитростной улыбкой, что это большой секрет. Таинственность эта не смутила меня. Смысл ее ответа не успел дойти до моего сознания: прежде чем отзвучали ее последние слова, я уже не помнил, что она мне сказала. Я мысленно искал – поверишь ли ты этому? – искал какого-нибудь нового предмета разговора, чтобы как-то скрыть от нее и от самого себя то, что со мной происходит. Мне не хотелось, чтобы она угадала мои чувства, и в то же время я боялся, что она угадает их. Я был так счастлив, что она рядом со мной, и вместе с тем так нетерпеливо ждал минуты, когда останусь один и смогу подумать о всем том, что мне нужно сказать ей. Прошла минута молчания; не найдя лучшей темы, я повторил свой вопрос. На этот раз Адель охотно сообщила мне, что идет в соседнее селение, чтобы отнести одной бедной больной семье то небольшое вспомоществование, которое добрая настоятельница постоянно посылает через нее. Мне следовало бы догадаться об этом, но я был так занят другим!
Не стану описывать тебе во всех подробностях нашу прогулку – пленительный час, которому следовало бы продлиться вечность, тогда как пролетел он словно одна минута. Я опускаю их, эти подробности, потому что, остановившись на них, не сказал бы главного; потому что они утратили бы под моим пером тот пламень, который горит в моем сердце; потому что есть во всем этом какая-то сладостная нега, которую невозможно передать с помощью несовершенных средств, данных человеку для того, чтобы говорить и понимать; потому что, как мне кажется, счастье мое стало бы менее безграничным, если бы я ограничил словами расплывчатые очертания моих воспоминаний; потому что в таком рассказе, где все должно быть связано с одной только Аделью, могли бы встретиться подробности, не имеющие к ней прямого касательства, которые отвлекли бы меня от мыслей о ней, а между тем – решено: ей, Адели, принадлежат сегодня все мои помыслы, ей будут принадлежать они отныне – и всю мою жизнь!
6 мая
Как бы там ни было, приличие требовало от меня, чтобы я посетил Эдокси. Сердце влекло меня к ее тетушке. Я был у них и видел обеих. Я видел и Адель… Ах, да что я говорю! – увы, я видел одну только Адель…
Да, дорогой Эдуард, было бы излишне, да и недостойно меня, скрывать от тебя далее охватившее меня чувство – чувство, которое переполняет меня всего, которое поглотило всю мою жизнь. О силы ада и рая! Кто бы мог подумать, что в двадцать восемь лет мое сердце окажется в плену, как в те далекие времена, когда оно было еще слабым и неопытным, при одном только виде этой простенькой, скромной и почти незаметной девушки? Как передать тебе тот исступленный восторг, который охватывает меня всякий раз, как только я вспоминаю ее прелестные черты, как только я слышу ее имя! Но не только восторг… Я парил в небесах такого безоблачного счастья, грудь мою переполняла такая высокая и такая новая для меня радость… Ибо все стало новым для души, возрождающейся из развалин прошлой жизни для любви и страданий…
Страданий… Знаю, сколько позора, сколько горя может принести мне эта любовь. Я не скрываю от себя, я ясно отдаю себе отчет в том, что странным образом даю воображению увлечь меня на ложный путь, что безжалостная судьба упорно толкает меня к тому, чего мне следовало бы бежать, повергает меня в бездну гибельных решений, тем более глубокую, чем более они бесповоротны. Я готов проклинать безумство своих помыслов, безмерную слабость своего рассудка, готового предаться любому обольщению, уступить любой фантазии. Я негодую на самого себя, а между тем отдаюсь во власть увлекающей меня страсти, не пытаясь даже сопротивляться ей. Больше того – если бы мне известна стала сила, способная навсегда избавить меня от нее, вырвать из груди моей самое воспоминание о ней, я не в состоянии был бы воззвать к этой силе. Именно то, что может показаться в моей избраннице низким и достойным презрения, свяжет меня с нею неразрывными узами; и я должен сознаться тебе – чувство это обрело такую власть над моим сердцем, что все советы и убеждения дружбы лишь удвоили бы его пылкость.
Эдуард, милый Эдуард, ты, в ком небо даровало мне брата, наставника и покровителя средь треволнений нашей юности, ты, бывший долго светочем, ведшим мой разум, и силой, обуздывающей мои страсти, – о, не покидай меня теперь в том состоянии смятения, в котором я нахожусь. То, что я только что сказал, не относится к твоим советам.
О мой друг! К чему приведет это неистовое столкновение противоборствующих мыслей, которые с каждой минутой приносят мне все новые тревоги? Кто поможет мне победить очарование этого образа, что следует за мной повсюду; кто изгонит его из моей памяти, где он властвует безраздельно, – и эти полные благородства большие черные, такие трогательные глаза, и эти уста, столь упоительно прекрасные, и это постоянное выражение сердечной доброты, которое словно излучает ее личико, и ее мелодичную, немного протяжную речь, и этот искренний голос, один звук которого так глубоко трогает меня?
8 мая
Кто мог бы помешать мне искать свободы в иных краях и, живя там в полной безвестности, в приюте, недоступном для людских пересудов, наслаждаться счастьем, которое отказывается дать мне общество?
Для чего я здесь, и кто заметил бы мое отсутствие средь этого водоворота равнодушных и чуждых мне людей, всецело занятых интересами своего состояния да своими тщеславными помыслами? Разве не выполнил я перед страной свой долг, который налагало на меня мое имя? Неужто так велик предел этого долга, что недостаточно тех жертв, которые я сотни раз приносил, рискуя жизнью на полях сражений? Уйти отсюда – не раз уже думал я об этом. Променять все их светские приличия, всю эту глупую чванливость, весь их этикет на тихую и скромную жизнь в уединении! Приходит время, когда душе необходимо принадлежать наконец самой себе, предаться мыслям о высоком, уйти подальше от всего этого хаоса общественных условий – далеко-далеко, на какую-нибудь горную вершину, что разрывает облака своей главой, возвышаясь над бесконечными равнинами и бескрайними морями. Я думаю, что, создавая вселенную столь совершенно прекрасной, являя такую дивную щедрость в творениях рук своих и столь уничижающе противополагая их великолепие скудости наших чувств, Творец желал с помощью разительного примера открыть нам, сколь ничтожны все те наслаждения, которые мы не связываем с ним, и все наши суждения, что зиждутся на суетном мнении толпы. Я помню тот день, когда мне, еще совсем юноше, но уже изгнаннику, впервые довелось ступить на одну из вершин Юры… Долго идете вы извилистой, суровой и пустынной дорогой, пролегающей по самому высокому из тамошних плоскогорий, сопровождаемый лишь клекотом старой орлицы, которая, заслышав звук давно позабытого ею человеческого голоса, внезапно раздавшегося под скалами, где она обитает, испугалась за своих птенцов. И вот, когда в самом конце вашего одинокого пути вы наконец достигаете того места, где вам начинает казаться, будто земля уходит из-под ваших ног и стоит лишь протянуть руку, чтобы коснуться лазурной тверди неба, – вам внезапно предстает зрелище столь необычайное, что вы мгновенно постигаете всю непреложность участия божественной воли в тайне мироздания. Как будто дух земли приподнял завесу, отделяющую наш мир болот и камней от какого-то дивного мира, и вводит нас в этот волшебный край. Мне хотелось бы описать тебе все это, но найду ли я нужные краски?
Так вот, вообрази себе: на крайнем гребне горы, там, где кончаются Лаватейские леса, стоит убогая хижина, – издали она кажется затерявшейся в облаках; ее называют хижиной серпов – оттого, что кривые тропинки, сбегающие от нее по крутому склону, в былые времена вели прямо в пропасть, изгибаясь при этом, словно серпы жнецов. Ныне, когда с помощью рабства и труда здесь проложена превосходная дорога на пользу пагубным торговым сношениям и для нужд войны, эти уходящие в глубь бездны «серпы» имеют уже менее угрожающий вид, и горная козочка, изумленная тем, что чья-то недостойная рука осмеливается совершенствовать ее приют, не решается больше ступать туда, где проходит путь, проложенный человеком. Недвижимо стоит она на самом высоком зубце скалы и печально глядит в небо – единственную пустыню, оставленную нам цивилизацией. Вначале все части картины предстают взору одновременно, настолько захватывая ваше внимание, что вы еще долго не в состоянии овладеть всеми вашими чувствами и различить детали: озеро, что блестит под вашими ногами как раз в том месте, где кончаются Юра и Франция, – такое большое, что оно кажется морем; вдоль его берегов романтические деревушки Ваадта [3]3
Ваадт, Валлис– кантоны Швейцарии; Савойя – департамент в Южной Франции в годы Революции и Наполеона; с 1860 г. по Туринскому договору вновь перешла к Франции.
[Закрыть], сумрачные пейзажи Валлиса, суровое безлюдье Савойи; вдалеке протянувшаяся по всему горизонту широкая горная цепь – Альпы, вырисовывающиеся бесчисленными своими вершинами по всему полукругу неба; каждая из этих вершин не похожа на другую по форме, по очертаниям, по цвету, по всему своему облику, но при свете солнца поверхность каждой из них словно отливает каким-нибудь другим металлом – одна блестит, будто отполированное серебро, другая – смотря по тому, как падает на нее тень, – то светится тускло, точно свинец, то отбрасывает синевато-лиловый отблеск, подобно вороненой стали; а когда небо объято пламенем заката, некоторые из них сверкают до того ослепительно, что кажутся грудами добела раскаленного железа. В тот день, о котором я тебе рассказываю, закат был так великолепен, небо так чисто!.. В спускавшихся сумерках испарения, поднимавшиеся от озера, смешивались с лучами заходящего солнца и светлой дымкой колыхались над водами, напоминая собой легкое, прозрачное покрывало нежно-розового оттенка; медленно стелясь у ног путника, они постепенно уходили ввысь, все выше и выше к горным вершинам, и разворачивались там, на горизонте, перед его взором в виде огненного занавеса, который бросал на все вокруг какой-то волшебный свет; затем, все более сгущаясь и становясь все темнее, они нависали над этой изумительной картиной пурпурно-золотистым балдахином, блеск которого стал меркнуть лишь тогда, когда в небе зажглись светила ночи.
Неужели в этих-то необозримых горах, в этом безлюдном, неизведанном краю не найдется уголка, куда я мог бы унести с собой, мог бы укрыть от наглого любопытства, от лицемерной хулы тайну моего счастья и моей жизни? Неужели не в моей власти сделать эти горы местом моего добровольного изгнания? Неужели мне суждено умереть в ненавистных оковах, в которые они заключили меня, – и я не сделаю даже усилия, чтобы разорвать их? О нет, Эдуард! Пусть они не обольщаются! Скорее уж я разом разорву все оковы!
Пожалей меня в моих несчастьях!
9 мая
Я еще не рассказывал тебе, что во время моего последнего визита в замок Валанси речь зашла о мезальянсах, в связи с этим беспутным Сублиньи, который недавно окончательно упрочил свою славу сумасброда, женившись на танцовщице. Воспользовавшись этим поводом, я высказал свое мнение, и с горячностью, которую, так же как и обилие мыслей об этом предмете, можно объяснить скорее некоторыми обстоятельствами моего положения, чем значительностью самой темы. Я сказал, что считаю действительно непростительными и несообразными с пользой общества лишь те мезальянсы, в которых неравенство относится к нравственным качествам, и что такой брак – явление весьма необычное, ибо редко случается, чтобы прекрасная душа не прилепилась к себе подобной, как говорит Шекспир, или так долго находилась под властью обманчивой внешности, чтобы грустное счастье разочарования не выпало ей на долю прежде, чем она свяжет себя узами торжественного обряда; что же до мезальянса в том принятом у нас значении слова, которое подразумевает лишь разницу сословий, то такой брак может вызвать негодование только у людей, которые, придерживаясь самого нелепого и возмутительного из предрассудков, присваивают одному определенному сословию некие особые или, лучше сказать, исключительные права; что, поскольку я не знаю никого, кто осмелился бы утверждать, будто добродетели подкрепляются титулами или приобретаются вместе с привилегиями, я не понимаю, почему человек с чувствительной душой не имеет права искать свое счастье всюду, где есть добродетель, – а ведь только она и может дать счастье; что я нахожу нелепым и до крайности жестоким обрекать привлекательную женщину, наделенную всеми достоинствами и всеми прелестями, на невозможность когда-либо принадлежать любимому ею человеку только потому, что эта несчастная волей случая лишена того преимущества, которое само по себе является делом случая и не может заменить – даже в свете – тех преимуществ, какими щедро наградили ее природа и воспитание; что если люди, одаренные большими талантами, всегда отмечены в глазах современников и потомков безусловной печатью благородства, то не меньшее право на почет и уважение добродетельных умов имеют все те, кто скромно несет свои куда более трудные обязанности перед лицом религии и нравственности в частной жизни, – и что, следовательно, я никогда не позволил бы себе осуждать брачный союз, подобный тому, о котором идет речь, если бы знал, что в нем есть та счастливая гармония взглядов и характеров, которая и является единственным верным залогом семейного счастья и благополучия.
Вероятно, мои рассуждения показались г-ну де Монбрёзу вовсе недостойными ответа, ибо он лишь строго посмотрел на меня, но не произнес при этом ни слова, и я заметил вслед за тем, что он повернулся к Эдокси с видом единомышленника, выражая на своем лице что-то вроде горького презрения. Сама же Эдокси, чьим убеждениям я бросил явный вызов, – казалось, не придала моим словам достаточного значения, чтобы соблаговолить оспаривать их всерьез; она ограничилась несколькими обычными в таких случаях избитыми мыслями, высказанными в изящной форме и с тонкой иронией, которые придавали им больше приятности, чем убедительности. Адель слушала меня с волнением: щеки ее горели, и она избегала встретиться со мной взглядом. Г-жа Аделаида вначале смотрела на меня с улыбкой, однако затем лицо ее приняло более строгое, чем обычно, и, боюсь даже сказать, более печальное выражение. Когда я кончил, она мягко стала возражать мне, ласково выговаривая за мой запальчивый тон и за восторженность, с которой я высказывал самые странные, по ее мнению, и нередко самые пагубные взгляды. Она посетовала, что люди моего поколения склонны так легковерно усваивать и распространять софизмы, все последствия которых они не могут достаточно предвидеть, а между тем эти ложные идеи постепенно ведут к извращению истинных понятий. Признавая, что в моих словах кое-что было справедливо с точки зрения благородных чувств, она вместе с тем настоятельно советовала мне поразмыслить о причинах и последствиях обычая сочетаться браком с равным себе – обычая, заслуживающего уважения уже вследствие того влияния, какое он оказывал на наших отцов, да и по той причине, что он приобрел характер почти религиозного установления, будучи освящен веками, на приговоре которых зиждется в конечном итоге вся мудрость общества; она присовокупила к этому (тоном, в котором были мягкость и покорность, но отнюдь не страстная убежденность), что долг доброго гражданина – подчиняться существующим установлениям, не пытаясь спорить с ними, и что, поскольку люди, будучи существами несовершенными, вынуждены отдавать дань известным заблуждениям, освященным необходимостью или требованиями времени, мудрые и честные сердца должны ради пользы человечества подчинять свой разум всеобщему порядку.
Возможно, что она и права. Но чего бы я не дал, чтобы исчезло даже воспоминание об этой еще различимой границе, которую случайность рождения провела между несколькими родами и великой человеческой семьей, чтобы забыть обо всем том, что заставляет меня подчиняться помимо собственной воли какому-то особому порядку, налагает путы на свободу моего сердца; кладет запрет на мои самые естественные и самые сладостные чувства; чтобы исчезло то, что разлучает меня с Аделью, разлучает со счастьем!
Разлучает! О варварский предрассудок! Да падет на тебя гнев всех тех, кто обладает верной и чувствительной душой!
Разлучает! А ведь я прошел бы через весь земной шар ради одного поцелуя ее уст!
Разлучает! О, приди, приди же на грудь к Гастону, бедная сиротка, отверженная людьми! Доверься ему, и, клянусь тебе в этом невинностью и чистотой твоей ангельской души, никакие силы ада уже не смогут разлучить нас!
16 мая
Никогда еще я так усердно не посещал маленькую рощу, как в эти последние дни, и никогда еще мой гербарий не обогащался так медленно. Это очень удивляет Латура, который проявляет к моему гербарию такой же интерес, как и ко всем остальным моим развлечениям, хотя не обо всех из них я считаю нужным сообщать ему. Тебя же это не удивит, ибо ты хорошо помнишь, что через эту рощу каждый день, в один и тот же час, проходит Адель, и понимаешь, что мне может быть хорошо только там, где я могу надеяться встретить ее. Ты также заметил уже, что между этим моим письмом и предыдущими лежит немалый промежуток времени, и, вероятно, вывел из этого заключение, что обилие впечатлений и событий, случившихся в эти дни, заставило меня позабыть о самых излюбленных моих занятиях. Все это действительно так, дорогой Эдуард, и тем не менее я не могу сообщить тебе ничего нового о своей жизни, ибо любовь моя для тебя уже не новость, а единственно в ней и состоит сейчас вся моя жизнь.
Я уже рассказал тебе о происхождении Адели то немногое, что мне удалось почерпнуть в неясных людских толках. От г-жи Аделаиды я узнал немного больше, но все же еще недостаточно для того, чтобы удовлетворить мое любопытство, которое я к тому же боялся проявить слишком открыто. И вот наконец давеча, провожая Адель от рощицы до селения, я заговорил с нею об этом, заговорил со всей той осторожностью, которой требует такого рода деликатный вопрос; и так как ее рассказ может представить интерес даже для людей, совершенно чуждых тому, что занимает меня, я хочу, чтобы ты услышал эту повесть из собственных уст Адели, в том виде, в каком услышал ее я сам. Прости меня, если, передавая ее безыскусственную речь, я не смог достаточно сохранить ее естественную прелесть и тот оттенок простосердечной и трогательной доверчивости, которые придавали ее рассказу еще большее очарование. Бывают вещи, которых не выразить словами.
«Мой отец, – так начала Адель, – родился в Валанси, в семье состоятельных землевладельцев. Звали его Жак Эврар. И по уму, и по всем наклонностям своим он уже в детстве обещал стать человеком недюжинным, и потому родители решили дать ему приличное воспитание, которое помогло бы ему достичь в жизни более блистательного положения, чем то, которое выпало на их долю. Прилежание его всецело оправдывало их надежды, но все оказалось напрасно. Многочисленные бедствия, одно за другим, свалились в то время на моего деда: несколько неурожайных лет, последовавших одно за другим и истощивших все его запасы, которые он не смог уже восполнить; два пожара, во время которых сгорели сначала амбар, затем дом; наконец, проигранное судебное дело, от исхода которого зависело все сохранившееся еще у него состояние, – все это превратило его из богатого человека в бедняка. Теперь уже невозможно стало осуществить все те планы, которые строились вначале относительно моего отца; от них пришлось отказаться, и, чувствуя себя еще несчастнее оттого, что рушились его надежды покинуть свое селение, он с отчаяния завербовался в солдаты.
Полк, в который он вступил, стоял тогда лагерем в Сомюре. В ту пору мой отец был еще очень молод; у него было привлекательное лицо, в котором находили черты благородства; он отличался беззаветной храбростью и обладал множеством тех приятных талантов, какие обычно открывают доступ во всякое общество. Он пользовался благосклонностью своего полковника и других офицеров, его уже два раза повышали в чине, и хотя такое быстрое продвижение было на военной службе делом необычным, оно не вызывало ни малейшего недовольства со стороны его товарищей, искренне отдававших должное его высоким качествам. И понемногу почти все его начальники стали уже заранее видеть в нем человека, равного им по положению. Случилось так, что одна девушка весьма знатного рода, жившая в этом городе, подарила его своим вниманием и, сама не отдавая себе сначала отчета в своем чувстве к нему, так усвоила милую для себя привычку видеть его, что сердце ее не могло уже обходиться без этих встреч. Вскоре она поняла, что эта потребность – не что иное, как любовь, но поздно было уже бороться с ней; так, во всяком случае, думала она, и точно так же думал мой отец. Что сказать вам еще, господин Гастон? Так, в итоге ошибки, я появилась на свет.
Мать моя не смогла скрыть свой грех от родителей; они были люди мягкие и добрые, но все же гордость их не могла допустить, чтобы грех их дочери покрыл Жак Эврар. Были приняты необходимые меры для того, чтобы никто не узнал о моем рождении; мою кормилицу вместе со мной отправили в это далекое селение, где я и была крещена при заботливом участии госпожи настоятельницы. Вы догадываетесь, что селение это было выбрано не случайно: моей матери приятна была мысль, что я буду расти на глазах у своего отца, пекущегося обо всех моих нуждах. Срок его службы к тому времени уже истек, и все свои надежды на будущее он, не задумываясь, принес в жертву возможности никогда больше не разлучаться со мной и наблюдать, как я все больше и больше становлюсь похожей на избранницу его сердца. Любовь его не остановилась перед еще большими жертвами. Мог ли он чувствовать себя счастливым, не смея назвать меня своей дочерью? Моя молодая кормилица – несчастная жертва обманутой сердечной склонности – считалась моей матерью и его женой. Одна лишь госпожа Аделаида была посвящена в эту тайну; она глубоко сочувствовала его несчастьям.








