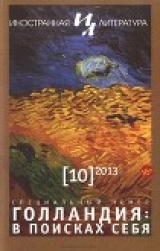
Текст книги "Все пути ведут в Сантьяго"
Автор книги: Сэйс Нотебоом
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Из истории
Фотография появилась в газете «El País» 5 марта. Слева, отвернувшись от меня и от всего испанского народа, сидит Эмилио Гарсиа Конде, el jefe del Estado Mayor del Aire. Конде – начальник штаба ВВС, но почему же по-испански это звучит так, будто он – повелитель самих небес? На генерале большого размера туфли из замши. По левую руку от него, развалившись, низко сидит министр обороны. Широкий скошенный вниз подлокотник его кресла задевает кресло jefe del Estado Mayor de la Armada, начальника штаба военно-морских сил. Министр – толстяк с бородой, адмирал же – худой и единственный из всех одет в форму. Далее – молодой насмешливый Филипе Гонсалес, el Presidente del Gobierno, а рядом с ним человек с сигаретой: он, цинично ухмыляясь, смотрит вниз, а лицо у него как на одной из последних фотографий моего отца, сделанной в 1944 году. Это el jefe de la JUJEM, председатель Совета национальной обороны. На заднем плане колонны и вазы, перед запечатленными на снимке – стеклянный стол с отделкой из чистой меди. Пепельницы, стаканы, букет цветов. Все в порядке. Избранный председатель правительства запечатлен вместе с высшим военным командованием. И все-таки я не могу удержаться, чтобы не связать эту фотографию со страхами перед прогнозами годичной давности, когда изображенное на этом снимке должно было сбыться. Гонсалес должен был выиграть выборы, военные не должны были устраивать переворот, вот тогда все было бы правдой.
В какое же прошлое уводит меня этот снимок? Только ли в минувший год, когда я, путешествуя по Испании, остановился в parador[3]3
Отель (исп.).
[Закрыть] в Сеговии? Гостиница расположена в нескольких километрах от города и выстроена так, что изо всех номеров виден силуэт городских стен, раскинувшихся по другую сторону долины, на холме, который мы в Голландии назвали бы горой. Он неприветливый и неровный, этот силуэт, разный в разные часы, и кажется, будто нет там никакого города, что это скульптура, вымысел в камне, громадная, неприступная, наглухо закрытая, и человеку туда хода нет. Колокольни и купол собора, высокие стены и башни Алькасара. Внизу лежит римский акведук – я это знаю, хоть и не вижу его. На сделанном мной снимке у этого акведука стоит несколько машин. Каждая из них высотой не больше трех огромных каменных глыб, из которых построен акведук. Вот он, неподвижный, пространный и высокий, а за ним, точно понарошку, виднеются городские строения, словно это призрак, вызванный историей специально для нас в доказательство того, что она существует. Все эти сто восемнадцать арок, двадцать девять метров в высоту и семьсот двадцать восемь метров длиной построили во времена правления императоров Траяна и Веспасиана. До 1974 года по этому акведуку подавали воду для города. Здесь история не повторялась, и долгие годы все шло своим чередом.
Былое – это то, что было. Наслаивающиеся друг на друга частицы, настолько малые, что их уже никогда не измерить. Остаются лишь большие неотесанные факты, которые привязывают к датам, которые ученик заучивает наизусть. Или к зданиям и памятникам. Может быть, потому мы так осторожно, с путеводителем в руках, приближаемся к ним, что они, так или иначе, свидетельствуют о существовании некоего суммарного прошлого. Но как его подсчитать? Раб, который трудится на строительстве акведука, тоскующий по Риму центурион, упадок Римской империи и все, чем этот упадок обернулся для безымянных исчезнувших, которые здесь жили. Частные судьбы, ужатые до одной строчки в книге о былом, накрепко приколоченные друг к другу в невидимом лабиринте времени, с виду прочные, наподобие этой фотографии Гонсалеса с соратниками по борьбе, но обреченные раствориться в бурном потоке складывающихся фактов и событий, снова и снова изменяющем содержание каждого очередного случая.
На дворе тридцать шестой год. Во главе страны другой человек – Франко, он добился власти, опрокинув Республику, как иные опрокидывают стул. В соборе Сеговии раздается голос, в том самом соборе, который мне с балкона кажется нарисованным на небе силуэтом. «Родину нужно обновить, сорняки – выполоть, а злое семя – искоренить. Сейчас не время для сомнений». С этих слов начался террор против какой бы то ни было левизны. Город разделился на два лагеря: на законопослушных граждан, считавших, что виновных следует арестовывать и предавать суду, и тех, кто доказывал, что «некоторый» террор, в виде приговоров военно-полевых судов, все же необходим. Управление провинцией Сеговия перешло к фаланге Вальядолида, несчетное количество людей было арестовано и отправлено в ставший тюрьмой трамвайный парк города. Свидетель рассказывает: «Однажды мы получили приказ сформировать кордон – публика слишком близко подходила к расстрельным командам, проводившим в лагере публичные казни. Нам полагалось не подпускать людей ближе, чем на двести метров, а кроме того, нам строго-настрого приказали следить, чтобы в толпе зрителей не оказалось детей.
Заключенных вывели из трамвайного депо. Из двенадцати человек в первый день моего дежурства было несколько из соседней деревни. Можете вообразить, что я чувствовал! Все заключенные, в том числе и женщина, отказались, чтобы им завязали глаза. Когда раздались выстрелы, женщина вместе с некоторыми другими подняла в призыве сжатую в кулак руку и прокричала: Viva la Republica! Да здравствует Республика!
Всю неделю, в которую я нес дежурство, каждый день на рассвете расстреливали по двенадцать человек. Среди них были три женщины. Две из них, когда карательный отряд взял их на прицел, подхватили юбки и закрыли ими лицо, обнажив срамные места. Был ли это вызов? Или жест отчаяния? Не знаю, но ради таких сцен публика и приходила смотреть на казни. Потом, когда мы вернулись в город, улицы опустели, и зрители попрятались по домам и по постелям. Город стих…»[4]4
Цит. по изд.: Ronald Fraser. Blood of Spain. The Experience of Civil War 1936–1939.– Penguin Books, 1988. – P. 167.
[Закрыть]
Лабиринт времени – образное выражение, интерпретация. Но, как в поисках выхода из настоящего лабиринта (а они существуют) все же возвращаешься назад, так и история, похоже, движется по собственному пути, который называют, просто чтобы как-нибудь назвать, прогрессом или «неотвратимым» ходом. А когда этот «прогресс» пробуксовывает, говорят о «шаге назад». Отступить или вернуться, чтобы снова продолжить путь, – это и есть движение по лабиринту: если изобразить многие цепи событий, получится сложный круговой узор. Но для современника никакие изображения немыслимы. Он либо считает, что сам является орудием судьбы, либо переживает эти события, одно за другим, как сумятицу, вмешательство в собственную жизнь, страх. Иногда же, как в вышеописанном случае, события означают его или ее смерть. Для одного человека история обрывается, однако сам он тут же становится ее частью для других. Участвовать в истории можно, разумеется, двумя способами: активно и пассивно. Жертва бомбежки попадает в книгу как одна из огромного числа погибших, тот, кто кричит в лицо карателям «Да здравствует Республика!» – сделав выбор, в некотором смысле сам определяет свою судьбу. Но то же самое можно сказать и о том, кто стреляет, и даже, наверное, о том, кто приходит на это смотреть. Страдание и причинение страданий, наблюдения и свидетельства, чувства и их отголоски в рассказах и письмах потомков – все это присутствует в абстракции, которую мы называем историей.
Сразу же после выхода романа Хюго Клауса[5]5
Хюго Клаус (1929–2008) – фламандский писатель, поэт, художник, режиссер театра и кино. Действие романа «Горе Бельгии» (1983) происходит во время Второй мировой войны во фламандской деревушке Валле, оккупированной немецкими войсками.
[Закрыть] «Горе Бельгии» двое журналистов газеты «Фолкскрант» заметили: «Но ведь в самой книге подробно разъяснено, как и зачем пишется история». На что автор ответил: «Конечно же, я попытался показать, каким образом история вмешивается в жизнь ‘маленького человека’, который не имеет, да и не может иметь никакого представления о том, как это происходит. Я не верю в возможность просто так, ‘по линеечке’, записать факты, а ниже приписать, как эти факты влияют на людей. История должна переплавиться в магме, в человеческих словах, поступках, чувствах и мыслях, в том, как мы смотрим на вещи. Вот что волновало меня, и стоит задуматься, как тут же встает вопрос: как идеи фашизма и национализма могли прорасти в людях, считающих, что их это не касается. Или в тех, кто не очень-то задумывается над этим, а тем временем фашизм уже влияет на их мышление, на мнения о немцах, об англичанах».
Люди, считающие, что их это не касается. В этом и весь секрет – частью происходящего, участниками становятся и те, кто считает, что к ним это не относится. Собственно говоря, история – столь же странный предмет, как и пространство, и время. Мы пребываем в ней постоянно. Не знаю наверняка, является ли история частью времени, хоть время и можно представить себе вне человека, а историю – нельзя. Сейчас, спустя столько лет после Гражданской войны, можно в общих чертах обрисовать интересы европейских держав, описать активную роль Гитлера, Муссолини, Сталина, козни англичан, имевших в Испании серьезные финансовые интересы, личный героизм многих членов Интернациональных бригад, братоубийственную схватку между коммунистами и анархистами. Где он, прогресс? Где он, неотвратимый ход? Могло ли все быть иначе? На этот последний вопрос мне особенно сложно ответить: если однажды все случилось именно так, могло ли быть по-другому? В мыслях – да, в действительности же ни в коем случае. Должно быть, в этом холодок истории, в том, что она рассказывает о совершившихся фактах, и в том, что после всего нам кажется, что ни одно отдельно взятое волевое решение ничего не меняет или не может изменить. Правы ли были те, кто умирал за Республику? На мой взгляд, они были правы, но это страшная жертва. Каково это – проиграть, и, глядя в направленное на тебя дуло винтовки, собрать последние слова, чтобы выкрикнуть «Да здравствует Республика!», задрать юбку выше головы, обнажить перед палачом свои срамные места и затем погибнуть? И могу ли я позднее мысленно связать этот миг со снимком в «El País», где изображен молодой социалист на первых ролях в королевстве, который по этой причине фотографируется с руководителями военного ведомства? Полагаю, что да, но это всего лишь одна из тысяч, миллионов связующих нитей между этим снимком или той роковой минутой и прочими мгновениями. В том-то, похоже, и парадокс, что история не имеет намерений, в то время как у нас, в силу нашего существования, они есть, и с их помощью мы творим историю. Мой друг, философ, возразил бы мне, что, по Гегелю, у истории все же есть свои задачи и что историю никогда нельзя ставить на одну доску со временем, и в последнем он, конечно же, был бы прав. Я бы еще промямлил, что история – это видимая форма времени, но это все пустые слова, потому что то же самое можно сказать и о часах. Часы на циферблате складываются в годы, из которых состоит век, ну а дальше что? Хорошо, попробуем заново: история есть сумма всех наших несхожих, сталкивающихся друг с другом и противоречивых желаний. Но даже при этом сама по себе она не имеет цели.
Противоречивые намерения. Без малого пятьсот лет тому назад в Сеговии разгорелось восстание комунерос под предводительством Хуана Браво. Однако, чтобы понять, почему оно произошло, придется еще глубже уйти в прошлое, в зрелое Средневековье, – ведь история всегда ссылается сама на себя. В те времена народ был практически бесправен, однако, после Реконкисты, отвоевания у мавров больших территорий, в целях привлечения людей на новые земли им были даны fueros, привилегии, долгое время закрепленные за дворянством и духовенством. Так, в различных испанских королевствах возникали законодательные собрания – Кортесы. Их нельзя сравнивать с современным парламентом, и все же они гораздо раньше, чем где-либо в Европе, отображали раннюю стадию демократического сознания испанцев. Леон уже в 1188 году имел собственный парламент, Арагон – в 1163-м, Каталония – в 1228-м, а Кастилия – в 1250-м. Понятно, что на протяжении веков испанские короли рассматривали набирающее силу самосознание парламентов, куда входили дворяне (nobilarios), духовенство (eclesiásticos) и представители городов (populares), как умаление их собственной власти.
Собрания, которые созывали от случая к случаю, когда королю требовались деньги, переросли в самодостаточные и оттого малоприятные для него институции, и, когда Карл V, презираемый испанцами за то, что даже не говорил по-испански, а только по-фламандски, и раздавал высшие должности в Испании иностранцам, в очередной раз повысил налоги, чтобы обеспечить свою международную политику, поднялось восстание. «Народные движения, – пишет Густав Фабер в книге „Испанское общество“, – начинаются снизу, и все-таки нужны предводители, которые сформировали бы эти движения». Вот оно опять: невидимое, по большей части уже непостижимое – идея, гнев, месть, – растущее, словно волна, изнутри наружу и влекущее безымянную массу. «Священная хунта» – народ, аристократия и духовенство во главе с Хуаном Браво требуют уменьшения налогов, назначения чиновников из местных и правовых реформ. Восстание направлено не против королевской власти, но против назначенцев Карла. В Толедо создаются народные комитеты (слово, уместное скорее в XVIII веке, нежели в XVI). Испания гудит, восстание охватывает все новые города, несмотря на большие расстояния. За Сеговией и Толедо следуют Гвадалахара, Авила, Мадрид, Алькала-де-Энарес; общим решением смещен регент Карла – голландец, позднее папа римский Адриан VI. С войском наемников Адриан выступает против Сеговии, но, когда он собирается завладеть складом боеприпасов в Медина-дель-Кампо, те тут же взлетают на воздух, превращая весь город в груду развалин. Гнев и горечь, другие города присоединяются к мятежу, в Сеговии двоих делегатов обвиняют в предательстве и подвешивают вниз головой.
Затем наступает один из тех моментов, которые так и просятся в историческую драму или в оперу, но своего Верди у испанцев нет. Католические короли, Фердинанд и Изабелла, бабушка и дедушка Карла V, выдали своих дочерей за европейских монархов. Католические короли, Reyes Católicos: у нас такого нет, мы не можем назвать королями монаршую чету, испанцы же говорят так до сих пор – когда Хуан Карлос и София куда-нибудь отправляются, пресса сообщает о том, что короли отправились туда-то и туда-то, как будто речь идет о двух мужчинах. Хуана, известная впоследствии как Хуана Безумная, получила в мужья Филиппа Красивого, сына австрийского императора, а Габсбургам в качестве приданого досталась Испания. В 1506 году Филипп Красивый скончался в Бургосе от «лихорадки», а Хуана, у которой и раньше наблюдались симптомы маниакально-депрессивного расстройства, попросту говоря, сошла с ума. Гроб нельзя было закрывать, Хуана должна была каждый день видеть своего любимого даже мертвым. Словно в фильме ужасов, двигалась по Испании распространяющая чумной дух процессия, и каждый вечер для королевы открывали гроб. Вскоре собственный сын-император заточил обезумевшую Хуану в монастырь в Тордесильясе.
Теперь все вертится вокруг нее. Монарх – в Германии, мятежники призывают Хуану занять трон, но сторонники Карла тоже обращаются к ней. Хуана не понимает, почему те, кто отправил ее в монастырь, теперь так сильно в ней нуждаются, и отказывается. Священная хунта с Хуаном Браво во главе предлагает сделать Хуану королевой всех испанских территорий, между прочим, по праву унаследованных ею. Двор переезжает в монастырскую тюрьму в Тордесильясе – это место сейчас открыто для посещений, а наполовину рассохшийся спинет королевы Хуаны, более чем что-либо другое, говорит о плачевном ее положении. Там же собирается парламент, а народ присягает на верность королеве. Была ли Хуана действительно сумасшедшей? Понимала она, что происходит, лишь иногда или же с самого начала знала все? Согласись она, и тогда к ней вернулась бы власть, а ее заточению пришел бы конец. Но если бы она отказалась, тогда трон перешел бы к ее далекому, отсутствующему сыну-«фламандцу».
Итак, в опере звучит ария сомнений. На одной чаше весов – свобода и корона из рук комунерос, на другой, за стенами монастыря, – сторонники сына, заточившего мать в тюрьму. И тут предводители комунерос совершают роковую ошибку. С их согласия сомневающуюся королеву, неуверенность которой еще усиливает ее духовник (баритон, я так и слышу их дуэт), подвергает экзорцизму другой священник – вселившийся в Хуану дьявол должен быть изгнан. Это отнимает слишком много времени, сторонники короля снова вторгаются в город, аристократия, наиболее сильная в военном деле, благодаря ловкому маневру Карла, переходит из Священной хунты на сторону короля, и в битве при Вильяларе народные повстанцы терпят поражение. Епископа Саморского отправили на гарроту, Хуан Браво вместе с семьюдесятью тремя другими комунерос были обезглавлены в Сеговии, а парламент утратил всякую силу.
Повстанцы становятся названиями улиц, кровь – адресами. Я прохаживаюсь вдоль магазинов на калье Хуан Браво, выхожу на улицу Изабеллы Католической, изумляюсь, с каким упорством сохраняют здесь имена, и выхожу к собору. Химера вдалеке, с балкона кажущаяся то черной зловещей тенью, то сверкающей, пылающей эмблемой; вблизи очертания, разные в разное время дня, выглядят озлобленными, ощетинившимися. Доброму Боженьке здесь не место. Напротив, в этих стенах хозяйничает Бог пустыни, некогда скитавшийся в ковчеге по выжженной земле. И хоть и приходится ему терпеть рядом с Собой идолов, все же Он по-прежнему тот самый Бог, Бог Авраама и Исаака, мстительный и жестокий, хоть теперь его стихия не жара, но холод. Ни следа мягкости романских церквей, это – крепость, воплощение мощи, подавляющей человека. Я прогуливаюсь среди этого окаменелого триумфализма. У одного из алтарей служат мессу, но человеческий голос звучит здесь глухо, ему не дозволено быть самим собой, он низведен до едва различимого униженного шепота, прячущегося в высоких холодных сводах, кажущихся дальше самих Небес. В этом огромном вокзале, заполненном белой святостью, высокие хоры расположены в отдалении и изолированы в каменном пространстве. Боковые капеллы скрываются в полутьме. Пытаемые на дыбе святые страдают, почти неразличимые, за решетками, и лишь высокие, далекие окна пропускают редкий солнечный свет. До дверных косяков не дотянуться, даже если четыре человека встанут друг другу на плечи, и в одни из этих дверей я выхожу на улицу, где воздух снаружи ощущается как освобождение. Я стою на голой, никуда не ведущей площади, выложенной крупным булыжником, между камнями пробиваются жесткие и неумолимые сорняки. Над площадью носится ветер с равнин, вдали виднеются заснеженные вершины Сьерра-де-Гуадаррама.
Сеговия – в общем-то, стиснутый город. Пройдите под одной из арок акведука, и вам покажется, что узкие улочки смыкаются позади вас. Вы пробираетесь переулками, мимо ресторанов с выставленными на витринах бесстыжими головами молочных поросят на девственно-чистых передних ножках, проходите мимо старинных магазинов, торгующих пряжей, лентами и ultramarinos[6]6
Бакалея, колониальные товары (исп.).
[Закрыть], и вдруг – диво дивное! – перед вами возникает одна из великолепных романских церквей (а их здесь двадцать!). Полюбуйтесь, как внизу, в долине, петляет среди зелени Эресма, и вот вы сами, без посторонней помощи, оказываетесь у Алькасара. Если не знать, что он настоящий и действительно древний, можно подумать, что его выдумал Антон Пик[7]7
Антон Пик (1895–1987) – нидерландский живописец и график. Наиболее известная его работа – детский парк сказок Эфтелинг, именуемый иногда нидерландским Диснейлендом.
[Закрыть]. С зубчатых стен донжона свесилась детвора и кричит: «Viva Asturias! Да здравствует Астурия!» Крики ненадолго повисают в воздухе и рассеиваются над глубоким оврагом. Алькасар стоит на высокой скале и кажется неприступным. Остроконечные башни, глухие стены, странные округлые смотровые башни донжона, похожие на подсвечник, куда ставят гигантские свечи, чтобы по ночам освещать всю Кастильскую месету. Испанские короли, перебиравшиеся, точно гонимые цыгане, из замка в замок, любили Алькасар больше прочих. Филипп II женился здесь в четвертый и последний раз, и в утро свадьбы, переодетый до неузнаваемости, смешался с толпой гостей, чтобы увидеть свою невесту еще до того, как она увидит его. История совершается не только на полях сражений, но и в спальнях, часто умышленно, эдакий сексуальный способ творения истории, ныне, увы, позабытый: сама мысль о том, что в этот миг в буквальном смысле соединяются два королевства, должна была подстегивать. Новая жена короля Филиппа, обязанная произвести наследника, была тоже из Габсбургов, и генетические последствия не заставили себя ждать. Короля-монаха Филиппа II осчастливили Филиппом III, который тоже взял в жены уроженку Габсбургского дома, и та подарила ему Филиппа IV – самого любвеобильного из европейских монархов, зачавшего со своей женой, разумеется тоже из Габсбургов, восьмерых детей, шестеро из которых тут же умерли, в то время как внебрачные дети Филиппа выжили все до одного. Конечным результатом оказался бедняга Карл II – зачарованный, el hechizado, больной импотент, с трудом влачивший существование. Когда же он наконец-то умер, из-за его кончины в Европе разразилась жестокая война за испанское наследство.
Брат Карла, который, по идее, должен был стать, Филиппом V, умер, едва достигнув четырехлетнего возраста. Ничто не помогло. Пресвятую Деву Одиночества (de la Soledad) перевозили с одного места паломничества на другое, Мадонну Аточскую перевезли из ее церкви в монастырь босых кармелиток. Не помогло даже самое сильнодействующее средство – мощи святого Исидора, которые всегда приносили к ложу царствующих особ, если те были при смерти, равно как и урна с прахом святого Диего из Алькалы. Испанцы снова ждали короля, поскольку без короля наследство, включая все земли с их жителями, перешли бы к ссорящимся наследницам. Все меры предосторожности были соблюдены и теперь. Стоило королеве почувствовать первые схватки, как она тут же устремилась в комнату в башне. Королева ела в одиночестве: король, согласно жестким правилам монаршего этикета, не мог разделить с ней трапезу. В комнате в башне все было приготовлено: три шипа из тернового венца Христа, один из гвоздей, которыми Его прибили к кресту, щепка от самого креста, лоскут плаща Девы Марии, посох святого аббата Доминика Силосского и пояс святого Хуана де Ортеги. Помогло. Ребенку, появившемуся на свет шестого ноября 1661 года, была уготована судьба страдальца и безвольной пешки в играх самых разных участников.
Из детского портрета Карла кисти Карреньо это еще не очевидно, но и радостной картиной его тоже не назовешь. Длинный выдающийся подбородок, доставшийся от блистательного предка Карла V. Недовольно искривленный рот с короткой нижней губой, глаза смотрят с подозрением. Он умрет бездетным, этот главный герой трагикомедии одержимости и бесоизгнания, с мешочком яичной скорлупы, состриженными ногтями с пальцев ног, волосами и прочими колдовскими предметами под подушкой, чувствующий жуткий холод посреди самого жаркого дня, едва способный передвигаться, средоточие интриг, зажатый между исповедниками, великими инквизиторами, врачами, экзорцистами и придворными. Его смерти и особенно его завещания ждала вся Европа.
У каждого был собственный интерес: у императора Леопольда, Людовика XIV и у Вильгельма Оранского. Вопреки всем ожиданиям страдания Карла растягивались на годы – страдания и для него самого, и для европейских монархов. Смерть Карла наступила в тот самый роковой миг, когда обладатель наследства мог определиться лишь в ходе мировой войны. В это время Людовик подписал предложенное Вильгельмом Оранским соглашение, по которому Австрии передавались территории Испании, Испанских Нидерландов и колоний, а Франции приходилось довольствоваться Неаполем, Сицилией и Миланом. Однако австрийский император от такого щедрого предложения отказался. Через своего посла в Испании и архиепископа Вены Леопольд получил достоверную информацию о том, что нашептывал сатана в соборе Святой Софии во время изгнания дьявола из одного одержимого. Так он удостоверился, что в Карла вселился нечистый, и все, что нужно сделать, это изгнать его из умирающего Карла и его жены, тогда Господь сам позаботится, чтобы и Сицилия, и Неаполь, и Милан тоже оказались в его, Леопольда, руках. Я прав, история – все-таки лабиринт, но никто его не строил.
Стоял октябрь, потянулись последние дни жизни Карла. Снова доставили во дворец мощи святого Исидора и святого Диего, но двор был печален, потому что октябрь считался роковым месяцем для испанских королей. Королева сама кормила его толченым жемчугом, Карл оглох, от головокружений ему на голову клали свежезабитых голубей, у него пропал голос, и врачи пытались поддерживать в нем тепло, прикладывая к животу дымящиеся внутренности только что убитых животных. Но уже ничто не помогло, и король скончался. Его завещание состояло из разрывной бомбы и приказа считать святую Тересу Авильскую покровительницей Испании наравне с Пресвятой Девой. Война за испанское наследство была предрешена.
У входа в Алькасар, где вступил в свой роковой последний брак предок король Филипп, стоит памятник, не имеющий ничего общего и в то же время тесно связанный с Карлом, – он посвящен другой войне, случившейся много позже. Время – мужчина, История – женщина из белого мрамора, груди у нее больше, чем в самом извращенном «Плейбое». На коленях она держит книгу, куда она сама вписана, поскольку на обложке написано: «История». С высоты она смотрит на бронзовое поле битвы, лежащее у ее могучих ног. Мечи, штыки, со ствола пушки безвольно свешивается тело геройски погибшего офицера. A los capitanes de Artillería D. Luis Dadiz y D. Pedro Velarde, 2 мая 1808 года, с благодарностью от испанского народа.
В тот же день, чуть позже, я сижу на балконе гостиницы и всматриваюсь в очертания Сеговии – большого волшебного корабля в лучах закатного солнца, корабля, который медленно плывет к пламенеющему западу. Его мачты – башни собора и церкви, а нос – Алькасар. Глубоко внизу, словно развернувшийся океан, неподвижно лежит сцена с плодами и катастрофами, переселениями народов и битвами, где разыгрывались трагедии и пожинались плоды, земля, страна, не ведающая ни имен, ни дат.








