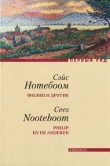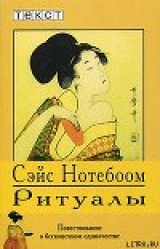
Текст книги "Ритуалы"
Автор книги: Сэйс Нотебоом
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
И ведь правда приходят. Вот и сейчас тоже.
В тихой комнате речитативом разворачивалась история его семьи – евангелие от Арнолда Таадса. Легкости арии в разгромном повествовании не было и в помине. Для вящего впечатления безымянный композитор мастерски использовал глубокие, идущие из бездны обреченности и скорби собачьи вздохи, ибо всякий раз, точно в коротком перерыве после описания очередной придури, сумасбродств; или мерзости какого-нибудь Винтропа пес обладавший прекрасным чувством времени непременно вздыхал, шумно выпуская воздух из подземных лабиринтов, с которыми наверняка был связан.
Они что, заранее репетируют? – думал Инни. Собачий век не больно-то долог, a при одной гостевой порции гуляша в неделю здесь явно не ожидали большого количества визитеров. Напрашивался единственный ответ – такие доклады, проповеди, декламации происходили и в одиночестве, причем пес обеспечивал генерал-бас, акценты и выразительность. Воздух, air
– это гениальное животное научилось окрашивать тревогой и одобрением незримый воздушный поток, что окружает нас и отчасти струится сквозь нас, улавливай ноты рока и враждебности, не давая им повисать в остальном, безразличном воздухе добычей губительного маятника стенных часов, но в виртуозном единении с одноглазым хозяином наполняя их отзвуком только что сказанного, в котором угадывалось и легкое, а то и болезненное подхлестывание, заставлявшее солиста держать достигнутое напряжение.
8
Напряжение, как Инни предстоит узнать, – сила отрицательная. Понял он все это не в первый вечер, но тот первый вечер положил начало его дружбе с Арнолдом Таадсом. Одна из особенностей его натуры (Инни и об этом тогда не подозревал, ведь, что бы он там ни думал, он попросту еще слишком мало прожил) заключалась в том, что людей, которым довелось однажды привлечь его внимание, он от себя уже не отпускал. Сплошь и рядом это были те, кого окружающие, то бишь обычный народ, звали «чудиками» и совершенно не могли увязать с саркастическим, светским обликом самого Инни. «Гляньте, очередной Иннин экспонат со свалки, из дурдома, из особой коллекции, из преисподней». «С кем это я видел тебя на днях в Схипхоле?! [16]16
Схипхол – амстердамский аэропорт.
[Закрыть]» «Как ты можешь целый вечер сидеть с таким субъектом?» «Ты что, встречаешься с этой девицей?»
Но это все было позднее.
Сейчас мы имеем дело с Арнолдом Таадсом, человеком, который не сумел наладить отношения с миром и потому громогласно и резко от этого мира отрекался, словно был его властелином. Будь сей вестник отрицания пятым евангелистом, символом его должно бы сделать чайку, одинокую серую фигуру на скале, прорисованную на более темном фоне зловещего неба. Инни видел чаек в фильмах о природе, телеобъектив подсматривал за ними с близкого расстояния, и казалось, они совсем рядом. Птицы внезапно разевали клюв, испускали пронзительный вопль ярости и предостережения, несколькими мощными махами крыльев взмывали в вышину и, по-прежнему одиноко, плыли прочь на незримом, легонько зыблющемся воздушном потоке. И опять слышался крик, снова и снова, словно что-то распарывалось, с треском рвалось.
Пробили часы. Человек и пес встали.
– Я провожу тебя на автобус, – сказал Арнолд Таадс.
В передней он извлек из стойки деревянный предмет вроде зонтика, обтянутого блестящим пергаментом.
– Это паронг, – пояснил он, и в самом деле, как только они вышли на улицу, по натянутой поверхности жестко, отрывисто застучи дождь. Все правильно. Шагая к калитке, Инни оглянулся на дом и еще сильнее, чем в комнате, ощутил фанатичное одиночество, которому обрек себя этот человек. У страдания множество форм, и, хотя Инни, восстанавливая позднее в памяти этот день, наверняка уже порядком настрадался, все ж таки удивительно, что человеку его возраста etat cru (Квинтэссенция (фрю.)) страдания открылась в ту минуту столь ярко и отчетливо. Страдание не как случайность, но как добровольная, не подлежащая отмене кара. Не подлежащая отмене, ибо другие не имели к ней касательства, ибо этот человек, так пружинисто и спортивно шагавший рядом, точно атлет, у которого мировой рекорд, считай, в кармане, страдал явно от себя самого, в себе самом. Инни тогда не умел еще сформулировать свое впечатление, но понимал, что здесь пахнет смертью, а из этого царства уже не вернешься, стоит лишь туда забрести – по несчастью или просто по недосмотру.
9
Инни облегченно вздохнул, когда автобус, точно по расписанию, отъехал от остановки.
Арнолд Таадс и его пес уже успели исчезнуть в ночи, в дожде, в лесу. Автобус, поезд, долгий пеший путь по улицам Хилверсума, где в садах, словно мрачные глыбы надгробий, темнели особняки. Теплые, тяжелые запахи цветов после дождя и среди всей этой сладости – незнакомый привкус расставания. С чем именно, он еще не ведал, но расставания не избежать, это было ясно.
Арнолд Таадс ему той ночью не приснился, потому что спать он не мог. Хотя видение, которого он сподобился и в котором фигурировал Таадс, больше всего походило на сон. Хозяин дома вновь сидел напротив него, как сидел в тот вечер наяву. Бесспорно, человек был тот самый, что несколько часов назад провожал его к автобусу, – с двойной кожей, одноглазый, явившийся в его жизни как перст судьбы. Со словом «являться» Инни всегда связывал то, особое значение, какое католики вкладывают в, него со времен Фатимы и Лурда [17]17
Фатима – португальская деревня, где нескольким детям являлась Богоматерь. Лурд – город во Франции, где родилась св. Бернадетта, которой тоже являлась Богоматерь.
[Закрыть]. И несомненно, Арнолд Таадс был скорее явлением, нежели чем-то еще, вдобавок явлением сидящим, хотя в случаях с Богоматерью о подобных вариантах не упоминалось. Прочие атрибуты были на месте: приглушенный свет лампы окружал измученное лицо стойким нимбом электрифицированной святости. Пожалуй, единственный диссонанс заключался в том, что святость упорно не желала сообщаться самому лицу – обилие контрастов прямо-таки отталкивало спокойную безмятежность. Этот святой был разломлен надвое и успел изведать столько страданий, что поистине мог бы купаться в неземном сиянии, но на лице его запечатлели свой след столь многие, и более мрачные миры, что возникало подозрение, не имеем ли мы тут дело с коварной маской дьявола. Мало того, на лице обнаружился то ли прыщ, то ли шишка, то ли бородавка, непонятно что, просто какое-то вздутие, неровность кожи, и в небесном свете лампы еще глубже проступили две глубокие, ироничные, страдальческие борозды, идущие от крыльев носа к углам рта. Куда отчетливее, чем глаза (ведь слепой, незрячий глаз тоже смотрел, наполняя по меньшей мере половину геометрического пространства комнаты невидимыми муками), Инни вспоминались в полузабытьи той ночи эти две борозды, которые, подобно тонким веревочкам куклы-марионетки, играли в углах рта и то вздергивали их, то опускали, причем совершенно независимо друг от друга. Долгие годы Инни будет с успехом рассказывать эту историю, и неизменно с чувством вины перед покойником, которого тем самым предавал и который, в сущности, погиб именно от последствий этой истории.
– В Скалистые горы мне уже не вернуться, – сказал Арнолд Таадс. – Слишком стар, на работу не берут. Вот и езжу теперь каждый год в Швейцарские Альпы, в одну из тамошних уединенных долин. Тебе наверняка трудновато представить себе такое место, да я и не скажу, где оно находится, это мой секрет. Я снимаю заброшенную усадьбу, хозяева живут там только летом. Люди, в том числе и эти, изнежены, набалованы. Не могут, да и не хотят быть одни. Решительно отказываются бросить вызов зиме и одиночеству. Ведь после первого же снегопада эта долина полностью отрезана от мира. Разве что на лыжах доберешься.
– А как же с провиантом? – спросил Инни.
– Раз в две недели хожу в деревню. Мне много не надо. Для жизни человеку вообще требуется очень мало, только все об этом забыли. Как бы там ни было, в рюкзаке много не унесешь, идти-то шесть часов.
Инни покачал головой. Шесть часов!
– Не представляю себе! Расскажите! – попросил он.
Арнолд Таадс зажмурил один глаз, изобразив этакий непристойный, да еще и затяжной, прищур.
– Так! – сказал он. – Ну-ка, стань рядом. – (Впоследствии Инни сделает из этого свою знаменитую лыжную пантомиму.) – Вот мы идем, взбираемся в гору. Дует резкий восточный ветер, весьма неприятный. А на спине у тебя рюкзак. Тяжелый, с провиантом на две недели, и для пса тоже. Идти еще четыре часа. Смотри на меня.
Глаз был по-прежнему зажмурен.
– У тебя сейчас оба глаза открыты. А я вижу только одним глазом. Слепой сейчас закрыт. Так, теперь зажмурь правый глаз. Как ты понимаешь, это искажает перспективу и сужает нормальное поле зрения более чем на тридцать процентов, что в таком походе небезопасно. Попробуй.
Кусок правой половины комнаты как ножом отрезало.
– Если идти слишком быстро, всегда рискуешь не заметить камень, сук или еще какое препятствие.
– И что тогда?
Арнолд Таадс опять сел. Инни никак не мог себе представить, что вновь открытый теперь, блестящий глаз на самом деле был дырой, которая коверкала мир, и оттого левый глаз должен был напрягаться вдвойне, чтобы в снегу или на льду уберечь своего владельца от опасного для жизни падения.
– Тогда я могу упасть и сломать ногу. Теоретически, но могу.
Восточный ветер бушевал в комнате. Полуденное солнце, вспыхивая на глетчере, слепило его единственный глаз. Ни домов, ни людей. Мир, от веку неизменный, нетронутый. И в беспредельной белизне – маленькая фигурка, лыжи торчат крест-накрест, словно первые полешки лагерного костра. Нога неестественно вывернута, как у куклы.
– И что вы тогда будете делать? Замерзнет, конечно, подумал Инни, но в ответ услышал нечто совершенно неожиданное:
– Тогда я подам альпийский сигнал бедствия. – И хозяин без всякого предупреждения гаркнул «HILFE!» (На помощь! (нем.)), взмахнул рукой, устанавливая в комнате ту же зловещую тишину, что и где-то там, в роковой долине, затем молча, нос открытым ртом сосчитал до трех и опять крикнул «HILFE!», раз-два-три, «HILFE!». Лицо его побагровело, казалось, чудовищная сила этого крика вот-вот выдавит стеклянный глаз из орбиты.
Инни смотрел на искаженную, взывающую о помощи карнавальную маску. Никогда еще ему не приходилось видеть столь беззащитного лица. Он чувствовал стыд и жалость – стыд какой всегда будет испытывать от излишней откровенности других, и жалость к человеку, который уже долгие годы лежал со сломанной ногой в одинокой замерзшей долине и никому не мог об этом рассказать.
– Крикну так трижды, с паузой на три счета, а потом буду повторять, пока хватит сил. В горах звук разносится очень далеко.
– А если услышать некому?
– Тогда звук перестанет существовать. Только я буду слышать его. А предназначен он не для меня. Если звук не достигнет незнакомцев, для которых предназначен, он перестанет существовать. А вскоре и я тоже перестану существовать. Замерзну, окоченею, уже не смогу кричать, умру.
Пес, конечно, не мог понять этих слов, но решительный тон, осененный тенью грядущей беды, не замедлил на него подействовать. Он встал, тихонько заскулил и встряхнулся, будто сбрасывая что-то.
– Когда они пойдут искать меня, Атос уже будет мертв, – сказал Таадс. – И это беспокоит меня больше всего. Собственная моя смерть – учтенный риск, но хотелось бы найти способ уберечь Атоса от этого. Увы, такого способа нет.
Впервые Инни слышал, чтобы кто-то во всех подробностях рассказывал о собственной смерти, хотя наступит она лишь спустя годы.
10
Роскошь, а не богатство – вот самое подходящее слово для описания интерьера большой теткиной виллы. Старинные двухэтажные шкафы, мягкие диваны «честерфилд», картины Голландской школы, великолепное ренессансное распятие и слоновой кости, го словно закутали в теплое одеяло.
– Для меня загадка, как люди умудряются жить среди хлама прошлого, – сказал Таадс, когда они ненадолго остались вдвоем. – Все облеплено клочьями вчерашнего дня, все когда-то уже было красивым, для других. От антиквариата несет смрадом. Сотни давно истлевших глаз смотрели на эти вещи. Выдержать можно, только если ты сам изнутри тоже вроде лавки старьевщика.
Инни не ответил. Если это заслуживает презрения, тогда и с ним наверняка что-то не в порядке. Ему здешняя обстановка казалась необычайно уютной, и вместе с тем от нее веяло могуществом, а значит, обособленностью от внешнего мира.
– Тереза, нынче родится буржуа, – сказал Таадс, когда вошла тетка, – и ты стоишь у его колыбели. Взгляни, мордашка у твоего нового племянника чертовски довольная. Он узнает свою природную среду обитания. Нет, ты посмотри, с какой непринужденной естественностью он прямо на глазах становится Винитропом.
Арнолд Таадс обставил свое появление весьма впечатляюще. Однако в тот день Инни (даже формулируя мысленно, он находил, что звучит это преувеличенно) обнаружил – причем не на собственном примере, – что между людьми может существовать дистанция, выражающая столь страшную непохожесть, что тот, кто видит ее, едва не умирает от печали. Такие вещи знакомы каждому, хотя никто не знает их наперед. Прямоходящие особи одного вида, вдобавок пользующиеся одним и тем же языком, чтобы объяснить друг другу, что их разделяет неодолимая пропасть. Кофейный стол – Инни и это заметил – сервировал полный идиот. Три тарелочки, с которых надлежало есть – «дядя» еще не объявился, – терялись среди бесконечного множества блюд с мясными деликатесами. Боже мой, во что только не превращают убиенных животных! На саксонском фарфоре с синим узором целая выставка смерти – копченая, отварная, жареная, заливная, кроваво-красная, в черно-белую клетку, сочно-розовая, тускло-белая, с мраморными прожилками, прессованная, рубленая, нарезанная ломтиками. Никакому интернату такое и не снилось. Таадс, который в этом доме выглядел совсем маленьким, стоял за отведенным ему стулом, обозревая поле битвы. Проникавший сквозь гардины теплый солнечный свет золотил белые, желтые, мягкие, твердые, пронизанные синей плесенью сыры.
– Кофе у нас сервирован на брабантский манер, – провозгласила тетя, с надеждой глядя на Таадса. Ведь все это она выставила именно ради него. Таадс молчал. Единственный его глаз обшаривал стол, беспощадно, неумолимо. И наконец, точно удар бича, прозвучал приговор:
– Послушай, Тереза, а ветчины у тебя нет?
От этого удара тетя пошатнулась, кровь бросилась ей в лицо. Нетвердой походкой она вышла в коридор, откуда донесся долгий, глуховатый крик, который укатился наверх и исчез там за хлопнувшей дверью.
– Брабантский кофейный стол, – удовлетворенно изрек Таадс и сел. – Тошнотворное позднебургундское кривлянье. Богатые крестьяне-текстильщики до сих пор мнят себя наследниками бургундского двора. Это Нидерландская Бавария [18]18
В нидерландском Брабанте, как и в немецкой Баварии, преобладает католицизм.
[Закрыть], парень. Кальвинисту здесь не место.
– Я думал, вы тоже были католиком, – сказал Инни.
– Выше Великих рек [19]19
Великие реки – Рейн, Ваал и Айссел, пересекающие Нидерланды с востока на запад.
[Закрыть] в Нидерландах все кальвинисты. Мы не любим ни слишком обильного, ни слишком затяжного, ни слишком дорогого. А этим людям только волю дай – до трех часов проторчишь за столом.
В дверь тихонько постучали. Вошла горничная и поставила перед Таадсом тарелку ветчины.
– Угодно еще что-нибудь, сударь?
Девушка была высокая, тоненькая, с пышной грудью и подвижным актерским лицом, зеленые глаза с трудом прятали смех. Инни тотчас влюбился в нее. Позднее (о это отвратительное, глумливое «позднее», которое, похоже, распоряжалось всем, из чего складывается жизненный опыт как юридическая система) – позднее он так определит эти внезапные безрассудные влюбленности: «Физическое тут, по сути, ни при чем, от этого оно разве что скорее приобретает отчетливость. Просто вдруг осознаешь, интуитивно, мгновенно и твердо: она в порядке».
«В порядке?»
«Да. В ладу с собой. На такую, что не в ладу с собой, я нипочем не клюну. А вторая опора – в конце концов это же конструкция – то, что ты знаешь: для нее ты тоже привлекателен».
«Ага. И тогда, если все совпадет, если и время подходящее и место тоже, в вашей встрече присутствует логика».
Логика – от этого слова всякая влюбленность мигом улетучится. Но сейчас речь не об этом. Просто в том, что ты ложился с кем-то в постель, наверняка была железная логика. Ты знал, что это случится, ибо не случиться не может. Оставалось только просветить на сей счет и другого. Ввести в соблазн. Уверенность в исходе событий очень этому способствовала. Уверенность, а еще – до странности противоречивый аргумент, что постель тут совершенно ни при чем, и более отчетливо это проступало, когда тебе самому случалось оказаться в роли «другого». Главное – совпало все или нет. Но желание, жаркий трепет, необычайное, отчаянное ощущение, всегда одинаковое, то самое, какое он испытывал сейчас за столом, пока она шла, прямая как стрелка, единственный вопрос, полный восхитительных шипящих, беглый взгляд веселых зеленых глаз, что смеялись «над потешным старикашкой со стекляшкой заместо глаза и над тощим чудным парнишкой, который так и буровит тебя зенками», – вот именно это требовалось прежде всего. Лишь потом приходил «контроль», миссия почтительного служения женщине. Приятели объявляли Инни безумцем, когда подобные истории снова и снова гнали его на другой конец мира, заставляли следовать некой линии, некой идее, на которую кто-то однажды ненароком его навел и которую любой ценой надо было проверить. Вправду ли все так или нет? Вправду ли там, возле этого «другого», есть возможность жить именно так, и, если он эту возможность выберет, она сбудется? Вот в чем дело. Отыскать именно это – вот миссия любви, но не объяснишь!
«А если в конце концов ничего не выходит?
Да-а, ясно одно: никто тут ничегошеньки не понимал, кроме самих женщин. А тогда все выходило.
11
Тетя больше не появилась, а беспощадные часы Таадса действовали и тут. Между тремя и четырьмя ему непременно полагалось вздремнуть – где бы он ни был, хоть на Новой Земле. Инни бесцельно бродил по дому и после долгих колебаний все-таки открыл кухонную дверь.
Служанка сидела за большим столом, чистила серебро.
– Привет, – сказал Инни.
Девушка не ответила, но засмеялась, надо надеяться, просто так, а не над ним.
– Как тебя звать-то? – спросила она.
– Инни.
Она прыснула. Груди затряслись, а он совсем изнемог от желания. Стал рядом, положил руку на ее волосы.
Она хихикнула, но сидела спокойно, а потом вдруг схватила большую начищенную ложку и протянула ему, выпуклой стороной вперед. Все, что он ненавидел в своем лице, вдвое увеличилось, растянулось, проступило ярче.
– Меня Петрой звать, – сказала она.
На этой скале, на этой гладкой, округлой скале, думал Инни позднее, он воздвиг свой храм. Ведь нет ни малейшего сомнения, что в этот день женщины стали его религией, центром, сутью всего, огромной осью, вокруг которой вращался весь мир.
– А знак у тебя какой?
– Лев. – И прежде, чем она успела что-то сказать, он поспешно добавил:
– Моя цифра – один, металл – золото, звезда – Солнце. А призвание – король или банкир.
– Ой-ой! – Она положила его руку на стол, к серебру. – Хочешь, покажу тебе Гойрле?
В шуме и суете субботнего полудня они шли по деревне. Все здоровались с нею и с любопытством косились на него.
– Куда мы идем?
– В лес. Только ты тете своей не скажешь, ладно?
В лесу было прохладно и тихо. Они одновременно потянулись друг к другу и, взявшись за руки, пошли дальше под сенью высоких деревьев. Такой естественной простоты не будет больше никогда. Листва, деревья, высоко поднятые занавеси таинственного света в полумраке – все было с ними заодно. Они легли, и он целовал ее грудь, ее волосы, а она прижимала его к себе, крепко-крепко, и ласкала его затылок. Голос девушки совсем близко, у самого Иннина лица, рассказывал историю ее жизни. Родители еще живы, она окончила школу домоводства, у нее восемь братишек и сестренок, но на фабрику она не пошла, предпочла работать у его тети, а жених у нее служит добровольцем в Корее, через две недели он приезжает, и тогда они поженятся. Потом она повернулась – не девушка, а облако беспредельной нежности. Инни не мог видеть, что она делает, но почувствовал на животе прохладу пальцев, а после прохладу губ вперемежку с легкими, теплыми прикосновениями языка. Он приподнял голову, чтобы посмотреть на нее. Она полулежала на нем. Лица не видно, только густые темные волосы. Правая рука, та самая, что час назад поставила перед Арнолдом Таадсом тарелку с ветчиной, вцепилась в мох и тихонько шуршащие мертвые листья бука. И впервые его захлестнула буря чувств, кипевшая любовью, желанием, душевным волнением, – буря, которой отныне он будет искать всегда. Голова девушки легонько двигалась. Она будто пила из него, как из источника, а затем все чувства, все мысли исчезли, Инни видел только черные волосы и сильную руку во мху, совершенно обособленную, – а мгновенье спустя излил себя ей в рот, и внезапно куснул ее, и, как она потом сказала, «сделал больно».
Некоторое время они лежали рядом. Затем девушка подняла голову и, все так же опираясь на руку, чуть повернулась, чтобы видеть его. В зеленых глазах еще поблескивала насмешка, но смешанная теперь с торжеством и нежностью. Она улыбнулась, приоткрыла рот – он увидел у нее на языке свое белое семя, – потом широко распахнула глаза, как девчонка, изображающая кинозвезду, и сглотнула. Потом повернулась еще, накрыла его собой, поцеловала в губы и сказала:
– Ну, пошли.
На обратном пути оба молчали. Возле первых деревенских домов она попросила, чтобы он немного задержался и пришел домой после нее. Прислонясь к ограде, он провожал девушку взглядом: она медленно и плавно шла прочь от него и ни разу не оглянулась. Когда он вернулся, ее нигде не было видно.
12
Обед оказался катастрофой еще похуже ленча. Дядя, который до тех пор существовал лишь в виде имени, теперь облекся плотью и восседал во главе стола, вдрызг пьяный. Таадс неодобрительно поглядывал на множество хрустальных бокалов возле своей тарелки, а тетя пребывала в таком возбуждении, что у Инни мелькнула мысль: этого вечера ей не выдержать. Четвертого сотрапезника дядя именовал «досточтимый дядюшка». Он был в фиолетовой пелерине, в сутане с фиолетовыми пуговицами и в фиолетовой же камилавке. Монсеньор Террюве, тайный папский камергер, сказала тетя, но Инни толком не представлял себе, что это такое. Лицо у прелата было длинное, необычайно белое, с глазами мутного, илистого цвета. Он профессорствовал в римском институте богословия. Во время обеденной молитвы, которую монсеньор Террюве прочитал медленно и картаво, Инни обратил внимание, что на Таадса, не осенившего себя крестным знамением, он смотрел как на диковинную рептилию.
Сначала подали холодный телячий язык под зеленым соусом. Тетя позвонила в колокольчик. У Инни забилось сердце. Вошла горничная. Походка ее чем-то напоминала танец, и Инни заметил, что священник глаз с нее не сводит. Когда она наклонилась, разливая по бокалам вино, оба увидели начало ее груди. Взгляды их встретились, и священник тотчас потупился. Инни надеялся, что она посмотрит на него, что вот сейчас зеленый луч ее взора скользнет по нему, как подтверждение случившегося днем, когда он, и никто другой, ласкал укрытую теперь грудь, на которую илистые глаза пялились с такой жадностью. Но ничего не произошло. Ему она налила вина в последнюю очередь, та же маленькая сильная рука крепко держала бутылку «Мерсо». Золотистое вино струилось в бокал.
– За нашего вновь обретенного племянничка, – провозгласил дядя.
Они подняли бокалы и выпили, странная компания плотных призраков, с которыми у него вдруг обнаружилась какая-то связь.
– Вы покинули лоно католической церкви, господин Таадс? – спросил камергер.
Арнолд Таадс пристально посмотрел на него и в конце концов изрек:
– Лучше нам не заводить дискуссии. То, что я имею сказать по этому поводу, оскорбит ваши уши.
– Мои уши всего лишь уши человека. Но вы можете оскорбить уши Господа.
Таадс не ответил. Инни попытался вообразить себе уши Господа. Кто его знает, может, Бог и вправду всего лишь ухо, исполинское мраморное ухо, парящее в пространстве. Но Бога нет. Вот папа точно есть, и этот чудной, похожий на птицу господин – его тайный камергер. Любопытно бы выяснить, что это такое. Но раз он сам по себе тайный, вряд ли кто-нибудь это знает. Наверно, он возглавляет тайную камеру. Тайную палату в Ватикане, где обретается тоже смахивающий на птицу Пий XII, к которому вхож этот человек,
– белая цапля и серая ворона. Что они там обсуждают? Таинственно шепчутся по-итальянски, но о чем? А может, он духовник папы. Но разве папа способен согрешить? Инни вспомнились собственные высиживания в кислой вони бесконечных исповедален, перешептывания, нечистый мужской запах, в котором плавали слова «безнравственность», «раскаяние», «прощение», и собственный голос в тошнотворной конфиденциальности деревянной клетки – «один или с другими», «шестая заповедь», «покаяние».
– Простите мое любопытство, господин Таадс.
Инни увидел, как единственный глаз лыжного чемпиона прищурился.
– Я вам все прощаю, – ответил Таадс, – но даже если б я веровал в Бога, я бы все равно вышел из вашей церкви. От того, что основано на страдании и смерти, ждать добра не приходится.
– Вы имеете в виду искупительную жертву Сына Божия?
– Коммунисты так и норовят взять нас в осаду, – изрек дядя. – Коли придут, первым делом за нас примутся.
Арнолд Таадс задумался.
– Монсеньор, – сказал он, сделав после «мон» паузу, отчего полная сила титула на миг словно бы ореолом окутала фигуру прелата, – Бога нет, а стало быть, нет и сына. Все религии – превратный ответ на один и тот же первозданный вопрос: зачем мы на земле?
– Мы на земле затем, чтобы служить Господу и таким образом попасть на небеса, – объявил дядя, словно его кто-то включил нажатием кнопки.
Пышная грудь снова появилась в комнате, подала бульон, налила в маленькие рюмочки серсиаль.
– Как я понимаю, вы – профессор богословия, – продолжал Таадс, – а стало быть, разговор у нас совершенно детский. Вы просто переполнены догматизмом, схоластикой, вам известны и доказательства существования Бога, и аргументы в пользу обратного, вы целую систему выстроили на устрашающем символе креста, ваша религия до сих пор живет этим садомазохистским действом, которое, скорей всего, одно только и совершилось по-настоящему. Благодаря милитаристской структуре Римской империи эти диковинные измышления, смесь языческого идолопоклонства и благих Намерений, обрели возможность существования, западный экспансионизм и колониализм обеспечили им широкое распространение, а Церковь, которую вы вдобавок зовете матерью, не раз была убийцей, нередко палачом и всегда тираном.
– А у вас есть ответ получше?
– Нет у меня ответа.
– Что вы думаете о мистиках?
– Мистика вообще не имеет отношения к религиям. У официальных церквей мистики, пожалуй, всегда были под подозрением. Для человека это редкостная возможность уйти в себя. Если когда-нибудь все религии исчезнут, мистики так или иначе останутся. Мистика – способность души, а не системы. Вам приходило в голову, что Ничто отнюдь не мистическое понятие?
– Значит, вы верите в Ничто.
Таадс застонал.
– В Ничто верить нельзя. На отсутствии всего никакой системы не выстроишь.
– Отсутствие всего… – Камергер будто попробовал эти два слова на вкус. И неожиданно взмахнул рукой. – Это реально, вы согласны?
– Ну, в общем, да.
– Значит, тут отсутствия не наблюдается. Допустим теперь, что эта тарелка —. мир, а стало быть, в нем тоже все на месте.
– В один прекрасный день, – сказал Таадс, – не будет ни вас, ни меня, ни вашей руки, ни этой тарелки, ни бутылки «От-брион», ни всего остального мира. Даже нашей смерти и смерти любого другого не будет, а значит, не будет и никакой памяти. Тогда получится, что нас вовсе не было. Вот что я имею в виду.
– И вы способны с этим жить.
– Об этом у нас речи не было. – Впервые за весь день Инни увидел, как Таадс смеется. Словно бы даже лицом посветлел. – Отлично живу. Не всегда, но большей частью. Камни, растения, звезды – все живет с этим. Я… э-э… собрат всего сущего, да и вы, впрочем, тоже.
– Простите?
– И я, и все мы – собратья мироздания. Если исходить из того, что человеческие мерки совершенно ничего не значат и что на деле нет ни большого, ни малого, то у всех у нас, людей и вещей, одна судьба. У нас есть начало, есть конец, а в промежутке мы существуем – и мироздание, и какая-нибудь герань. Мироздание просуществует несколько дольше, чем вы, но эта крохотная разница, по сути, не проводит между вами настоящего различия.
– А смерть?
– Понятия не имею, что это такое. А вы? В эту самую минуту обед принял весьма своеобразный оборот. Тетя разрыдалась. Трудно сказать, слова ли Таадса довели ее до слез, но последствия не заставили себя ждать. В тишине, нарушаемой громкими всхлипываниями, прогремел командирский голос Арнолда Таадса:
– Тереза, не притворяйся!
Рыдания мало-помалу сменились жалобным хныканьем, в котором, приложив чуточку усилий, можно было расслышать: «никогда меня не любил». Как бы со стороны, словно находился не за столом, рядом с другими, а висел где-то бесконечно высоко и далеко под потолком, Инни увидел, как вошла Петра, обняла тетю за плечи и точно слабоумного ребенка увела из комнаты. Дядя тотчас встал. Огромная фигура, пошатываясь, направилась к Таадсу. Патрицианский затылок под сединами приобрел кирпично-красный оттенок. Монсеньор Террюве тоже поднялся и двинулся по маршруту, пролегающему между дядей и Таадсом. Удар, предназначенный Таадсу, со всей силы угодил в белое лицо прелата, но, поскольку кулак достиг цели слишком быстро, дядя потерял равновесие. Продолжая свой нелепый размах, он задел горку с розовым сервизом и рухнул на пол, среди брызнувших дождем осколков стекла и фарфора.
– Bien fait (Здорово (фр.)), – сказал Таадс. Вместе с Террюве, который великолепно выдержал родственную зуботычину, они подняли дядю с ковра и усадили в кресло.
За столом, возле которого они теперь сидели втроем, стало пустовато. Петра молча, хотя на ее подвижном актерском лице читалось едва обузданное веселье, убрала жаркое, а немного погодя принесла огромное блюдо с сырами и таинственно искрящийся графин.
–Господин Таадс, – сказал священник, – на этой бренной земле мы с вами мало в чем согласны, но против этого вы наверняка возражать не станете: пусть мой племянник нальет нам по доброй рюмочке портвейна.
Они кивнули друг другу и выпили. Инни почувствовал, как в рот проник глубокий, незнакомый вкус, соблазнительный и загадочный.
– Подумать только, – вновь начал Террюве, – когда гроздья этого винограда зрели в винограднике на жарком солнце, Чемберлен еще и в Мюнхен не ездил.
Никто не отозвался. Прелат закрыл глаза, внимая неслышным голосам. А когда опять заговорил, голос у него был другой, будто обращался он уже не к Таадсу и не к Инни, но к пастве, которая не иначе как пряталась за травянисто-зеленой шелковой шторой.