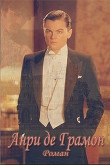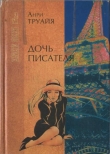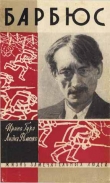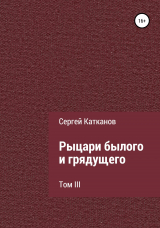
Текст книги "Рыцари былого и грядущего. III том"
Автор книги: Сергей Катканов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
По Арагону сохранились 32 протокола и ни одного признательного показания, хотя в августе 1311 года пытка была применена по крайней мере к 8-ми тамплиерам. Арагонские храмовники уж точно не были виновны в отречении от Христа. Утверждать обратное не только глупо, но и бессовестно.
В Кастилии, Леоне, Португалии расследования так же проводились. И ни одно из расследований не обнаружило за Орденом Храма ни какой вины, там Орден был полностью оправдан.
В Германии и арестовать-то удалось не многих тамплиеров, германские храмовники поставили себя очень жестко. Говорят, что какие-то признания были, но во всяком случае Бурхард, архиепископ Магдебурга, вынес тамплиерам оправдательный приговор.
В Северной Италии допросили более 20-ти тамплиеров и ни один из них не дал признательных показаний. Папа Климент был возмущен и приказал сжечь тех, кто упорствует в своих еретических заблуждениях, но этот приказ не выполнили и ни одного тамплиера в Италии не сожгли. Равенский собор, состоявшийся в январе 1311 года, напутствовал своих делегатов на Вьенский собор словами: «Орден не следует распускать».
А вот в папской области из 8-ми допрошенных тамплиеров 7 дали признательные показания. Странно, не правда ли? Там из 20-ти не сознался ни один, а тут из восьми сознались семь. Из этого, кажется, следует, что количество признательных показаний зависело не от степени виновности тамплиеров, а от степени усердия следователей.
Венгерские тамплиеры в течение всего процесса пользовались прежним уважением и почетным положением. После папской буллы 1312 года их направили в монастырь под Загребом, где часть владений Ордена обеспечивали их нормальное существование, то есть репрессий не было вообще и признаний тоже не было.
Количество тамплиеров во всех странах, кроме Франции, было, вероятно, до тысячи человек. В пиренейских государствах подразделения Ордена могли быть достаточно крупными, потому что там они вели непрерывную войну в маврами, но их крупные подразделения – это сотни, а не тысячи человек. Орден был не столь велик, на всю Европу максимум 4 тысячи человек, впрочем, сейчас речь не об этом. Все не французские тамплиеры вместе взятые дали столь ничтожное количество признаний, что ими вообще можно пренебречь. Но нельзя пренебречь тем фактом, что в целом ряде европейских стран Орден был полностью оправдан. На этом фоне признания какой-то сотни французских тамплиеров меркнут и кажутся случайными.
– Итак, – выдохнул Сиверцев, – мы обобщили всё, что свидетельствует в пользу невиновности Ордена. Давай теперь обобщим всё, что заставляет усомниться в невиновности тамплиеров.
– Как ни странно, в пользу виновности тамплиеров, на мой взгляд, говорит сам факт доноса. Напомню, что некий Эскьен де Флуарайн около 1300 года поделился с королем Арагона Иаковом секретами, которые он, дескать, выведал у тамплиеров, а именно, что они отрекались от Христа во время вступления в Орден. Эскьен играл роль осведомителя то при арагонском короле, то при французском. Король Иаков лишь посмеялся над этим его сообщением, тогда Эскьен решил попытать счастья в Париже, где предложил эту информацию Гийому де Ногаре. Зная характер Ногаре, нетрудно понять, что его эта информация чрезвычайно заинтересовала, а дальше – пошло-поехало.
– А разве Эскьен де Флуарайн не мог быть клеветником?
– Не мог. Он мог быть наиподлейшим подлецом, но он был профессиональным осведомителем, торговцем информацией, а такие люди ни когда не пытаются торговать собственными выдумками, потому что это сводило бы на нет их профессию. Суть этой профессии в том, чтобы что-то выведать и продать, а что-то выдумать и продать, это уже не осведомитель, а трубадур. Пару раз продашь выдумку, и уже надо менять ремесло, потому что вымысел ни чем не будет подтвержден. И бегать от монарха к монарху, пытаясь впарить выдумку, это всё же как-то нелепо. Тогда бы уж можно было и про госпитальеров, и про цистерианцев, и про всех на свете что-нибудь насочинять. Много ли смысла носиться по Европе с одной – единственной выдумкой, когда их можно предложить дюжину на выбор? Эскьен мог сильно приукрасить факты, ставшие ему известными, мог что-то от себя добавить, но в основе его доноса явно лежала реально полученная им информация.
– Информация, возможно, подвергшаяся очень сильным искажениям.
– Это не только возможно, но даже и вероятнее всего. Вообще, трудно сказать, что за гадость стала известна Флуарайну, но это была гадость, вне всякого сомнения.
– Допустим. А ещё?
– Раймон Урсель писал: «Уж слишком многочисленными, слишком согласованными по сути, слишком точными и детальными воспоминаниями кажутся эти признания. Нельзя поверить, что обвинения, выдвинутые против тамплиеров, не имеют какой-то основы». Вот это уже серьезно. Ложь всегда различима по ряду признаков, первейший из которых – отсутствие деталей, а в признаниях тамплиеров деталей очень много.
– А вот, ты знаешь, бывают такие вруны, которые едва лишь соврут что-нибудь, как тут же сочиняют целую поэму, расцвечивая свой вымысел невероятным количеством самых причудливых подробностей. Вспомни хоть Хлестакова.
– Это бывает, но крайне редко, это патология, а тут мы имеем больше сотни признаний и во всех – самые разнообразные детали. Не бывает столько «хлестаковых» сразу в одном месте. Вот, к примеру, Жан Тайлафер вспоминает, как тамплиеры принуждали его отречься от Христа: «Ему угрожали тюремным заключением, говоря, что если он этого не сделает, его поместят в такую темницу, где он своих ног и рук не разглядит». Вот вспоминает английский тамплиер – священник Джон Стоук: «Де Моле потребовал, чтобы Джон отрекся от Христа, а когда тот стал колебаться, пригрозил, что бросит его в тюрьму. Двое присутствовавших при этом тамплиеров обнажили мечи». А вот говорит Жоффруа де Шарне: «Брат Амори де Ла Рош сказал мне, что я не должен верить в того, чей образ изображен на распятии, так как это был лжепророк, и он не был Богом».
Это лишь примеры, деталей можно привести очень много, они весьма разнообразны и редко повторяются, что доказывает их подлинность. При этом совершенно невозможно заподозрить такое большое количество бесхитростных рубак в склонности к устному художественному творчеству.
Наиболее убедительно выглядят такие признаний, которые ни как не могли быть продиктованы инквизиторами, потому что не очень-то были им выгодны. Многие тамплиеры рассказывали, что их сначала принуждали отречься от Христа, а потом заставляли в этом исповедаться.
Когда один тамплиер стал протестовать против отречения, которого от него требовали, его совесть заставили замолчать, сказав ему: «Перестаньте, бестолковый, вы потом расскажете об этом на исповеди».
Тамплиер Жан де Пон-л'Эвек говорил, что в качестве наказания за отречение его исповедник-францисканец повелел ему поститься по пятницам и запретил целый год снимать рубашку. Епитимья, конечно, смехотворная, потому что устав и так это предписывал. Очевидно, неловко было сурово наказывать за то, к чему сами же и принуждали, но это всё – таки епитимья, а её накладывают за грех.
Жану де л'Омону, сержанту парижской епархии, наставник просто сказал, после того, как он плюнул рядом с крестом: «Кретин, иди теперь исповедаться!»
Эти признания дышат максимальной подлинностью, потому что даже законченный параноик не смог бы выдумать такую ни с чем не сообразную и ни на что не похожую практику. Инквизиторы тоже не могли этого придумать, потому что с них требовали обличение богоотступничества Ордена, а показания о том, что тамплиеры каялись в отречении, разрушали стройную картину богоотступничества. Такие признания могли быть сделаны лишь по одной причине – это была правда, и записана эта правда могла быть лишь из соображений добросовестного ведения дела.
– А ведь, к слову сказать, эти признания еще раз доказывают, что в Ордене не было ни какой ереси, если отречение от Христа считалось грехом, в котором теперь надо покаяться на исповеди. Нелепо было бы вступить в тайное братство катаров, за что наставник-катар называет тебя кретином и посылает каяться в том, что ты выполнил его распоряжение. Поэтому приходиться окончательно признать ошибочным вывод Ги Фо: «отречение от Христа и плевание на распятие должны были означать тайное принятие веры или идеала, отличных от христианства». Это ложь. Ни какой «ереси тамплиеров» не существовало.
– Это так, хотя мы сейчас не об этом. Сейчас нам важно, что эти признания доказывают: отречение от Христа в Ордене действительно практиковалось.
–Но как без ереси объяснить отречение?
– Это возможно, и к этому мы ещё вернемся. Пока нами установлено: факт ереси и факт отречения надо рассматривать как два отдельных факта. Факт ереси мы опровергли и забыли про него. Теперь говорим об отречении. Так вот, кроме сказанного, в деле есть признания, которые я никогда не соглашусь считать вымыслом.
Тамплиер Бертран Гаек рассказал о том, что вступил в Орден оставшись без денег во время паломничества в Святую Землю. После обычного приема в Орден в Сидоне приор велел ему отречься от Христа, а когда Бертран отказался, пригрозил убить его. И тут вдруг прозвучал сигнал: «К оружию!», на них напали сарацины. Приор, трое присутствовавших на церемонии братьев и сам Бертран, бросились на защиту христианской веры, перебив при этом десятка два сарацин. Однако, до того, как они выбежали из часовни, Бертрана успели заставить поклясться, что он ни кому не расскажет о требовании отречься от Господа. После боя он спросил, зачем всё это было устроено и приор сказал, что его просто испытывали, и это всего лишь шутка.
– К слову сказать, испытание и шутка – не одно и тоже.
– Вот-вот. Иначе говоря, Бертрану было дано невнятное, путанное объяснение, а если бы он это выдумал, всё выглядело бы очень стройно. Он не мог бы выдумать эту историю, чтобы доставить удовольствие инквизиторам, потому что последних такое признание вряд ли порадовало. Ведь тут отречение от Христа выглядит чем-то необязательным, без чего можно обойтись, и даже более того – отказавшийся отречься, был принят в Орден. Это признание опровергает главное утверждение инквизиции: все тамплиеры отрекались от Христа, так что уж точно не инквизиторы придумали эту историю. Кроме того, рассказ Бертрана совершенно не вписывается в шаблон признаний. Сознавшись под пыткой или из страха, совершено ни к чему было городить такой сложный огород. Сказал то, что говорят все и от тебя отвязались. Не знаешь, в чём сознаются остальные, так спроси у дознавателя. И дознаватель предложил бы шаблон, а уж ни как не эту «поэму о паломнике».
– Но, если принять признание Бертрана за истину, оно значительно уменьшает, смягчает вину Ордена.
– Совершенно верно. Но именно это докладывает, что вина, пусть и гораздо меньшая, всё-таки была. Ведь очевидно, что Бертран не был клеветником, потому что клеветник постарался бы не преуменьшить, а преувеличить вину Ордена.
– А среди показаний людей, не принадлежащих к Ордену, есть что-нибудь заслуживающее доверия?
– Как ни странно, во Франции «внешних» показаний против Ордена почти не было. Это лишний раз доказывает, что следствие не увлекалось клеветническими измышлениями. Ведь Ногаре ни чего не стоило пригласить дюжину мерзавцев, которые выдумали бы про тамплиеров самые страшные вещи и подтвердили бы, что лично присутствовали при тамплиерских богохульствах. Но к заведомой лжи следствие не прибегало, хотя с удовольствием использовало даже малейшие намеки на виновность тамплиеров. Есть одно показание, косвенно свидетельствующее против Ордена, по всем признакам – вполне достоверное.
Родственник некого рыцаря Гуго, Гишар де Марсийяк, рассказал, что Гуго вступил в Орден Храма в Тулузе. После торжественной церемонии Гуго отвели в глухую комнату, приняв самые изощренные меры, чтобы ни кто не подглядывал, даже дверь изнутри была закрыта плотными занавесами, чтобы любопытные ни чего не могли увидеть в щели. Родственники очень долго ждали возвращения Гуго, и наконец он появился, облаченный в плащ тамплиера и выглядевший очень бледным и ошеломленным, хотя до этого был полон радостного воодушевления. На следующий день Гишар спросил Гуго, что случилось, и тот ответил, что ни когда больше не знать ему радости и душевного покоя, но более ничего не добавил. Когда же другие по просьбе Гишара пытались расспросить юношу, это ни чего не дало и лишь растревожило его. Позднее узнали, что Гуго сделал себе круглую печать, на которой были вырезаны слова: «Печать погибшего Гуго». Пробыв в Ордене два месяца, Гуго вернулся в родной дом, прожил там полгода, а потом заболел и умер, перед смертью исповедавшись у одного францисканца.
– Что-то уж очень зловещая история, прямо как в готическом романе. Ты веришь в ее подлинность?
– Верю. Главным доказательством подлинности этого свидетельства является то, что оно ни чего по существу не доказывает. Если бы Гишар имел целью оклеветать Орден, он обязательно рассказал бы, как Гуго перед смертью сознался ему, что отрекся от Христа, плюнул на крест и проделал еще множество всяческих мерзостей. На мертвого ведь можно что угодно списать. Но Гишар не сказал того, чего не знал, того что явно хотели услышать от него инквизиторы. Самое простое тому объяснение – он не хотел врать. А значит, ему можно верить. При этом самым логичным объяснением истории Гуго является то, что он совершил нечто богомерзкое и не мог себе это простить. Если он отрекся от Христа просто растерявшись от неожиданности, позволил себя подломить жесткими требованиями и угрозами, а потом решил, что навсегда погубил свою душу – это всё объясняет.
Итак, если нас действительно интересует истина, мы не можем игнорировать целый комплекс доказательств того, что тамплиеры отрекались от Христа. При этом ранее мы привели не менее убедительные доказательства того, что Орден Храма отнюдь не был антихристианской организацией, и тамплиеры вели себя так, как ни когда не ведут себя христопродавцы и богоотступники. Возможно ли все эти, казалось бы, взаимоисключающие доказательства уложить в единую непротиворечивую схему? Возможно. Я знаю, как это сделать. Но об этом давай уже в следующий раз.
***
На следующий день Андрей, заглянув к Сереге, сказал тоном, не терпящим возражений:
– Пошли наверх. Покажу тебе храмы Лалибелы.
Серега подчинился безропотно, не сказав ни слова.
Они переходили из храма в храм, Андрей рассказывал другу то, что сам знал об этих чудных творениях христианского гения. Гидом он, впрочем, был немногословным, понимая, что сейчас не надо забивать Сереге голову большим объемом информации, лучше дать ему возможность развеяться и впитать дух окружавшего их древнего величия. Серега слушал, казалось, внимательно, во всяком случае вежливо, когда надо – кивал, впрочем, иногда не к месту. Он добросовестно скользил глазами по всему, что видел, явно стараясь не упустить ни одной детали, но Андрею показалось, что его друг делает это скорее из чувства долга, без глубокой внутренней заинтересованности, какой можно было ожидать от профессионального историка.
– Тебе не понравились наши храмы? – тихо улыбнувшись, спросил Андрей.
– Как они могут не понравиться? Я так мечтал побывать здесь. Но объясни мне, Андрей, почему мне сейчас – всё равно?
– Объясню. Это внешнее величие. Оно сейчас не может тронуть тебя, потому что ты весь сконцентрирован на внутреннем преодолении той трагедии, которую пережил. Тебе пока не надо пытаться отвлечься от этой трагедии на внешние впечатления, лучше оставаться внутри себя, пока в своей душе порядок не наведешь. Извини, что сразу не понял этого. Перевари пока свою внутреннюю Чечню, а потом душа откроется для внешних впечатлений.
– А ведь ты прав, Андрюха.
– А я вообще, чем дальше, тем реже ошибаюсь. Расскажи лучше, что делал «Пересвет» в Чечне.
– В саму войну мы по сути не вмешивались, федералов не поддерживали и вообще старались с ними не пересекаться. Уберечь от разрушения православные храмы тоже не могли при всем желании. Для этого потребовалось бы не меньше дивизии. Даже если бы «Пересвет» был могуч, как Орден Храма в Палестине, и то вряд ли справились бы, потому что Орден Храма действовал в рамках христианского по самой своей природе государства крестоносцев, а мы действовали… посреди полного дерьма. Так что задачи ставили перед собой минимальные, хотя, на мой взгляд, достаточно важные. Спасали священников и всех верных христиан, помогали им эвакуироваться. Из храмов, которые было всё равно не спасти, спасали иконы, кресты, евангелия, антиминсы. Много святынь смогли уберечь от осквернения. А запасные Дары… это ведь очень важно… В каждом храме есть запасные Дары – Тело и Кровь Христовы. Их спасали, не считаясь с собственной жизнью. Конечно «Бог поругаем не бывает». Поругаемы бывают души людские. Собственно, души и спасали от осквернения.
– А как Ставрова ранили?
– Это было наше последнее дело в Чечне. Пришли в один храм, объяснили батюшке, что скоро здесь будут боевики, надо уходить. А батюшка упертый попался: «Не уйду, – говорит, – здесь в храме и погибну». Прихожане, конечно, уже все разбежались, остались только пара старичков, дед да бабка, да ещё их внучка – девчонка лет пятнадцати. Старички древние, еле ходили, но посещали все богослужения, а батюшка служил неукоснительно, и внучка тоже из храма не вылезала. Мы им говорим: «Девчонку хоть пожалейте, сами понимаете…» А они: «Вот-вот, спасите внучку, а нас не надо». Но и внучка тоже… лицо светится и спокойно так говорит: «Мы все умрем за Христа».
Мы подумали и решили, что оставить их не можем. Заняли позиции вокруг храма, понимая что вдесятером долго не удержимся против нескольких сот боевиков. Но погибнуть, защищая храм – хорошая смерть для русского тамплиера. И, может быть, Богу угодно, чтобы в этом храме как можно дольше совершалась Божественная Литургия.
Мы сразу начали соблюдать строгий пост, батюшка ежедневно совершал литургию, и все мы ежедневно причащались. Удивительное это ощущение, когда знаешь, что в любую минуту могут придти, чтобы отнять у тебя жизнь, а ты, только что причастился… На душе – спокойствие, а все чувства обострены – краски яркие, звуки гулкие, каждое слово кажется исполненным величайшего значения. Меж собой говорили мало, больше с Богом беседовали. Так прошла неделя. Потом пришли боевики. Их было гораздо меньше, чем можно было ожидать, где-то человек тридцать.
Стояло раннее утро, батюшка только что начал служить Божественную Литургию. Когда дозорные доложили о приближении боевиков, наши все покинули храм и заняли заранее подготовленные позиции. А батюшка продолжал служить, и старики с внучкой даже не шелохнулись, продолжали молиться.
Ставров вышел к боевикам один и спокойно, твердо сказал: «Воины, во имя Аллаха, милостивого, милосердного, прошу вас не препятствовать Богослужению. В храме славят Творца вселенной, отнеситесь к этому с уважением». Мы знали немало чечен, на которых эти слова могли возыметь должное действие, но к нам пришли другие чечены. Подонки, ни когда не державшие в руках Корана, но ненависть к христианству считающие национальной традицией. Ставрова могли сразу же прошить автоматной очередью, но вместо этого решили ударить прикладом по лицу. Он увернулся и сразу же в ответ ударил кинжалом. Мы тут же поддержали его с флангов. Схватка неожиданно стала рукопашной, так ни одного выстрела и не прозвучало. Кто орудовал автоматом с примкнутым штык-ножем, а кто длинным кинжалом.
Схватку я почти не помню, сознание как-то сразу отключилось. Запомнил лишь несколько искаженных лиц боевиков и звуки Божественной Литургии, доносившиеся из храма. Точно могу сказать, что ненависти я тогда не испытывал. Какая ненависть, если Литургия? Только все время шептал: «Господи, помилуй нас всех».
В какой-то момент я не увидел перед собой очередного врага. Осмотрелся и вижу: на ногах только наши, а боевики полегли все до единого. До сих пор не могу понять, как мы вдесятером смогли уложить три десятка бандитов. Они были покрепче нас и боевого опыта у них, конечно, было побольше. Но Бог был с нами, а с ними – только ненависть.
Наших погибло двое. Ставров был весь изранен до того, что живого места на нем не было, потом мы насчитали у него 34 проникающих ранения, но удивительное дело – ни один жизненно важный орган не был задет. Остальные ребята – лишь легко ранены, впрочем – все до единого. У боевиков – двое тяжело раненых, остальные – мертвы. Мы не хотели этого, наша задача была только отразить нападение, да и на это не надеялись, просто решили умереть. Но Божья воля была иная.
Наспех перевязались, зашли в храм. Батюшка как раз «Отче наш» читает. Божественная Литургия завершена. Ты представляешь, наш бой позволил завершить Литургию.
– В Святую Софию Константинополя турки ворвались во время Божественной Литургии, ни кто не мог задержать их у храма, – задумчиво вспомнил Сиверцев. – Говорят, что священник с чашей ушел прямо в толщу стены, где и доныне пребывает, а в последние времена он выйдет из стены и дослужит Литургию.
– Да… А в нашем храме стены были тонкие, а батюшка – мужчина весьма крупный, ни как бы ему внутри стены не поместиться. И Бог дал завершить Литургию. Её нельзя не завершить, это вообще невозможно, ты понимаешь, Андрюха?
– Понимаю. Существование мира только тем и оправдано, что в мире совершают Божественную Литургию. А чем там у вас дело закончилось?
– Батюшке сказали, что теперь точно надо уходить, он уже не спорил. И старики с внучкой тоже согласились на эвакуацию. Мученический венец – дар Божий. Если Бог тогда сохранил нам жизнь, значит ни кто из нас уже не имел права проситься на крест. Отпели и похоронили наших ребят, закопали боевиков, а двум раненым чеченам оказали помощь и тоже взяли с собой, позднее оставили их недалеко от чеченской деревни.
– Может быть, они примут христианство?
– Как знать. Всю дорогу молчали, и в глазах у них ни чего не читалось, кроме страха. Сначала ненависть, потом страх, а что потом? Есть варианты.
– То что ты рассказал, Серега… Это то, ради чего стоит жить. Тебе не приходило в голову, что те дни перед боем были лучшими в твоей жизни? Ты опирайся душой на те дни, и твоя душа обязательно выберется на твердую почву.
– Спаси тебя Бог, Андрей.
– А мы с тобой говорили, что в Чеченской войне ни чего не поймешь. Что хочет Ельцин с Черномырдиным, куда гнут Дудаев с Масхадовым? Где Березовский, где ЦРУ, где ваххабиты? Зачем лилась кровь, куда текла нефть? Действительно, картину Чеченской войны, наверное, ни когда не возможно будет восстановить в деталях. Но икона Чеченской войны ясна, как любая икона. Духи злобы ополчились на Правду Христову. Это извечная война Тьмы против Света. Одни души гибнут на этой войне, завоеванные Тьмой, а другие спасаются и идут к Свету. И поход «Пересвета» в Чечню – настоящий крестовый поход, подлинная ценность которого ни как не связана с практической пользой. Это война на стороне Света за души людские.
– Христос посреди нас, – тихо сказал Сергей.
– И есть, и будет, – так же тихо ответил Андрей.
Теперь они просто гуляли во дворике перед входом в храм, в тени, которую отбрасывали древние стены, наслаждались свежим воздухом после многодневного пребывания в подземном убежище.
– Процесс тамплиеров тоже был одним из сражений извечной войны, которую ведут духи злобы против Царства Света. Это была самая великая и ужасная битва, в которую вступил Орден, уже ослабленный и обессиленный, вынужденный сражаться не только с силами внешней ненависти, но и с силами внутреннего разложения, поэтому в этой битве так трудно различить, где же проходил фронт, где свои, а где чужие. Не все тамплиеры вышли из этой битвы победителями, но сколько храбрых храмовников спасли свои души, отдав тела на сожжение ради славы Христовой, – сказал Серега.
– Да, в такой войне линию фронта очень трудно проследить, и всё таки она есть. Какую силу уничтожил король Филипп? Достойную уничтожения или достойную вечной славы?
– Достойную уничтожения ради вечной славы. Тело Ордена погибло для того, чтобы спаслась душа Ордена. Ангел Ордена не оставил тамплиеров в застенках, Христос не отвернулся от своих верных слуг.
– Но как быть с тем, что некоторые тамплиеры, похоже, всё-таки отрекались от Христа?
– Мы должны найти причину этих отречений с учетом того, что Орден явно не был еретической организацией. Первый вклад в копилку версий внес ещё пресловутый Жоффруа де Гонневиль, приор Пуату и Аквитании. Когда ему задали вопрос о причинах отречения, он сказал, что основание этой традиции приписывали одному великому магистру – вероотступнику, который, оказавшись в плену у султана, смог получить свободу, только поклявшись, что введет в Ордене обычай отрекаться от Христа. Гонневиль добавил, что, по словам некоторых, эта церемония было создана в память о святом Петре, который трижды отрекся от Христа.
– Полный абсурд. Во-первых, ни про одного великого магистра Ордена доподлинно не известно, что он в плену отрекся от Христа. Гонневиль мог иметь в виду Жерара де Ридфора, но то, что ставили в вину бедному Жерару – не более, чем сплетни. До чего же Гонневиль не любил свой Орден, если, не стесняясь, воспроизводил эту древнюю клевету. Во-вторых, если бы магистр-отступник и существовал, какой смысл ему был, вернувшись к своим, выполнять своё подлое обещание, данное султану с глазу на глаз? Даже если бы у этого странного магистра были столь извращенные представления о чести, тамплиеры ни когда не выполнили бы его распоряжение отречься от Христа. Это же рыцари – люди, преданные Христу, а не магистру. За такое требование они просто бросили бы магистра в темницу. И, в третьих, следующим поколениям тамплиеров тем более не было смысла выполнять обещание, данное не известно кем, не известно кому и не известно когда.
Что касается второго объяснения, кстати, исключающего первое, то в него не поверит ни один христианин. Известно, что все святые имели грехи, но кто же станет подражать грехам святых? Подражать отречению апостола Петра, всё равно, что в память о преподобной Марии Египетской заниматься проституцией, а в память о благоразумном разбойнике заниматься разбоем.
Эти объяснения Гонневиля доказывают только одно – он и сам не знал, откуда в Ордене завелся столь скверный обычай. А ведь он принадлежал к высшей иерархии Ордена. Вот это как объяснить?
– О «блаженном неведении» иерархов поговорим позже, а в целом согласен: объяснения Гонневиля абсурдны. Даже странно, что позднейшие, причем достаточно серьезные историки, попались на эту удочку. В книге «История Франции» Мишле объясняет отречение от веры, говоря, что принятие в Орден новых братьев сопровождалось театральными и очень своеобразными ритуалами времён раннего христианства. Принимаемый в Орден был называем грешником и вероотступником по примеру св. Петра. Его вступление в Орден означало переход в другую веру и раскаяние: отказ от ошибок, олицетворяемых отречением. Поэтому последнее являлось всего лишь пантомимой, разыгранным сакральным действием, символика которого была понятна лишь посвящённым. Потом не без влияния гордыни начались злоупотребления. Понемногу, под воздействием «дьявольского эгоизма» Ордену захотелось стать самодостаточным.
– Что-то очень путанно и вообще ничего не понятно.
– Вот-вот. Перемудрил «великий Мишле». Впрочем, его позицию я привожу в изложении Марселя Лобе, так что даже не известно, кто из них перемудрил. Эта позиция строится на непонимании того, что понятно любому церковному человеку. От Христа нельзя отречься «понарошку», «лишь на словах», в ходе некоего театрализованного действа. Ни один христианин никогда не согласится отречься от Христа «лишь для вида», потому что «так принято» в ходе какого-то ритуала. Христианин ни за что не согласится отречься, чтобы потом «отречься от отречения». Уж не говорю про то, что это слишком мудрёно, но это прежде всего гнусно, и если человек на это пошёл, он уже не христианин. Инквизиторы это очень хорошо понимали. Они сначала нашёптывали тамплиерам: «Скажи, что отрёкся устами, но не сердцем», а потом ведь ни одного тамплиера на этом основании не объявили невиновным. Если тамплиеры отрекались от Христа «лишь на словах», следуя сценарию некого «сакрального действа», значит отрекались и в сердце, значит Орден Храма был антихристианской силой, а мы уже доказали обратное, значит объяснение Мишле рушится. Да и про каких таких «посвящённых» он говорит? Нет ведь ни одного доказательства их существования. И ни в одном из признаний тамплиеров нет указаний на существование разработанного ритуала. Объяснение Мишле – фантазия, вступающая в противоречие, как с фактами, так и с логикой.
– А вот Ален Демурже пишет: «Не являются ли противоречия намёком на выхолощенный ритуал, утративший своё значение?».
– Это о том же самом. Если существовал некий «выхолощенный ритуал» отречения от Христа, значит когда-то в древности этот ритуал имел реальное значение, то есть Орден едва ли не с момента своего возникновения был силой антихристианской, а это опровергается всей историей Ордена. И никогда бы добрые христиане не согласились исполнять такой «ритуал», а большинство тамплиеров были добрыми христианами, это можно считать доказанным. Вот и наш любимый Ги Фо пишет: «Историки стараются доказать, что речь шла лишь о шутке над новобранцами, призванной в извращённой форме указать неофиту на его обет подчинения, напомнив ему о тройном отречении св.Петра. К сожалению, сами тамплиеры никогда ничего подобного не говорили, хотя речь шла о спасении их жизней, руководители никогда не давали таких объяснений, хотя речь шла о спасении Ордена…».
– Да, действительно очень странно, что ни Моле, ни Шарне, ни Пейро не дали вообще никаких объяснений, даже таких дурацких, какие дал Гонневиль. Почему?
– Да потому что они ничего об этом не знали, а Гонневиль лишь строил догадки, столь же неудачные, как и догадки современных историков. Но я тебя умоляю, потерпи, об этом позже. А вот позиция историков не напрасно вызывает у Ги Фо скептицизм. Беда в том, что историки эти сами – вряд ли христиане и психологии христианина совершенно не понимают. Ни один христианин не станет «шутить» по поводу отречения от Христа. От такой «шутки» у любого церковного человека мороз по коже пробежит. И ни один церковный иерарх никогда не станет проверять верность организации через готовность отречься от Христа. Любому наугад взятому христианину без объяснений понятно, что верность Христу всегда превыше верности человеку, будь он хоть патриархом, хоть магистром, хоть воинским начальником или даже духовником. Даже если ангел предлагает отречься от Христа – анафема этому «ангелу»!