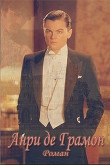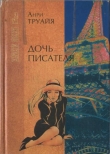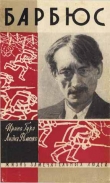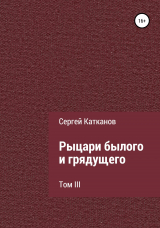
Текст книги "Рыцари былого и грядущего. III том"
Автор книги: Сергей Катканов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Де Ливрон подошёл к маршалу и жёстко бросил:
– Сейчас будет второй натиск.
– Не думаю, что они сегодня ещё сунутся. Мы основательно их потрепали.
– Они нас тоже. При этом на кораблях ещё несколько тысяч свежих, не участвовавших в бою воинов. Это десантные корабли, Бартоломе, они набиты мамелюками до отказа. Если у их эмира есть хоть капля здравого смысла, вторая атака последует не позднее, чем через час.
– В любом случае, мы должны убрать убитых, заняться раненными.
– Да, конечно. Только с берега никого не отпускай и скажи, чтобы не расслаблялись, возможно, бой на сегодня ещё не закончен. А ещё мне не нравятся вот эти скалы.
– Чем они тебе плохи?
– Там вполне могла закрепится не одна сотня мамелюков. В горячке боя мы могли и внимания не обратить, что не все лодки плывут на нас, если часть ушла в скалы… отсюда их не видно, зато с моря они хорошо видны.
– Ну так прикажи проверить, – раздражённо бросил маршал. Ему явно не хотелось думать о том, что бой сейчас может продолжиться.
Проверить не успели, на них уже шла лавина лодок.
– К бою! – заорал де Ливрон. – Арбалетчики – на позицию!
К чести арбалетчиков надо сказать, что они отреагировали мгновенно, сразу же выстроившись вдоль кромки моря с заряженными арбалетами. Ещё пара минут, лодки подойдут ближе, и последует залп. Но залпа не последовало. Из-за скал, которые так не нравились де Ливрону, на стрелков выскочила сотня мамелюков, и сразу же всё смешалось. Арбалетчики были готовы к чему угодно, только не к отражению сабельной атаки. На помощь им поспешили рыцари и сержанты, на некоторое время все забыли про лодки, а когда вспомнили, было уже поздно. Свежие мамелюкские воины выпрыгивали в воду у берега.
Весь берег погрузился в хаос совершенно беспорядочного боя. Тамплиеров спасла привычка действовать самостоятельно, без приказов. Тамплиер не бежит, оставшись один посреди врагов. Тамплиеры вообще никогда не бегут, у каждого – личная честь, и жизнью они жертвуют скорее, чем честью. Но тамплиеров теснили. Силы мамелюков были свежими, высадка на берег беспрепятственной, а численное преимущество многократным. Вскоре бой кипел уже в сотне метров от берега. Теснимые тамплиеры жёстко держали оборону, так ни один и не побежал, энергия мамелюкского наступления выдохлась, бой заглох сам собой, враги с обнажённым оружием понемногу отхлынули друг от друга. Горсть тамплиеров так и не удалось сломить, но берег остался за мамелюками.
Командор де Ливрон поискал глазами маршала де Кинси и, не обнаружив его среди живых, скомандовал: «Отходим в цитадель».
***
Анри получил лишь две незначительные раны: рассекли кожу на голове и, проколов кольчугу, задели бок. Он сам себя перебинтовал и больше не вспоминал о ранах, потому что не чувствовал боли. Юный рыцарь испытывал такой прилив энергии, какого не знал никогда в жизни. Он получил, наконец, настоящее боевое крещение в серьёзной схватке. Теперь он тамплиер не только по названию.
С первой же минуты боя он почувствовал себя в родной стихии, всё было так, как он себе и представлял. Это редко случается, то, о чём долго мечтаешь, когда приходит, обычно оказывается не таким, как о нём думал. Однако, чувствительность Анри позволила ему по рассказам бывалых рыцарей и по собственному незначительному опыту довольно точно воспроизвести в душе подлинную атмосферу реального боя.
Юноша многое чувствовал наперёд. Что же он чувствовал теперь? Это конец – безнадёжный и бесповоротный. Но на душе у него было даже лучше, чем в начале похода. Окончательный крах их предприятия не отозвался в нём трагедией. Он, напротив, чувствовал близость выхода на новую дорогу, которая всё прояснит.
Рыцари собрались в самом большом помещении цитадели. Их осталось на ногах не больше 50-и, и всё-таки здесь было очень тесно. Изо всех углов неслись выкрики: «Сделаем вылазку и сбросим их в море», «Отобьёмся, устоим, еды здесь достаточно», «Скоро подойдёт подкрепление с Кипра, сарацинам конец». Анри было неловко наблюдать за этими припадками оптимизма. Конечно, хорошо, что ребята держаться, не теряют присутствия духа, но они обманывают себя, не хотят посмотреть правде в глаза, а это уже плохо. От оптимизма, построенного на самообмане, в одну минуту ничего не останется. Почему мальчишка 19-и лет понимал это лучше, чем поседевшие в боях тамплиеры? Ему и самому это было странно, но он умел чувствовать правду и безошибочно определял фальшь.
Наконец раздался звучный голос де Ливрона:
– Кто-нибудь видел, что случилось с маршалом де Кинси?
Ему ответили сразу несколько голосов:
– Маршал получил удар в горло.
– Я тоже это видел.
– Маршал мёртв. С такими ранами не живут.
Де Ливрон продолжил:
– Мы должны решить, кто примет командование.
– Уж только не ты, де Ливрон, – раздражённо буркнул командор Гуго д’Эмпуриас.
– А разве я претендую? – усмехнулся Арман.
– Да уж видно, что претендуешь, – не унимался д’Эмпуриас. – Но тебе никто не доверится. Ты вообще больше похож на сарацина, чем на тамплиера.
– Ах, милый Гуго, сказал бы я тебе, на кого похож ты, но не хочу отвлекать на пустяки внимание благородных братьев, – Арман насмешливо, иронично и весело посмотрел на спорщика.
Гуго почему-то смутился под этим весёлым взглядом, но Арман явно не желал продолжать перепалку. Неловкую паузу разрядил выкрик:
– Главным должен быть командор Гуго д’Эмпуриас.
Это предложение поддержали несколько голосов, очень неуверенных, но других предложений не последовало.
– Я не хочу командовать, – важно начал Гуго. – Мне это не надо. Но если братья доверяют мне…
– Доверяем, – опять раздалось несколько неуверенных голосов, и ни одного возражения.
– Тогда я буду вынужден временно принять на себя обязанности маршала, неожиданно окрепшим голосом заключил Гуго. – И вот что я вам скажу. Сейчас никаких решений принимать не будем. Всем отдыхать. Поутру сарацины, вероятнее всего, предложат переговоры. Послушаем, что они скажут, и тогда подумаем.
Анри не проронил ни звука. Он чувствовал, к чему всё идёт, но так же, как и де Ливрон, не желал этому препятствовать.
***
Рано утром дозорные доложили, что под стенами цитадели – сарацинское посольство, прибывшее для переговоров. Все рыцари вышли на стены.
– Доблестных тамплиеров приветствует эмир Измаил, – на чистом лингва-франка крикнул разодетый в шелка мамелюк.
– И мы приветствуем тебя, Гийом, – крикнул де Ливрон «эмиру Измаилу». – Хорошо ли идут дела у султана? Здоровы ли его жёны?
– Хвала Аллаху, – рассмеялся Гийом-Измаил. – Дела султана так же прекрасны, как и его жёны. А ты всё такой же насмешник, Арман?
– Я неисправим, ты же знаешь.
– Конечно знаю, Арман. У нас ещё будет время обо всём поговорить. Пошутим, посмеёмся, вспомним старые добрые времена. Я ведь пришёл с предложением мира.
– Каковы условия сдачи? – неожиданно грубо крикнул Гуго д’Эмпуриас.
– О, Гуго! И ты здесь? Как приятно вести переговоры с друзьями! Условия – самые почётные. Вы покидаете цитадель при оружии и со знаменами, мы доставляем вас в любую христианскую страну на наших кораблях. Только не на Кипр, конечно, нас там не любят, – рассмеялся «эмир Измаил». – Хотите – в Армению? Вас там хорошо встретят.
– Какие гарантии? – опять нарочито грубо крикнул д’Эмпуриас.
– Спускайся, Гуго, поговорим. Зачем будем глотки надрывать? Спускайтесь вместе с Арманом.
Д’Эмпуриас зло глянул на де Ливрона, стоявшего на стене неподалёку от него. Арман смиренным голосом проговорил: «Не считаю себя достойным присутствовать при разговоре двух эмиров» и церемонно поклонился. Гуго заметно побледнел и стиснул зубы, но не сказал ни слова и сразу же размашистыми шагами удалился – пошёл на переговоры.
Новоиспечённый предводитель тамплиеров вернулся с переговоров через час и сразу же скомандовал: «Всем рыцарям собраться в большом зале».
Тамплиеры с удручёнными лицами потянулись в зал, Арман шепнул на ухо Анри: «Не пойдём туда, там будет скучно. Лучше уединимся, потом нам ещё долго не удастся поговорить с глазу на глаз». Анри кивнул. Они ушли в самый дальний угол цитадели, где их ни откуда не было видно.
– Ты уже понял, что сейчас будет? – спросил Арман.
– Позорная капитуляция, – ответил Анри.
– Рад, что ты избавил меня от необходимости делать предисловие.
– Но почему, мессир, мы не можем погибнуть в последнем бою без позора? – спокойно и печально спросил Анри.
– Да потому, что большинство наших братьев дорожат своими шкурами больше, чем белыми плащами, – так же спокойно и столь же печально ответил Арман.
– Вчера все наши держались прекрасно.
– На поле боя мы по-прежнему герои, но сейчас, когда Гуго выкручивает им мозги, никто не проявит достаточной твёрдости.
– Найдутся и стойкие.
– Их задавят криком.
– Но вы могли бы поддержать и возглавить последних стойких тамплиеров-смертников. Пусть бы Гуго вместе со слабаками лизал мамелюкам пятки, а мы уже сегодня отправились бы ко Христу и спасли бы честь Ордена, – Анри говорил всё спокойнее, он явно не пытался ни упрекнуть, ни убедить командора, хотел лишь понять смысл происходящего, да ведь за этим Арман и позвал его.
– Честь Ордена таким образом не спасти, – тяжело вздохнул де Ливрон. – Время героических подвигов для тамплиеров уже прошло. От нас сейчас потребуются совсем другие подвиги, тяжелее боевых
– Сейчас не время говорить загадками, мессир.
– Время разгадок так же не пришло, но некоторые тайны я должен раскрыть тебе уже сейчас. Помнишь испытание, которому тебя подвергли, когда принимали в Орден?
– Ещё бы… – усмехнулся Анри. – Я чуть не прирезал вас, мессир, когда вы предложили мне отречься от Христа.
– Как я любил тебя, мой мальчик, в тот миг, когда ты хотел меня прирезать… Ты с честью выдержал испытание и не отрёкся от Христа. Так вот: большинство из тех рыцарей, на которых сейчас наседает Гуго, отреклись от Христа во время приёма в Орден. Они так и не узнали, что это было испытание, которого они не прошли. Зато мы узнали, что душонки у них гнилые. Не их ли мне сейчас прикажешь звать на подвиг?
– Гуго тоже из тех, кто отрёкся?
– Гуго сделал гораздо больше. Три года он провёл в плену в тюрьме Каира. Там он тайно принял ислам и поступил на секретную службу султана. Ему организовали побег, он вернулся в Орден, и вот сегодня его звёздный час – он должен доказать свою верность султану и сдать нас мамелюкам.
– А кто такой этот Гийом или Измаил?
– Такой же тамплиер – вероотступник, только служит султану открыто.
– Вы знаете такие вещи… Кто вы на самом деле, мессир?
– Руководитель секретной службы Ордена Храма. Сейчас не время рассказывать о нашей службе, потом ты всё узнаешь, потому что с этого момента рыцарь Анри де Монтобан является сотрудником секретной службы Ордена Храма.
– А моё согласие вас интересует?
– У тебя два варианта: либо выдать меня Гийому и Гуго, либо стать моим человеком.
– Вас не очень удивит, если я выберу второй вариант?
– Трепещу от восторга, сейчас заплачу. Итак, перейдём к тому, зачем я тебя позвал. Среди полусотни рыцарей, оставшихся на сегодня в живых, есть шестеро, которые, так же, как и ты, не отреклись от Христа при вступлении в Орден. Друг о друге они не знают, их список известен только мне. Но может наступить такой момент, когда они должны будут выступить, как сплочённая группа, поэтому, на случай моей гибели, кто-то ещё должен знать их имена. Запомни их твёрдо, повторю три раза.
Арман медленно, с расстановкой трижды повторил имена верных тамплиеров.
– А теперь, мой дорогой Анри, молись и готовься к тяжелейшим испытаниям плена.
– Значит, всё-таки плен…
– А ты думал, нас и правда отвезут в Армению? – Арман рассмеялся саркастическим шёпотом. – Предлагаю твёрдо усвоить: плен для нас – не конец, а начало больших дел. В плену тамплиер закаляется лучше, чем на поле боя, неволя высвечивает всю душу человека вплоть до самых потаённых уголков. Наша задача – с честью пройти это испытание и вернуться в Европу, которая, к слову сказать, тоже вскоре будет гореть у тамплиеров под ногами, как и Палестина. Вот тогда-то мы и должны будем спасти Орден. Все верные Христу рыцари, которые сегодня с нами, должны дожить до тех дней.
Анри медленно достал из ножен меч, поцеловал клинок и зарыл его в песок у стены: «Не хочу бросать меч к ногам этих подонков». Арман молча кивнул и последовал примеру юноши.
***
Едва тамплиеры, надеясь на почётную капитуляцию, покинули цитадель, мамелюки тут же окружили их плотным кольцом и предложили сдать оружие. «Делайте, как вам говорят», – крикнул Гуго д’Эмпуриас. Несколько рыцарей схватились за мечи, желая обрушить их на головы мамелюков, у смельчаков тут же повисли на руках и разоружили. Остальные обречённо побросали мечи на землю.
Так 26 сентября 1302 года бесславно закончился последний крестовый поход тамплиеров. Вереница рыцарей и сержантов со связанными за спиной руками потянулась к кораблям. В адрес Гуго д’Эмпуриаса неслись ужасающие проклятья. Впрочем, большинство храмовников молчали, растерянно и обречённо глядя себе под ноги.
Гуго, уже расставшийся с белым плащом, гарцевал рядом с Гийомом на хорошем жеребце. Арман весело крикнул ему:
– Как тебя теперь зовут, бывший Гуго?
– Мухаммад. Для тебя – господин Мухаммад, – криво улыбнулся «бывший Гуго».
– О, поздравляю. Надеюсь, ты не опозоришь своё новоё имя так же, как ты опозорил старое. Очень за тебя переживаю.
Ответом командору был удар плёткой по лицу, на его щеке сразу же вздулся пунцовый след. Де Ливрон, продолжая улыбаться и глядя «Мухаммаду» прямо в глаза, что-то прошипел по-арабски. Предатель с ненавистью глянул на тамплиера и поскакал вперёд.
– Что вы сказали ему, мессир? – спросил Анри.
– Сказал, что если он ещё раз посмеет ударить меня, узнает вкус отравленного кофе.
– И каков этот вкус?
– В кофе обычно добавляют яд, имеющий вкус горького миндаля.
– И вы, действительно имеете возможность устроить так, чтобы он отведал этого напитка?
– Нет, конечно. Мои возможности так далеко не простираются. Но подлец испугался, очевидно подумал, что я могу быть тайным мусульманином и имею приказ следить за ним.
Арман и Анри весело рассмеялись. Пленные братья, не слышавшие их разговора, с недоумением поглядывали на рыцарей секретной службы Ордена Христа и Храма.
***
Боль Руада – вечная боль каждого христианина. Это наша война, и поражение в этой войне – наше поражение. Это вечная война, которую прекратит только второе пришествие Христово. Война с неверием, равнодушием, теплохладностью. Война с презрением ко всему возвышенному, духовному, небесному. Война, в которой мы проигрываем сражение за сражением, не теряя веры в победу.
Об этом думал рыцарь Ордена Христа и Храма Андрей Сиверцев, прочитав опус, который прислал ему московский друг Серёга. Андрей был благодарен Серёге за то, что он дал почувствовать боль Руада. Каждый тамплиер до скончания века обязан носить эту боль в своём сердце. Кроме того, блистательный Арман де Ливрон и его юный друг Анри де Монтобан, персонажи, безусловно, вымышленные, вселяли надежду, пробуждали бодрость, давали силы пережить вечный ужас Руада.
Впрочем, по поводу секретной службы Ордена и того, какую роль она играла во всех этих делах, Сиверцев ничего не понял. Дмитрий объяснил бы ему, но Дмитрия нет. И на плечах самого Андрея теперь – бурый рыцарский плащ. Теперь он сам должен давать объяснения другим, а что он знает? Слава Богу, Серёга скоро приедет в «Секретум Темпли», и они обо всём поговорят. И Арман ещё обо всём расскажет юному Анри. Рыцарь никогда не останется без учителя, потому что Учитель рыцаря есть Христос.
Андрей мерил шагами свою рыцарскую келью, как в русском монастыре – белёные стены, сводчатые потолки. Ведь он не только рыцарь-тамплиер, но и русский православный монах. Эта келья словно чудом перенеслась сюда, в Эфиопию, из какой-нибудь подмосковной обители. Здесь ему было уютно. Узкая койка, небольшой дубовый письменный стол, так же дубовый шкафчик с самыми необходимыми книгами. Боёв в последнее время не было, и всё свободное от богослужений время Сиверцев посвящал книгам и размышлениям.
***
Почему всё-таки последний крестовый поход тамплиеров был таким жалким и убогим? Да потому что в начале XIV века Европу уже не интересовала Святая Земля. Англия разбиралась с Шотландией, Пиренейские государства – с маврами, Германия – с восточными территориями, а Франция – с хроническим безденежьем. Даже духовно-рыцарские ордена не очень скучали без Святой Земли. Тевтонцы нашли себе развлечение, завоёвывая Пруссию, госпитальеры вынашивали планы завоевания Родоса. Европейские монархи, бароны, кардиналы по-прежнему очень любили обсуждать планы отвоевания Гроба Господня, но никто всерьёз уже не хотел нового крестового похода на Святую Землю. И дело тут было вовсе не в территориальных и материальных проблемах, которые не пускали Европу в Палестину, а в том, что за 200 лет изменились сердца.
Рыцари Готфрида Бульонского не ждали, пока монархи обо всём договорятся, не обсуждали красивых планов, не ссылались на конфликты с соседями и отсутствие денег. Они рвались в Святую Землю без монархов, без планов, закладывая родовые замки и увлекая за собой соседей – вчерашних недругов. Их не надо было уговарировать и убеждать, их напротив невозможно было остановить и удержать. Тогда вся Европа вспыхнула пламенем веры, была охвачена единым порывом, испытав непреодолимое стремление освободить Иерусалим. Крестоносцы Готфрида Великого, пережив нечеловеческие страдания и лишения, совершили невозможное, сквозь ад земной прорвались ко Гробу Господню.
Европа пережила пик своей религиозности в XII веке, на этом максимальном духовном подъёме породив Орден тамплиеров. Но уже в XIII веке религиозная воодушевлённость Европы начала понемногу идти на спад, а к началу XIV века священный порыв почти иссяк, понемногу утопая в красивых словах. Европа плавно сполза́ла в трясину «ренесанса» – возрождения языческого человекобожия, на знамёнах которого было начертано: «Мои желания – превыше всего». Конечно, Европа XIV века была неизмеримо религиознее нынешней, но уже недостаточно религиозна, духовна, для того, чтобы освободить Иерусалим.
А было ли возможно в 1300 году отвоевать Святую Землю с точки зрения наличия материальных ресурсов? Да, конечно. Если бы Европа дала всего лишь тысячу рыцарей (по несколько сот рыцарей от каждой страны), да по несколько тысяч крепких сержантов, а такую силу Европа могла выставить не сильно напрягаясь, без заметного ущерба для европейских дел – Святая Земля за месяц стала бы полностью христианской.
Военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке была тогда максимально благоприятна для отвоевания Святой Земли. Мамелюки после разгрома, который устроил им Газан, почти не контролировали Палестину. Достаточно вспомнить, что малый отряд крестоносцев провёл в Тортозе, целый месяц не будучи потревоженным регулярной армией мамелюков. Если бы Европа дала хоть тысяч 15 войска, включая тысячу рыцарей, да если бы из Кипра выжать 7-8 тысяч, включая полтысячи рыцарей, а это было вполне реально, тогда после нескольких сражений среднего масштаба наши быстро заняли бы Триполи, Акру, Иерусалим и дюжину замков. И не надо было ради этого ждать Газана, не надо было в ноги кланяться «жёлтой угрозе». При этом Газан, узнав, что крестоносцы уже контролируют все ключевые точки Палестины, обязательно пришёл бы, и его надо было пропустить сквозь себя в Египет, как он и хотел, чтобы там мамелюки и монголы сожрали друг друга – и тем и другим надолго стало бы не до крестоносцев, которые могли тем временем отстроиться и укрепиться.
Но Европа не дала ни одного рыцаря. На Святую Землю пошёл только Кипр, и то далеко не исчерпав всех своих возможностей, выставивший жалкие силы, сами себя считающие способными лишь тащиться следом за монгольскими обозами.
А что же тамплиеры? Мог ли Орден тогда самостоятельно, без посторонней помощи, освободить Палестину? Путём напряжения всех сил – безусловно, мог. Простой факт: до 1291 года Орден тратил колоссальные средства на содержание боевых подразделений в Святой Земле, то есть после падения Акры храмовники оказались избавлены от огромных расходов, при этом ни по чему не похоже, что доходы Ордена снизились хоть на денье. На что же шли высвободившиеся средства? Вот ведь загадка. Если бы тамплиеры все эти годы откладывали средства, которые раньше тратили на Святую Землю, к 1300 году это было бы огромное состояние, достаточное, чтобы профинансировать полномасштабный крестовый поход. Так куда же они дели эти деньги? Как говорят коммерсанты: «Деньги – в деле. Свободных средств нет». Да, вероятнее всего, высвободившиеся средства ушли на развитие бизнеса в Европе, с утратой понимания того, зачем этот бизнес нужен.
Раньше Орден содержал в Святой Земле два боевых монастыря – 600 рыцарей и несколько тысяч сержантов. И доходы Ордена тогда не были выше, и расходы на содержание такого войска до последнего момента были вполне посильны для Ордена. Но в 1300 году Орден выставил лишь 120 рыцарей, всего около тысячи человек. Это же силы одного только Кипрского командорства, а и там-то их могло быть побольше. Похоже, что европейские отделения Ордена Храма считали этот поход делом одних только тамплиеров Кипра.
Говорят, что Орден Храма насчитывал тогда до 15 тысяч человек. Вероятнее всего, эта цифра сильно завышена, и тем не менее очевидно: Орден мог, как и встарь, выставить два боевых монастыря: 600 рыцарей и 2-3 тысячи сержантов. Этот железный кулак в той ситуации мог проломить себе дорогу до Иерусалима и войти в Святой Град, на тот момент фактически никому не принадлежавший. А если бы Европа узнала о том, что Иерусалим – в руках тамплиеров, эта весть, как искра, подожгла бы потухающую, но ещё далеко не потухшую Европу. В Европе собралось бы войско, которое поспешило бы на помощь тамплиерам.
Но Орден в 1300 году уже не мог сыграть роль искры, способной поджечь Европу. Орден не хотел напрягать Европу, потому что и сам уже не хотел напрягаться. Во главе Ордена стояли такие ничтожества, как Жак де Моле, Гуго де Пейро и прочие иерархи, чуть позже вполне доказавшие свою абсолютную ничтожность. И, как всякий народ достоин своих правителей, так и Орден, надо полагать, к началу XIV века был уже вполне достоин своих жалких иерархов. Орден Храма – дитя Европы. Духовно ослабла Европа – духовно ослаб Орден. Кроме того, Орден Храма, деморализованный потерей Святой Земли, духовно мог опуститься даже ниже среднеевропейского уровня. Вне всякого сомнения, к 1307 году в Ордене завелась гниль. Орден Храма ещё не был насквозь гнилым, но это ему уже грозило.
***
Был ли Орден Храма виновен в тех преступлениях, в которых его обвиняли? Рыцарь Храма Андрей Сиверцев, очевидно, должен был ответить на этот вопрос твёрдо и без тени сомнения: Орден ни в чём не был виновен, тамплиеров оклеветали, позарившись на их богатства и пытками добившись признательных показаний. А почему он должен был так ответить? Потому что тамплиеры – наши, а наши всегда правы? Тамплиероманы всех мастей именно так и мыслят. Влюбившись в Орден Храма, они уже ни на секунду не могут допустить, что тамплиеры хоть чем-то плохи. Но Андрей не был тамплиероманом, он был тамплиером. И ему нужна была истина, а не трескучий пиар. Тамплиероманская влюблённость в Орден слепа, а потому не дорого стоит. Настоящая любовь никогда не испугается посмотреть правде в глаза. Но где она, правда, и каковы её глаза?
Высота тамплиерского идеала по-прежнему не вызывала у Андрея никаких сомнений, он твёрдо знал, что сейчас тамплиеры содержат ортодоксальное христианское учение в абсолютной чистоте и непорочности. А 700 лет назад? А 900? Беда многих тамплиероманов в том, что они воспринимают Орден как нечто статичное, неизменное от создания до разгрома. Но надо же понимать, что Орден при Гуго де Пейне никак не мог быть похож на Орден при Жаке де Моле. А при Жераре де Ридфоре? А при Гийоме де Боже? Сколько было на самом деле весьма не похожих друг на друга Орденов Храма? И до какой степени они не похожи, насколько принципиально отличались? Может быть, диаметрально?
Итак, можно восхищаться тамплиерами и одновременно считать, что их осудили справедливо. Можно преклоняться перед памятью Эврара де Бара и презирать Жоффруа де Шарне. Если мы знаем тамплиеров-мученников Христовых, то почему нам не могут быть известны тамплиеры, изменившие Христу? Андрей интуитивно чувствовал, что в начале XIV века Орден был духовно болен. Но до какой степени? Не обязательно ведь до полного вероотступничества. Огромное количество абсолютно противоречивой информации произвело полный сумбур в голове. Суждения о виновности и невиновности Ордена сыпались, как из рога изобилия, ничего не проясняя. Андрей постарался отобрать и разложить хотя бы некоторые из этих суждений.
***
Антуан Арно, французский богослов XVII века, писал: «Теперь нет почти никого, кто бы не считал, что тамплиеры были ложно обвинены…». Значит уже в XVII веке почти все были уверены в невиновности тамплиеров? Вот только это «почти» не даёт покоя.
В 1914 году Виктор Карьер, один из самых серьёзных историков Ордена, безаппеляционно заявил: «На сегодня это окончательно установленный факт: Орден Храма, как таковой, не виновен в тех преступлениях, в которых его так долго обвиняли».
Андрею никогда не нравились построения, в которых вывод выдают за факт. Придающий своим суждениям силу факта не вызывает доверия. Поэтому не удивительно, что господин Карьер не закрыл дискуссию, а лишь дал ей очередной толчок.
Раймон Урсель: «Нельзя поверить, что обвинения, выдвинутые против тамплиеров, не имеют какой либо основы… Нужно допустить, что уязвимость Ордена в этом была реальной… Интригующая тайна осталась, и, в конечном итоге, именно из-за неё Орден и был осуждён».
Вот суждение, не страдающее излишней категоричностью. Вроде бы Орден был виноват, только не понятно в чём, но именно из-за этого он и пострадал.
Ги Фо: «Один факт остаётся непреложным вне всяких сомнений – это факт наличия в Ордене ереси, какой бы она ни была. После столь долгого и тщательного изучения можно ли считать, что остаются сомнения по поводу виновности тамплиеров?».
От суждений таких людей, как Раймон Урсель и Ги Фо невозможно просто так отмахнуться. Они немало знали и много думали. И они пришли к выводу о виновности тамплиеров. Но по-прежнему нет недостатка в суждениях прямо противоположных.
Генри Чарльз Ли: «Орден был невиновен в преступлениях, за которые пострадал – это единственное заключение из рассмотрения всех дошедших до нас документов инквизиционного процесса». Ли – мужик основательный. Не маньяк, не фанатик. От его вывода тоже просто так не отмахнёшься.
Малколм Барбер: «Сейчас трудно было бы доказать, что тамплиеры действительно совершали те преступления, которые вменялись им в вину режимом Филиппа Красивого, или что признания их свидетельствуют о чём-то другом, кроме слабости человека перед пыткой… Само содержание этих обвинений доказывает, что вряд ли тамплиеры были в чём-то виноваты».
Вряд ли кто-то знает о процессе тамплиеров больше, чем Барбер. Скурпулёзнейший историк. Поверивший Барберу отнюдь не будет выглядеть легковерным, так что можно просто взять и поверить. Но похоже, что правда сложнее.
Марсель Лобе: «Все историки сходятся во мнении, что нам никогда не станет известно, в какой мере тамплиеры были виновны в некоторых крайне неблаговидных поступках».
Лобе – сторонник невиновности Ордена, и тем не менее он говорит: «Нам никогда не станет известно…». Ему вторит Ги Фо, один из самых убедительных обвинителей Ордена: «Мы должны признать, что мы не способны узнать правду, которая ускользает от нас. Все объяснения кажутся надуманными и случайными. Если не обнаружатся архивы Храма, вполне возможно, что мы никогда не узнаем истинной подоплёки дела… Загадка Храма не раскрыта. Вместо того, чтобы смириться с этим незнанием, многие хотят, чтобы в трагедии непременно были предатели».
Эти суждения Лобе и Фо вызывают максимальное уважение, потому что они честны. Любой объективный аналитик, попытавшись охватить единым взглядом всю доступную информацию по процессу тамплиеров, обязательно испытает чувство крайней растерянности. Слишком много явных доказательств виновности тамплиеров и ни сколько не меньше столь же явных доказательств их невиновности. Практически любая версия событий противоречит какой-то части имеющейся информации. Во всяком случае, любая из тех, которые до настоящего времени были выдвинуты. Сиверцева не удовлетворила ни одна система доказательств виновности или невиновности Ордена Храма. Он мог без труда опровергнуть любую версию, но не мог выдвинуть свою. В чём, собственно, была задача? Дать такое объяснение всего происходившего на процессе, в которое бы непротиворечиво, логично и последовательно укладывались бы все имеющиеся доказательства как вины, так и невиновности Ордена. Именно так: нужна непротиворечивая версия, которую невозможно будет опровергнуть с опорой на факты, без надуманных, натянутых аргументов и произвольных допущений. И то не факт, что такая версия будет в точности соответствовать истине. Во-первых, потому что абсолютно непротиворечивая версия может противоречить фактам, которые нам попросту неизвестны. Во-вторых, потому что одни и те же факты можно уложить в несколько различных, но в равной степени непротиворечивых версий.
Итак, мы можем ставить перед собой только одну задачу: максимальное приближение к истине. При этом надо помнить, что даже идеально непротиворечивая версия остаётся версией и никогда не станет фактом. Но и такой версии до сих пор никто не дал. По процессу тамплиеров написана уже целая библиотека, но даже лучшие умы, подвизавшиеся в исторической науке за последнее столетие, не смогли предложить ни одной удовлетворительной трактовки событий процесса и в конечном итоге развели руками: «Нам никогда не станет известно».
Так возможно ли в принципе в данном случае сформулировать такую версию, которая устроит честного, объективного и беспристрастного исследователя? Возможно ли сделать то, чего не смог сделать никто? Уповая на Божью помощь, можно попробовать.
***
Королевские легисты выдвинули простив Ордена Храма обвинение по 127 пунктам. Этот список явно составлялся по принципу «чем больше, тем лучше». Большинство обвинений либо мелочны и незначительны, либо откровенно абсурдны, либо не нашли вообще никакого подтверждения в ходе процесса. С эти списком нет никакого смысла работать, скучно тратить время на опровержение откровенной ахинеи. Зачем, к примеру, доказывать, что тамплиеры не поклонялись идолу, именуемому Бафометом, если уже тогда всем было хорошо известно, что «Бафомет» на языке Лангедока означает «Мухаммад», а идолов Мухаммада никогда не могло существовать. Не говоря уже о том, что в материалах процесса нет хотя бы двух согласующихся друг с другом описаний идола, все фантазёры описывают это чудище по-разному. Подобные обвинения нет смысла принимать всерьёз.