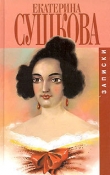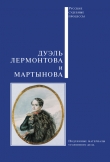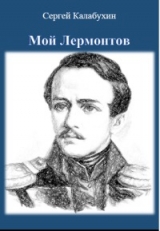
Текст книги "Мой Лермонтов"
Автор книги: Сергей Калабухин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– А вот вам и ответ, – сказал я засмеявшись, и начал читать Лермонтову черновой отпуск, составленный писарем, в котором было сказано, что такой–то поручик Лермонтов служит исправно, ведёт жизнь трезвую и добропорядочную и ни в каких злокачественных поступках не замечен… Лермонтов расхохотался над такой его аттестацией и просил меня нисколько не изменять её выражений и этими же самыми словами отвечать министру, чего, разумеется, нельзя было так оставить.
После этого тотчас же был послан министру самый лестный об нём отзыв, вследствие которого и был разрешён ему двадцативосьмидневный отпуск в Петербург».
Как говорится, комментарии излишни.
Петербург, 1841 год
14 января 1841 года Лермонтов отбыл из полка в отпуск, в Москву он прибыл 30 января, а уже в начале февраля, на Масленицу, объявился в Санкт – Петербурге, где немедленно бросился посещать балы и приёмы. О заботливой бабушке он даже не вспоминает! Однако, бравируя своим боевым опытом, Мишель совершает роковую ошибку – является на балы в армейском мундире и тем самым обращает на себя внимание не только восторженных дам, но и членов императорской семьи, возмутившихся столь наглым и дерзким поведением ссыльного офицера. Известный библиограф и писатель М. Н. Лонгинов так вспоминал позже о тех событиях:
«Он был тогда на той высшей степени апогея своей известности, до которой ему только суждено было дожить. Петербургский «beau–monde» встретил его с увлечением; он сейчас вошёл в моду и стал являться по приглашениям на балы, где бывал Двор. Но всё это было непродолжительно. В одно утро, после бала, кажется, у графа С. С. Уварова, на котором был Лермонтов, его позвали к тогдашнему дежурному генералу графу Клейнмихелю, который объявил ему, что он уволен в отпуск лишь для свидания с «бабушкой», и что в его положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них бывает Двор, и что поэтому он должен воздержаться от посещения таких собраний. Лермонтов, тщеславный и любивший светские успехи, был этим чрезвычайно огорчён и оскорблён, в совершенную противоположность тому, что выражено в написанном им около этого времени стихотворении: «Я не хочу, чтоб свет узнал»».
Более того, вызвав раздражение Двора своим вызывающим поведением, Лермонтов лишил себя не только возможности отмены или смягчения условий ссылки, как это было в прошлый раз, но и заслуженной в боях награды. Николай I щедро награждал героев кавказских сражений. Алексей (Монго) Столыпин, например, тоже принимал участие в Галафеевской экспедиции 1840 года, храбро сражался с горцами и получил высокую по тому времени награду – орден Владимира 4‑й степени с бантом. А вот имя Михаила Лермонтова император собственноручно вычеркнул из списка награждённых. Граф Клейнмихель писал по этому поводу генералу Граббе:
«Милостивый государь Евгений Александрович!
В представлении от 5‑го минувшего Марта № 458 ваше высокопревосходительство изволили ходатайствовать о награждении, в числе других чинов, переведённого 13‑го апреля 1840 года за проступок л. – гв. из Гусарского полка в Тенгинский пехотный полк, поручика Лермонтова орденом св. Станислава 3‑й степени, за отличие, оказанное им в экспедиции противу горцев 1840 года.
Государь император, по рассмотрении доставленного о сём офицере списка, не изволил изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую ему награду. При сём его величество, заметив, что поручик Лермонтов при своём полку не находился, но был употреблён в экспедиции с особо порученною ему казачьею командою, повелеть соизволил сообщить вам, милостивый государь, о подтверждении, дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте, и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своём полку.
О таковой монаршей воле имею честь вас уведомить.
Подлинное подписал Граф Клейнмихель».
Таким образом, получается, что Лермонтов вдобавок подставил в глазах императора своего благодетеля, генерала Граббе, позволившего ему вести довольно вольную жизнь на Кавказе. Но Мишель в собственном эгоизме как будто этого вовсе не замечает. Вот что он пишет своему кавказскому сослуживцу Д. С. Бибикову по данному поводу:
«Милый Биби.
Насилу собрался писать к тебе; начну с того, что объясню тайну моего отпуска: бабушка моя просила о прощении моём, а мне дали отпуск; но скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды: приехав сюда в Петербург на половине масленицы, я на другой же день отправился на бал к г-же Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал; обществом зато я был принят очень хорошо, и у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9 марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку; из Валерикского представления меня здесь вычеркнули, так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук».
Но 9 марта Лермонтов из Петербурга не уехал! Он понял, что теперь на Кавказе у него не будет той вольности, что ранее, и придётся «тянуть лямку» армейской службы наравне с другими офицерами в назначенном ему полку. И Мишель начинает под всяческими благовидными предлогами откладывать свой отъезд. Вот как описывает этот период в письме своему другу, французскому писателю Александру Дюма, графиня Евдокия Ростопчина:
«Отпуск его приходил к концу, а бабушка не ехала. Стали просить об отсрочках, в которых было сначала отказано; их взяли потом штурмом, благодаря высоким протекциям. Лермонтову очень не хотелось ехать…».
Наглость и лицемерие Мишеля просто поражают! Ему предоставили отпуск из ссылки для свидания с престарелой и больной бабушкой, а он, вместо того, чтобы немедленно ехать к ней, развлекается на балах в столице, якобы ожидая её приезда к нему в Петербург. Подобный «аргумент», возможно, казался вполне естественным графине Ростопчиной, но никак не мог обмануть власти, которые, тем не менее, терпели явное неповиновение и без того опального офицера ещё почти месяц, до самого последнего дня апреля. Вот отрывок из воспоминаний А. А. Краевского:
«Он рвёт и мечет, снуёт по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катанье по широкому моему дивану. Я был занят; меня досада взяла:
– Да скажи ты ради Бога, что с тобою, отвяжись, дай поработать!
Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула.
– Понимаешь ли ты! Мне велят выехать в 48 часов из Петербурга.
Оказалось, что его разбудили рано утром: Клейнмихель приказывал покинуть столицу в двадцать четыре часа и ехать в полк в Шуру. Дело это вышло по настоянию гр. Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуске его в отставку».
Конечно, легче всего обвинять во всём графа Бенкендорфа. Но даже если тот и приложил руку к высылке Лермонтова из столицы, то вовсе не потому, что хотел как–то насолить или отомстить Мишелю. Срок отпуска давно прошёл. Формальную причину, по которой он был предоставлен, Мишель демонстративно проигнорировал, вызвав при этом недовольство Двора. В прежние годы Бенкендорф помогал Мишелю, старался максимально смягчить его проступки в глазах императора, из–за чего первая ссылка Лермонтова превратилась в туристическую поездку по Кавказу и была досрочно отменена, даже несмотря на тот факт, что опальный офицер так и не соизволил доехать до места назначения. Однако на этот раз, ни о какой защите или снисхождении по понятным причинам и речи быть не могло.
2 мая 1841 года Лермонтов выехал из Петербурга в Москву. Трясясь в почтовой карете на ухабах и, вдобавок от злости, Мишель сочинил весьма злые стихи на графа Бенкендорфа. Себя, естественно, он, как обычно, считает жертвой обстоятельств и интриг.
Вторая дуэль
Из Москвы Лермонтов выехал на Кавказ в сопровождении всё того же Алексея Столыпина, которого заботливая бабушка попросила приглядеть за своим непутёвым внуком, чтобы тот опять не вляпался в какую–нибудь историю. Как и ранее, Лермонтов не торопился к месту службы, а потому друзья ехали не спеша, с остановками во всех встречных городах.
Прибыв, наконец, в Ставрополь, Лермонтов доложился, как положено, начальству, но отправляться далее, в Шуру, не пожелал, несмотря на настояния Алексея Столыпина. Генерала Граббе на тот момент на месте не было, он уехал в отряд. Но, думаю, даже если бы генерал находился в штабе, то вряд ли и в этот раз предоставил Лермонтову свободу выбора места службы. Как бы там ни было, Мишель применил способ, которым не раз пользовался ранее: пошёл к врачу, взял у того свидетельство о болезни и получил у начальника штаба флигель–адъютанта Траскина новое предписание – отправиться на лечение в Пятигорск, куда тут же и поехал в сопровождении Алексея Столыпина. Почему Лермонтов выбрал именно Пятигорск? Да потому что это был самый весёлый город на Северном Кавказе. Вот как описывает его тогдашние реалии Η.П. Раевский:
«В Пятигорске была жизнь весёлая, привольная; нравы были просты, как в Аркадии. Танцевали мы много, и всегда по простоте. Играет, бывало, музыка на бульваре, играет, а после перетащим мы её в гостиницу к Найтаки, барышень просим прямо с бульвара, без нарядов, ну вот и бал по вдохновению. А в соседней комнате содержатель гостиницы уж нам и ужин готовит. А когда, бывало, затеет начальство настоящий бал, и гостиница уж не трактир, а благородное собрание, – мы, случалось, барышням нашим, которые победней, и платьица даривали. Термалама, мовь и канаус в ход шли, чтобы перед наезжими щёголихами барышни наши не сконфузились. И танцевали мы на этих балах все, бывало, с нашими; таков и обычай был, чтобы в обиду не давать.
Зато и слава была у Пятигорска. Всякий туда норовил. Бывало, комендант вышлет к месту служения; крутишься, крутишься, дельце сварганишь, – ан и опять в Пятигорск. В таких делах нам много доктор Ребров помогал. Бывало, подластишься к нему, он даст свидетельство о болезни, отправит в госпиталь на два дня, а после и домой, за неимением в госпитале места. К таким уловкам и Михаил Юрьевич не раз прибегал».
Конечно, пятигорские балы не идут ни в какое сравнение с петербургскими, но по сравнению с рутиной и трудностями полковой службы и они любому покажутся сущим раем, тем более – ненавидящему армейскую дисциплину Мишелю. Однако натуру Лермонтова в Пятигорске давно знают и отнюдь его приезду не рады. Плац–майор В. И. Чилаев, в доме которого Мишель провёл последние два месяца своей жизни, вспоминал:
«Первую ночь по приезде в Пятигорск они ночевали в гостинице Найтаки. На другой день утром, часов в девять, явились в комендантское управление. Полковник Ильяшенков, человек старого закала, недалёкий и боязливый до трусости, находился уже в кабинете. По докладе плац–адъютанта о том, что в Пятигорск приехал Лермонтов со Столыпиным, он схватился за голову обеими руками и, вскочив с кресла, живо проговорил:
– Ну, вот опять этот сорвиголова к нам пожаловал!.. Зачем это?
– Приехал на воды, – отвечал плац–адъютант.
– Шалить и бедокурить! – вспылил старик. – А мы отвечай потом!.. Да у нас и мест нет в госпитале, нельзя ли их спровадить в Егорьевск?… А?… Я даже не знаю, право, что нам с ними делать?
– Будем смотреть построже, – проговорил почтительно докладчик, – а не принять нельзя, у них есть разрешение начальника штаба и медицинские свидетельства о необходимости лечения водами…»
Как видно из этой цитаты, имевший высоких покровителей вроде как ссыльный офицер Михаил Лермонтов уже и ранее успел значительно попортить кровь пятигорскому начальству, которое, оказывается, не имело ни власти, ни возможности пресечь его «шалости» на корню. А как именно развлекался Мишель, общеизвестно – злословие в адрес окружающих, что в конечном итоге всегда приводило к ссорам. Конфликт с де Барантом – наиболее яркий и показательный пример. Опасения полковника Ильяшенкова оправдались в полной мере. Вот что вспоминала о том времени Эмилия Шан – Гирей:
«В мае месяце 1841 года М. Ю.Лермонтов приехал в Пятигорск и был представлен нам в числе прочей молодёжи.
Он нисколько не ухаживал за мной, а находил особенное удовольствие me taquiner. Я отделывалась как могла то шуткою, то молчаньем, ему же крепко хотелось меня рассердить; я долго не поддавалась, наконец это мне надоело, и я однажды сказала Лермонтову, что не буду с ним говорить и прошу его оставить меня в покое. Но, по–видимому, игра эта его забавляла просто от нечего делать, и он не переставал меня злить. Однажды он довёл меня почти до слёз; я вспылила и сказала, что ежели б я была мужчина, я бы не вызвала его на дуэль, а убила бы его из–за угла в упор. Он как будто остался доволен, что наконец вывел меня из терпения, просил прощенья, и мы помирились, конечно, не надолго».

Князь А. И. Васильчиков
Как видите, Лермонтов не желал учиться на собственных ошибках и продолжал изводить окружающих злыми насмешками. Не избежал их и князь Александр Васильчиков. По словам В. И. Чиляева, князь в первое время часто бывал у Лермонтова, они вместе совершали прогулки. Встречаясь с Мишелем в гостиных общих знакомых, Васильчиков выслушивал, не обижаясь, от него всевозможные шутки, остроты и замечания, пытался отшучиваться в ответ. Но вскоре князю всё это перестало нравиться. Лермонтов бросал ему в глаза клички: «Князь Ксандр», «Дон – Кихот иезуитизма», «князь–пустельга», «дипломат не у дел», «мученик фавора» и другие. Васильчиков оставался вежлив и сдержан, но частые ранее визиты и беседы прекратились, на верзилинские и другие вечера, где присутствовал Лермонтов, он стал приходить изредка и ненадолго. Внешние отношения оставались те же, но близкая товарищеская связь была порвана. И всё же именно князя Васильчикова Лермонтов выберет вскоре своим секундантом, и тот ему в этом не откажет.

Н. С. Мартынов. Акварель Томаса Райта. 1843 г.
Довольно скоро очередь дошла и до Николая Мартынова. Они действительно были с Лермонтовым давними друзьями и извечными соперниками во всём: учебных поединках, литературном творчестве, успехах у дам, в служебных достижениях. Это, по–видимому, явилось дополнительной причиной того, почему Лермонтов среди всех присутствовавших в то время в Пятигорске людей, выбрал для издевательств именно Николая Мартынова. Мишелю, наверно, просто физически было необходимо продемонстрировать собственное превосходство над очевидно более успешным соперником. А то, что Мартынов во всём превосходил Лермонтова, было ясно всем, и в первую очередь – самому Мишелю, чего он, конечно, никак не мог стерпеть. Во–первых, в двадцать пять лет Мартынов уже проявил себя храбрым командиром в войне на Кавказе, был награждён боевым орденом и званием майора, в то время как окончивший военную школу на год ранее него Лермонтов никаких наград не имел и дослужился всего лишь до поручика. Во–вторых, красавец Мартынов просто затмевал невзрачного Мишеля, пользовался успехом у женщин, хорошо танцевал, неплохо пел и тоже писал стихи. Вот как описывает его С. Н. Филиппов в статье «Лермонтов на Кавказских водах», опубликованной в 1890 году в журнале «Русская мысль»:
«Тогда у нас на водах он (Николай Мартынов – С. К.) был первым франтом. Каждый день носил переменные черкески из самого дорогого сукна и все разных цветов: белая, чёрная, серая и к ним шёлковые архалуки такие же или ещё синие. Папаха самого лучшего каракуля, чёрная или белая. И всегда всё это было разное, – сегодня не надевал того, что носил вчера. К такому костюму он привешивал на серебряном поясе длинный чеченский кинжал без всяких украшений, опускавшийся ниже колен, а рукава черкески засучивал выше локтя. Это настолько казалось оригинальным, что обращало на себя общее внимание: точно он готовился каждую минуту схватиться с кем–нибудь…
Мартынов пользовался большим вниманием женского пола. Про Лермонтова я этого не скажу. Его скорее боялись, т. е. его острого языка, насмешек, каламбуров…»
Пятигорское «общество» обычно собиралось в доме трёх сестёр Верзилиных. Танцевали, играли в карты, веселились, кто как мог. Вот там Мишель и начал ежедневно, неустанно изводить насмешками Николая Мартынова. Вышедший недавно в отставку майор хотел жениться и завести семью. Ему понравилась младшая из сестёр, Надежда Верзилина, и он начал ухаживать за ней. Конечно, в таких обстоятельствах Мартынову весьма досаждали публичные и при этом злые насмешки Лермонтова. Но он терпел, несколько раз по–дружески просил Мишеля прекратить их, однако тот не унимался. Наконец, терпение майора закончилось. На одном из балов, когда очередная злая шутка Лермонтова прозвучала на весь зал, Мартынов побледнел, подошел к Лермонтову и в явном раздражении сказал:
– Сколько раз я просил не шутить обо мне при дамах…
Когда майор отошёл, Лермонтов только улыбнулся:
– Ничего, завтра опять мы будем добрыми друзьями.
Позднее, на том же вечере, Лермонтов на ломберном столе нарисовал Мартынова с засученными рукавами и с большим кинжалом, потом подозвал Надежду Верзилину и показал ей эту карикатуру. При этом Мишель насмешливо спросил:
– Возможно ли, чтобы вы с ним соединились?
Девушка вспыхнула и отошла в сторону. Эта сцена, которую не мог не видеть Николай Мартынов, явилась для майора последней каплей, переполнившей чашу терпения. На следствии Н. С. Мартынов 17 июля 1841 года дал показания о том, что случилось позднее:

М. П. Глебов
«Я решился положить этому конец. При выходе из этого дома, я удержал его за руку, чтобы он шёл рядом со мной; остальные все уже были впереди. Тут, я сказал ему, что я прежде просил его, прекратить эти несносные для меня шутки, но что теперь предупреждаю, что если он ещё раз вздумает выбрать меня предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял раз сряду: что ему тон моей проповеди не нравится; что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, и в довершение сказал мне: «Вместо пустых угроз, ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я от дуэлей никогда не отказываюсь, следовательно, ты никого этим не испугаешь».
В это время мы подошли к его дому. Я сказал ему, что в таком случае пришлю к нему своего Секунданта, и возвратился к себе. Раздеваясь, я велел человеку, попросить ко мне Глебова, когда он приедет домой. Через четверть часа вошёл ко мне в комнату Глебов, я объяснил ему, в чём дело; просил его быть моим Секундантом и по получении от него согласия, сказал ему, чтобы он на другой же день с рассветом, отправился к Лермонтову. Глебов попробовал было меня уговаривать, но я решительно объявил ему, что он из слов самого же Лермонтова увидит, что в сущности, не я вызываю, но меня вызывают, и что потому мне не возможно сделать первому, шаг к примирению».
Дуэль состоялась во вторник 15 июля 1841 года между шестью и семью часами вечера. Это самый загадочный поединок в истории русских дуэлей, потому что долгое время не было точно известно место её проведения, а количество участников вызывает споры историков до сих пор. Точно известны только имена секундантов – князь А. И. Васильчиков и корнет М. П. Глебов. Постоянный спутник Лермонтова Алексей Столыпин вроде как отсутствовал, что само по себе просто невероятно. Обязательного в таких случаях врача почему–то тоже не было!
После последней ссоры с Мартыновым Лермонтов вернулся к себе в Железноводск и купил там билеты на пять лечебных водяных сеансов. Днём 15 июля Мишель побывал на пикнике в шотландской колонии в Карасе, плотно пообедал, не заботясь о возможном ранении в живот, и спокойно отправился к месту дуэли. Или он наивно верил в то, что «завтра опять мы будем добрыми друзьями», или, как и герой его повести, был фаталистом. После многих кровопролитных сражений, в которых Лермонтов ни разу не был даже ранен, он уверовал в собственную неуязвимость, а потому не принял всерьёз вызов Мартынова.
А вот Николай Мартынов вынужден был вести себя иначе. Спустя много лет он рассказывал Д. А. Столыпину, что «отнёсся к поединку серьёзно, потому что не хотел впоследствии подвергаться насмешкам, которыми вообще осыпают людей, делающих дуэль предлогом к бесполезной трате пыжей и гомерическим попойкам».
Кроме того, расслабляться не позволяли выдвинутые Лермонтовым весьма жёсткие условия дуэли: стреляться до трёх раз при барьерах в 15 шагов (10,5 метра). Очевидно, выдвигая подобные условия, Лермонтов воображал себя Печориным, а Мартынова – Грушницким. И результат дуэли, наверно, виделся ему таким же, как он описал его в своём романе «Герой нашего времени».
Аналогий много. Грушницкий моложе и внешне красивее Печорина. Он позже получает офицерское звание, но уже имеет награду за храбрость – георгиевский крест. Грушницкий, как и Мартынов, просто принуждён к дуэли необходимостью защищать собственную честь в глазах товарищей и общества. Точно так же вынужден он и согласиться на явно смертельные условия.
И хоть Лермонтов постарался изобразить Грушницкого трусом и подлецом, вдумчивый читатель никак не может согласиться с подобной оценкой. Ведь Грушницкий вовсе не лгун и не подлец. И он, и драгунский капитан говорили чистую правду, так как были искренне уверены, что Печорин на их глазах выходил ночью от княжны Мери. От кого же ещё? Истинную любовницу Печорина никто из них не мог даже заподозрить в подобной связи, а вот за княжной Мери тот демонстративно ухаживал.
Но, несмотря на все гадости, что Печорин сделал Мери и Грушницкому, последний яро спорил с капитаном и долго не соглашался на дуэль. И вовсе, как вы понимаете, не из трусости, раз уж он являлся георгиевским кавалером, а в пистолете противника должна была отсутствовать пуля. Это Печорин настоял на поединке, практически точно так же, как сам Лермонтов вынудил Мартынова сделать вызов. Даже перед самой дуэлью Грушницкий всё ещё готов был на примирение. На предложение доктора Вернера окончить поединок миром, он отвечает:
«Объясните ваши условия, и всё, что я могу для вас сделать, то будьте уверены…».
Но Печорин отверг предложенный мир и выставил неприемлемые условия прекращения дуэли: потребовал от Грушницкого публичного признания во лжи, в то время как тот был полностью уверен в собственной правоте! И всё же Грушницкий нашёл в себе силы выстрелить мимо, потому что промахнуться в тех условиях было невозможно даже штатскому, впервые взявшему пистолет в руки. И уж тем более не мог дать промах боевой офицер, почти год проведший в стычках с черкесами, награждённый «георгием» за храбрость. Грушницкий пощадил Печорина, публично оскорбившего его обвинением во лжи, разрушившего его счастье, предавшего былую дружбу, опозорившего его любимую. А вот Печорин не промахнулся. Так кто же из них двоих – подлец?
Однако, жизнь – это не роман. Отсутствие на месте поединка доктора говорит о том, что все её участники рассчитывали на мирный исход. Трагические последствия не нужны никому, в первую очередь самому Лермонтову, и так официально отбывающему ссылку за дуэль. На этот раз в случае огласки он получил бы каторгу или пожизненно попал в солдаты. А ведь Мишель планировал выйти в отставку и написать грандиозный роман–эпопею, чего конечно не мог бы исполнить в случае разжалования в рядовые. Князю Васильчикову, корнету Глебову и другим секундантам и свидетелям дуэли, оставшимся официально неназванными, тоже грозило серьёзное наказание. Очевидно, что сам факт поединка изначально планировали скрыть, поэтому не только врача, но и слуг с собой не взяли. Все участники дуэли рассчитывали на примирение сторон и даже привезли на место дуэли ящик шампанского, чтобы отпраздновать благополучное разрешение конфликта.
Дуэль началась, но никто не стреляет! Почему не стрелял Лермонтов? Хотел, как Печорин, поставить эффектную точку после промаха Мартынова? Это при таких–то условиях дуэли? Любой промах превратит её в фарс, а Мартынова – во всеобщее посмешище. Но, тем не менее, Мартынов, как и Грушницкий, медлит, всё ещё надеясь на мирный исход. Однако Лермонтов, вопреки ожиданиям, не извинился и не сделал никакой попытки примирения. Время идёт, начался дождь с грозой. Потеряв терпение, кто–то из секундантов крикнул:
– Стреляйте, или я развожу дуэль!
На что Лермонтов с высокомерным презрением громко ответил:
– Стану я стрелять в такого дурака!
Ещё одного оскорбления Мартынов снести уже не смог. Как он говорил позже: «Я вспылил. Ни секундантами, ни дуэлью не шутят… и опустил курок».
Когда Лермонтов упал, Мартынов подошёл к нему, попросил прощения, поцеловал и быстро уехал. Этот поцелуй позднее поклонники поэта назовут «поцелуем Иуды». С чего вдруг у них возникла подобная аналогия, понять трудно. Ведь это Мишель предал дружбу с Мартыновым. Мнение же, что поэту позволено больше, чем другим, я не разделяю, если речь, конечно, не идёт о творчестве.
Секунданты, видимо, были в шоке от произошедшего. Они даже не стали проверять, жив ли Лермонтов, и уехали сразу же вслед за Мартыновым. Позднее, на суде, и князь Васильчиков, и корнет Глебов уверяли, что Лермонтов умер сразу. Почему они не забрали тело с собой, а оставили его лежать под проливным дождём? Это же были самые близкие на тот момент друзья Мишеля, раз их пригласили в секунданты и организаторы дуэли, факт которой необходимо было бы в дальнейшем скрывать. Объяснение, на мой взгляд, может быть только одно: они возненавидели Лермонтова за то, что тот в одночасье разрушил их карьеры и планы на будущее, ведь теперь их ждало неизбежное наказание за участие в дуэли со смертельным исходом.
Вернувшись в город, они приказали слугам доставить тело Лермонтова, указав, где его искать. Пока те нашли арбу, пока доехали до места дуэли, прошло три часа. Слуга Михаила Лермонтова Христофор Саникидзе говорил позднее, что его хозяин был ещё жив, когда его нашли, громко стонал и умер лишь на полпути в город. О чём думал Мишель в свои последние часы, брошенный умирать в одиночестве под холодным дождём ближайшими друзьями, среди которых по некоторым данным был и Алексей Столыпин? Кого винил в произошедшем?
Лермонтоведы упорно продвигают версию, что бездарь Мартынов убил Лермонтова из зависти к литературным успехам последнего. По их мнению, повод для дуэли – ничтожен, значит, «логически» выводят они, у Мартынова были иные причины для убийства Лермонтова. А какие могут быть иные причины? Выбор невелик: либо зависть, либо некто (понимай – император) руками глупого майора убрал «неудобного поэта». Но поставьте себя на место Эрнеста де Баранта, Николая Мартынова или любого другого, кого Мишель публично оскорблял и изводил насмешками. Покажется ли вам тогда повод дуэли ничтожным? Вот как рассказывал о своей встрече с уже престарелым Николаем Мартыновым граф А. А.Игнатьев, автор известной книги воспоминаний «Пятьдесят лет в строю»:
«Я встречал Мартынова в Париже. Мы, тогда молодые люди, окружили его, стали дразнить, обвинять:
– Вы убили солнце русской поэзии! Вам не совестно?!
– Господа, – сказал он, – если бы вы знали, что это был за человек! Он был невыносим. Если бы я промахнулся тогда, то я бы убил его потом… Когда он появлялся в обществе, единственной его целью было испортить всем настроение. Все танцевали, веселились, а он садился где–то в уголке и начинал над кем–нибудь смеяться, посылать из своего угла записки с гнусными эпиграммами. Поднимался скандал, кто–то начинал рыдать, у всех портилось настроение. Вот тогда Лермонтов чувствовал себя в порядке…»
Конечно, можно не верить Мартынову, но есть ещё мемуары бывшего сослуживца Лермонтова, свидетеля тех событий в Пятигорске, всё того же Александра Арнольди:
«Мы все, его товарищи–офицеры, нисколько не были удивлены тем, что его убил на дуэли Мартынов… не Мартынов, так другой кто–нибудь…»
А вот воспоминания ещё одного очевидца, В. Эрастова:
«От него [Лермонтова – С. К.] в Пятигорске никому прохода не было. Каверзник был, всем досаждал. Поэт, поэт!.. Мало что поэт. Эка штука! Всяк себя поэтом назовёт, чтобы другим неприятности наносить…
Вы думаете, все тогда плакали? Никто не плакал. Все радовались… От насмешек его избавились. Он над каждым смеялся. Приятно, думаете, насмешки его переносить? На всех карикатуры выдумывал. Язвительный был…
[Я] видел, как его везли возле окон моих. Арба короткая… Ноги вперёд висят, голова сзади болтается. Никто ему не сочувствовал».
По словам же князя Александра Васильчикова, бывшего во время той роковой дуэли секундантом, высшее петербургское общество встретило известие о гибели Лермонтова словами: «Туда ему и дорога…». Так что причина для дуэли у Николая Мартынова была вполне веская.
На суде каждый из секундантов, и князь Васильчиков, и корнет Глебов, заявлял, что именно он оставался с телом Лермонтова, после того, как все остальные уехали, и эта путаница нагляднее всего свидетельствует о том, что Мишеля бросили, как бродячую собаку, подыхать в одиночестве. Более того, эти записные друзья Лермонтова сразу же после дуэли дружно бросились спасать Мартынова! Давали ему советы, как лучше всего себя вести, в какие инстанции обращаться, что говорить на суде. В том числе и ближайший друг и родственник Мишеля – Алексей (Монго) Столыпин! Ни у кого из них не было никаких претензий к Николаю Мартынову. Что это, как не явное признание его правоты, а значит, и достаточной весомости повода для дуэли со смертельным исходом? От Печорина в подобной ситуации после смерти Грушницкого отвернулись все, даже доктор Вернер.
В соответствии со «Сводом военных постановлений» суд приговорил Мартынова, Глебова и Васильчикова к «лишению чинов и прав состояния». Военное начальство, однако, приняв во внимание обстоятельства дуэли, сочло нужным смягчить наказание: Мартынова было приказано лишить «чина, ордена и написать в солдаты до выслуги без лишения дворянского достоинства», а Васильчикова и Глебова «перевести из гвардии в армию тем же чином».
Бенкендорф доложил все подробности дела императору, и тот, наверно, весьма недовольный тем, что Лермонтов вместо исправной службы по месту назначения и искупления вины за дуэль с де Барантом, развлекался на балах в Пятигорске и своим недостойным русского офицера поведением вновь спровоцировал дуэль, постановил:
«Майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию. Титулярного же советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной тяжёлой раны».