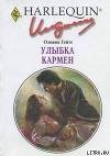Текст книги "Кармен и Бенкендорф"
Автор книги: Сергей Тютюнник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Тютюнник Сергей
Кармен и Бенкендорф
Сергей ТЮТЮННИК
Кармен и Бенкендорф
Повесть
I
Скандал зависает над головой деда, как свинцовый нимб. Дед ничего не чувствует, потому что стоит спиной к публике, собравшейся на ежедневный утренний брифинг в министерстве культуры, и высмеивает глупые вопросы. А я вижу Тамаева, который отделяется от толпы корреспондентов и идет к нам через вестибюль. Тамаев идет вкрадчивой походкой придворного поэта с фальшивой улыбкой. В углу полуоткрытого рта сияет золотой зуб. Азиатский блеск его адресован мне и телевизионщику из Москвы. Мы стоим рядом и слушаем утомленного брифингом деда. Он уже меняет иронию на раздражение и вспоминает провокационные вопросы газетчика из Махачкалы по поводу беженцев и мирных жителей в зоне боевых действий. Я не знаю, чем собирается закончить свою речь Соломин, потому что приклеиваюсь взглядом к красивой брюнетке в толпе журналистов, и не успеваю предупредить его о Тамаеве.
– Еще генерал Ермолов в свое время говорил: на черта нам был нужен этот договор с Грузией; теперь из-за грузин придется воевать со всем мусульманским Кавказом, – устало говорит дед, поглядывая поверх очков то на меня, то на столичного посланца первого телеканала. – Грузины нас в конце концов предали, а некоторые народцы-уродцы по северную сторону хребта остались... Точат свой кинжал.
Тамаев слышит эту фразу, находясь уже у Соломина за плечом. Улыбка его линяет, золотой зуб гаснет, и я вижу удаляющийся черный с проседью затылок. – Тамаев все слышал, – говорю Соломину и цепенею.
– Что слышал? – не понимает дед, и оправа его очков сверкает, как золотой зуб Руслана Тамаева.
– Что на Кавказе не народы, а народцы-уродцы, – и для подтверждения смотрю на плакатно-рекламное лицо телевизионщика.
– А откуда он, этот Тамаев? – спрашивает москвич и достает из кармана толстую сигару "Роберт Берне" в серебристой обертке.
– Из пресс-службы местного правительства, – я отрываю взгляд от поэтической сигары и сталкиваюсь с болотно-серыми глазами телевизионщика. – Но активно подсиживает пресс-секретаря президента республики. И, по-моему, стукач.
– Гнида? – лениво спрашивает москвич и сдергивает серебристые одежды с "Роберта Бернса".
– Проходимец, – роняет Соломин и вынимает из кармана пиджака сигареты "Новость".
Гулко стучит дверь вестибюля. Выходят корреспонденты, на ходу одеваясь в турецкие кожаные куртки на меху.
– Где вы их достаете? – тележурналист упирается взглядом в ископаемые дедовские пахитоски. – Их Брежнев курил в свое время.
– А мы подражали, – дед прикуривает от длинной импортной спички, изящно зажженной москвичом. – Я имею в виду тех, кто работал в центральном аппарате в те времена. В том числе и наш Главлит. Равнялись на "дорогого Леонида Ильича".
– Так их разве еще выпускают? – не унимается телевизионщик, наблюдая глубинный кашель деда после пары затяжек "Новостью", и вставляет "Бернса" в свои пухлые губы.
– Найти трудно, но можно. Мне сюда на Кавказ жена целый ящик передала из Москвы.
– Да-а,... – вздыхает журналист, – кто-то вышел из гоголевской шинели, ктото из сталинской, а кто – из дыма "Новостей".
– Не наглей, Глеб, – тут же реагирует Соломин. – Ты мне молодого майора испортишь, – и смотрит на меня поверх очков вылинявшими от возраста глазами.
Мой взгляд никак не отклеится от высокой брюнетки, она все еще стоит у входа в зал. Среди журналистов красивые женщины – редкость. Откуда она взялась?
– А я что – старый, Виктор Алексеевич? – улыбается москвич. – Мне сорок всего.
– Сорок лет, а пузо отрастил больше, чем у меня, семидесятилетнего, Соломин бросает окурок в урну.
– А вам что, семьдесят? – Глеб картинно выпускает клубы сигарного дыма.
– Будет. Через год, – вздыхает дед и резко расправляет ссутулившиеся было плечи, стараясь обозначить выправку. – Я на пять лет старше твоего отца, царство ему небесное. Пора уже и о душе подумать.
– Ну, глядя на вас, не скажешь, что почти семь десятков позади, льстит телевизионщик, и болотные глаза его теплеют. – Вид у вас гвардейский, "тройка", будто мундир сидит. От сигарет не отказываетесь, да и водочкой, небось, еще балуетесь?..
– Есть грех, – после приступа кашля Соломин достает платок и промокает огромный розовый лоб, обрамленный очень чистой сединой. – И потом я ведь бывший десантник. Нам без лихости нельзя.
– Так, может, где-нибудь посидим, выпьем-закусим? – не унимается Глеб.
– Рад бы, – апоплексические лиловые щеки деда вздрагивают, – да нельзя.
Сейчас наверняка президент вызовет.
– Думаете – стуканет Тамаев? – включаюсь в разговор с вопросом, хотя знаю ответ.
– Руслану выслужиться надо, место хлебное добыть, – вздыхает дед. Конечно, стуканет. Тем более, что не любит он меня. Хотел в пресс-службу нашу устроиться, чтобы второй оклад получать, а я в штат попросил у федерального центра военного журналиста.
– Меня то есть?
– Прислали тебя, – бликует оправой Соломин. – А ты думаешь, откуда в федеральной правительственной структуре армейцы? Я настоял.
– А Марьин не возражал?
– Чего ему возражать? Меня же он вытащил из отставки. Значит, понял, что в таких делах, как вооруженные кавказские разборки, без нашего брата военного не обойтись. Даже в условиях свободы прессы. Получается, что сейчас, в феврале девяносто третьего, я так же нужен властям, как и десять лет назад.
– Марьин – это тот бородатый хам, которого в свое время не без вашей помощи выдворили из СССР? – удивляется Глеб.
– Ну, выдворили, – улыбается углом рта дед, – ну и что? Он пожил лет пять во Франции и вернулся после августа девяносто первого. Кстати, у нас сохранились прекрасные отношения. Парень он талантливый, журналист от Бога... Я его предупреждал в свое время, чтоб не зарывался. Но ему нравилось быть диссидентом.
– Странно, – продолжает москвич, – бывший диссидент, боровшийся с тоталитаризмом, сразу после возвращения вытащил из забвения бывшего главлитовца, вернул его на госслужбу, а сам устроил такую диктатуру и цензуру здесь, в прессслужбе, что Москву жалобами завалили все журналисты, кто сюда приезжал.
– Боролся он, дорогой ты мой, – приглаживает седину Соломин, – не с тоталитаризмом, а с дураками в ЦК и правительстве. И в этом я с ним был согласен.
– Поэтому-то Марьина и отозвали в Москву, – хихикает Глеб.
– Марьин был хам и гомосек! – не выдерживаю я.
– Кто сказал, что Марьин гомосек? – хмурит брови дед. – Он был женат, у него сын растет...
– Я сказал. – И опускаю глаза.
– Нет, ты договаривай! – оживляется телевизионщик и, запрокинув голову, выпускает дым сигары в потолок.
Я вижу его искрящиеся глаза и понимаю, что нужно рассказывать все, иначе он напридумывает невероятных гадостей.
– Да так, ничего особенного не было, – опускаю взгляд в кафель пола. Сначала меня удивляло, что он грубит всем, кроме меня и Виктора Алексеевича, а потом стал приобнимать за талию (как-то по-девичьи), целоваться в губы полез на пьянке... И потом – эти ужимки...
Я испытываю неловкость и замолкаю. У москвича растянуты губы в улыбке, в глазах – дурной огонек. Дед, заложив руки за спину, начинает раскачиваться на носках. Это, как я успел заметить, признак недовольства.
– Ты больше никому об этом не говори, – негромко произносит Соломин, не поднимая глаз. – Мало ли, как могут повернуть это в сплетнях. Здесь, на Кавказе, не любят такого. Потом скажут: приехали тут у нас порядок наводить из Москвы, а сами...
Без голубых, мол, разберемся. Сепаратизм – он иногда базируется на невинных, казалось бы, вещах.
– На сексуальной ориентации, – хмыкает Глеб.
– А ты думаешь, нет? – вскидывает голову Соломин. – Вспомни анекдоты про кавказцев. Все народы в анекдот про представителей другой национальности вкладывают свое неприятие чужих ценностей и привычек: русские – пьяницы, евреи – хитрые жадины, украинцы – салоеды, прибалты заторможенные... На этом бытовом уровне и поддерживается национальная рознь. А потом выплескивается в резню.
– Эк вы хватили, Виктор Алексеевич, – крутит головой телевизионщик.
– Я не хватил. Я знаю это еще по Западной Украине, где с бандеровцами воевал.
А потом здесь вот, на Кавказе, уже который год работаю. То Карабах, то Сумгаит, то Абхазия, то теперь вот осетины с ингушами...
– Ну, и что прикажете делать? – Глеб вертит в руках дымящегося "Бернса". – Анекдоты не рассказывать?
Пока идет спор, я слежу за высокой брюнеткой в черных брюках и желтом свитере. Из всех журналистов, присутствовавших на брифинге, осталась только она.
Остальные ушли. Девушка долго смотрит в нашу сторону. Я приметил ее еще в зале.
Она была без диктофона и не задавала вопросов. Хотя слушала внимательно все, о чем говорили. Мне кажется, она хочет подойти и что-то спросить, но ждет окончания нашего разговора.
– ...Ой, брось ты ёрничать! – сдержанно говорит дед и опять начинает раскачиваться на носках. – Давить всех нужно железной имперской рукой.
– По-сталински, – ухмыляется телевизионщик.
– Ты знаешь, что я сейчас читаю? – делает неожиданный поворот Соломин и строго смотрит на Глеба. Сейчас дед очень напоминает сердитого филина.
– "Краткий курс истории ВКП(б)", – прыскает в кулак журналист.
– Дурак ты пузатый, – дед улыбается, поблескивая оправой очков. – А читаю я Булгарина. Того самого, которого в нашей советской литературе ругали в угоду Белинскому.
– Ничего удивительного. Вы в Главлите рулили. Надо ж было иметь идейную основу для цензуры. Только бумажками из ЦК морально не укрепишься.
– Так вот знай, что Булгарин противился "вольнодумству", потому что прекрасно понял, до чего оно доводит.
– До чего? – настораживается Глеб.
– До того ужаса, который случился в семнадцатом году!
– Так вы же завоевания этого ужаса защищали всю свою сознательную жизнь! – кипятится журналист.
Тут я закуриваю от волнения. Подняв голову, обнаруживаю, что девушка в желтом свитере исчезла.
– Глеб, голубчик, – вздыхает Соломин. – Любой порядок, даже самый жесткий, лучше хаоса. Я защищал страну от повторения этого ужаса. К сожалению, не получилось. История повторяется.
– Ладно, – не выдерживает Глеб. – Спор этот вечен и бесконечен...
– Не суетись! – спокойно тормозит его дед. – Дослушай... Так вот, чтобы этот хаос не усугублять, я "добро" на ваш фильм не дам. Делай свой "Салам!", раз уж ты подписался на деньги. Но имей в виду: буду принимать все меры, чтобы на центральных каналах он не прошел! – Соломин раскачивается на носках и хмурит седые брови.
– Виктор Алексеевич! – прикладывает левую руку к груди журналист. – Я вас прошу: не делайте резких заявлений. А вдруг вам кино понравится? – и заискивающая улыбка возникает на рекламном лице Глеба.
– Как оно может понравиться, – вскидывает плечи дед, – если ты собираешься его клеить на чечено-ингушские деньги?! Наверняка будет тенденциозность. Зацепите там и депортацию, и русских с осетинами, и дагестанцев... Я себе представляю!
– Ну, Виктор Алексеевич, – кривится Глеб, – только не торопитесь с выводами.
Я все сделаю на приличном уровне... Все! Ничего больше не говорите! Бегу. Меня оператор ждет, – и телевизионщик выбрасывает в урну почти сгоревшего "Роберта Бернса".
У двери он оборачивается:
– Вечером постараюсь заскочить к вам в гостиницу. Может, по стопочке опрокинем... – и исчезает в гардеробе.
II
– О каком фильме шла речь? – спрашиваю Соломина по дороге в Дом правительства, где располагается наша пресс-служба.
– "Салам!", – дед смотрит под ноги, чтобы не поскользнуться на утоптанном снегу. – Ингуши и чеченцы решили сделать документальное кино под таким названием про страдания вайнахского народа. Деньги большие собрали на это дело.
А чтобы на профессиональном уровне было сработано, предложили нескольким московским телевизионщикам. В том числе и Глебу.
На Соломине серое драповое пальто и берет. Дед похож на ветерана французского Сопротивления.
– А кто он такой, этот Глеб? Слишком вольно с вами разговаривает. С другими вы ведете себя строже.
– Он сын моего старинного приятеля. Писатель был никудышный, но мужик порядочный. Царство ему небесное. Я Глеба с детства знаю. Парень хороший, но деньги любит. Вот и подписался на этот "Салам!", – дед приостанавливается: – Да не лети ты так! Я понимаю – ноги у тебя молодые, майорские... Но меня-то, старикагенерала, побереги. Тем более, что после вчерашнего у меня аж сердце заходится...
– Может, пивка для рывка? – произношу я фразу, с которой начинается каждое утро в нашей пресс-службе.
– Сколько раз вам повторять, господин майор, что пиво не строевой напиток, – повеселевшим голосом начинает похмельную игру дед. – Сколько там эта "злодейка" стоит?
– Ваше превосходительство! – подхватываю в том же тоне. – Не говорите о деньгах. Деньги – прах. Разрешите произвести контрольную закупку в ближайшей торговой точке?!
– Произведите, произведите, – из глаз деда летит искорка: то ли от золотой оправы очков, то ли из души, возгорающейся надеждой на поправку.
В нашем кабинете с двумя окнами, выходящими во двор Дома правительства республики, в шкафу стоит початая банка огурцов. Непрерывно трещат все три телефона (московский, городской и внутренний). Мы с дедом трубки не поднимаем и успеваем выпить по стопке. Наши искривленные рты еще с хрустом крошат огурцы, когда прибегает посыльный из президентского крыла здания.
– Вам звонят-звонят, а вы не отвечаете! – выпаливает он от двери. Президент просит зайти к нему Виктора Алексеевича Соломина, начальника пресс-службы федерального управления на Северном Кавказе, – добавляет курьер официальным тоном.
– Здравствуй, жопа, Новый год! – вылетает у меня изо рта вместе с огуречной семечкой. – Ну, Руслан, гнида!..
– Ты информационной сводкой займись! – раздраженно срезает меня Соломин, косится на посыльного, окаменевшего в дверях, и начинает медленно расчесывать редкую свою седину. – Иди, голубчик, – курьеру. – Спасибо. Скажи – сейчас буду.
Только когда молодой человек уходит, дед дожевывает огурец. Как он с таким балластом во рту разговаривал? Это школа – догадываюсь я и начинаю шебуршить бумагами на столе. "Сводка!"
Дед кладет расческу в карман.
– Я даже знаю, как он начнет разговор: "Что вы себе позволяете?! Мы здесь надеялись, что вы нам помогаете установить в республике и регионе мир и спокойствие. Однако до меня дошла информация..." Дальше текст зависит от того, какую информацию вложил ему в уши Тамаев, – дед закуривает коротенькую свою сигаретку "Новость".
– Вы думаете, он еще и приврал? – искренне удивляюсь я.
– А почему бы и нет? Андрей, голубчик, им нужен тут человек управляемый – кого можно купить или запугать, чтобы скачивать в прессу только выгодную для местного руководства информацию... Марьин был хам, да. Но Марьин был независим и регулярно пил водку с Ельциным на даче. Тем не менее они его свалили. Свалят и меня. Зачем я им такой: пытались купить – я обиделся. Говорю: "Я деньги не люблю, я люблю Родину...".
– Марьин еще любил мальчиков, – брякаю, сам не зная зачем.
– Эх, господин майор! – вздыхает Соломин. – И что у вас в голове? Из всех социальных потрясений вас волнует только сексуальная революция, – и улыбается печальными глазами.
– Ваше превосходительство, – опускаю взгляд в пол, – я не верю, что он добьется у Москвы вашей отставки.
– Напрасно. Москва настолько ослабела за эти несколько лет, что заглядывает в рот каждому местному князьку.
– Помогай вам Бог! – крещу деда и прячу недопитую бутылку в шкаф.
– Жди меня, и я вернусь, – грустно шутит Соломин и его сутулая спина в темносером пиджаке исчезает в дверном проеме.
Я звоню в штаб объединенной группировки федеральных войск, чтобы узнать последние данные о нападениях на наши блок-посты, о количестве убитых и раненых... Затем в пресс-службу МЧС – насчет гуманитарной помощи беженцам... И так по кругу, во все ведомства, сгрудившиеся на этой очередной кавказской войне. За информационной сводкой (второй за сутки) журналисты хлынут после обеда, чтобы успеть передать все цифры и факты в свои конторы к вечерним выпускам новостей.
Часть сведений я им не сообщаю. Мы с дедом давно уже отработали свою методику цензуры...
Соломин возвращается через час. Щеки у него багровые. Он молчит и ходит взадвперед по кабинету, не замечая меня.
Я наливаю полстакана водки. У деда трясется рука, и он еле выпивает, чуть не уронив стакан. Водка проливается ему на подбородок. Дед достает платок и аккуратно утирается.
– Еще давай, – говорит спокойно, – и огурчик! Что-то сердце придавило. Так можно и отходняк поймать, как говорят зэки.
– Виноват, – вскакиваю и бросаюсь к шкафу. – Один секунд.
Соломин выпивает почти всю бутылку. Я лишь обозначаю компанию.
– Проводи меня, деточка, до гостиницы. Боюсь, разберет по дороге. Не дойду.
Потом вернешься сюда и еще поработаешь. Знаю – не подведешь старика.
Я надеваю свою камуфляжную куртку с серым цигейковым воротником и фуражку с двуличным орлом. Поправляю черный берет на соломинской голове и беру его под руку...
Снег поскрипывает у нас под ногами.
– Обедать будете? – спрашиваю деда.
– У меня там что-то есть в холодильнике. Не волнуйся.
До гостиницы идти недалеко. Минут десять без деда, двадцать – с ним, если пьяный.
Долго держаться не могу и осторожно закидываю удочку:
– Ну, как прошел разговор?
– Философски, – ювелирно парирует Соломин.
– Пытался вас воспитывать? – не унимаюсь я.
– Не очень настойчиво, – ускользает дед.
– Скажите правду, Виктор Алексеевич! – срываюсь окончательно. – Он будет выходить на Москву, чтоб вас отставить?
– Думаю, да. – Дед кашляет, наглотавшись чистого зимнего воздуха. Его прокуренные легкие отвыкли от атмосферы предгорья.
– А Москва его послушает? – и дергаюсь, пытаясь удержать поскользнувшегося на спуске Соломина.
– Если убрали Марьина, то меня и подавно. Я ведь, голубчик, – обломок империи. Многим мешал в свое время. Фактически – главный цензор страны, душитель свободы. Эдакий граф Бенкендорф с партбилетом.
– Ну, они все были с партбилетами. Это не порок, – неловко пытаюсь утешить старика.
– Это как повернуть...
Мы замолкаем. Возле гостиницы, как всегда, – куча вооруженного народа:
омоновцы, военные, милиция... Стадо машин урчит моторами, выплескивая в зимний день горячий едкий дым.
Дед окончательно расслабляется уже в номере. Я раздеваю его, как ребенка.
Меня потешают его старомодные длинные трусы и носки на подтяжках, резинки – под коленками. Я укладываю деда в постель, не снимая носков, и вставляю в рот зажженную сигаретку "Новость". Очки кладу на тумбочку.
– Хороший ты мальчик, Андрей, – бубнит Соломин. – Мне бы сына такого. Да вот не дал Бог детей. Жену сменил, а детьми своими не обзавелся.
Я молча слушаю и жду полминуты: старик обычно засыпает с горящим окурком.
Дед отключается, и я тушу бычок. Все. "Спи, империя! Твое бодрствование все равно не остановит гуннов..."
III
Во мне бродит пьяная кровь, и я пою на ходу. В такт песни скрипит под ногами снег. В темных переулках, словно сытые коты, урчат бронетранспортеры. Уже комендантский час. На улице безлюдно. В воздухе плавают редкие снежинки, подкрашенные фиолетом ночи и желтизной фонарей.
На моей груди греется документ, дающий право ходить где угодно и когда угодно.
Я не боюсь патрулей и не смотрю по сторонам. Я слежу за своей тенью, привязанной к беспутным ногам. Тень летит по снегу, уклоняясь от света. Она сворачивает с центральной улицы в переулок и, вытянувшись на склоне, скользит вниз, к реке.
Черный женский сапожок наступает ей на "голову", увенчанную овалом от фуражки.
Навстречу мне медленно поднимается девушка в ярко-красной дутой куртке со скрещенными на груди руками. Но в эту минуту я равнодушен к людям и продолжаю петь. Глеб пришел в пресс-службу и напоил меня коньяком. Уговаривал соблазнить деда на участие в фильме "Салам!". Я не поддался, несмотря на магарыч, и теперь радуюсь.
– Все поёшь, майор? – устало роняет девушка, не поворачивая головы.
Я слышу это уже затылком, теряю равнодушие к человечеству и разворачиваюсь.
– Почему бы нам не спеть дуэтом? – наполняюсь гусарской лихостью и притираюсь к пуховой куртке.
– Извини. Я жалею, что заговорила. – В ее голосе – неподдельное равнодушие.
Голова девушки непокрыта, и черные длинные волосы ленивыми волнами стекают на плечи, вылавливая из ночной бездны снежный пух. Душа моя поет, а кавалерийская атака несет в водоворот дешевой игры:
– Не жалей о содеянном. Я принесу тебе радость.
– Это невозможно. У меня замерзло сердце, – отвечает холодно, все еще не оборачиваясь.
Ладони девушки, спрятанные под мышки, видимо, без перчаток. И я говорю:
– Как это романтично – замерзшее сердце... Но, по-моему, у тебя замерзло не сердце, а руки, – я продолжаю рваться в атаку, не думая о поражении.
– И руки тоже. Я забыла перчатки.
– Где забыла? – срывается с моего пьяного языка.
– Где надо, там и забыла, – раздражается она, и в атмосфере становится холоднее.
Мы медленно поднимаемся по переулку, боясь поскользнуться, и черные сапожки моей длинноногой собеседницы осторожно давят свежий снег. Мне очень хочется, чтобы девушка посмотрела на меня, но она по-прежнему не оборачивается.
Это ее я видел сегодня на брифинге. Сомнений нет. Она была в желтом свитере и заметно волновалась. Хоть я и пьян, но помню. Я не верю в замерзшее сердце.
– Твое сердце полно огня, – произношу с дешевой игривостью. – Оно способно растопить льды Эльбруса.
На ночном переходе с парада – в окоп.
На усталое сердце навалится тьма.
И глаза мне закроет седеющий поп,
И посыплется снег, и настанет зима.
И упрямую землю уставши долбить,
Плюнет в руки могильщик и мать помянет.
И я больше не буду ни петь, ни любить,
Лишь весной надо мною трава прорастёт...
Девушка читает стихи почти монотонно, глядя прямо перед собой, и видит то, чего не вижу я.
– Ты поэтесса? – я тронут, но мой пыл начинает остывать.
– Я не поэтесса, – она останавливается. – Я блядь, – и разворачивается ко мне – всем телом, и ее черные холодные глаза выбивают меня из седла...
– Что, растерялся, майор? – она победно улыбается, не размыкая вишневых накрашенных губ.
Я шумно вздыхаю и лезу в карман за сигаретой.
– Офицер, угостите даму папироской! – по-актерски манерно произносит она шаблонную фразу, и тонкие ноздри ее вздрагивают. – В другой раз не пускайтесь в галоп так опрометчиво.
– Другого раза может не быть никогда, – чиркаю зажигалкой, и отблеск огня мерцает в ее темных зрачках. – Я видел тебя на брифинге. Ты журналистка?
– Нет. Я там случайно оказалась. Журналистика – не моя профессия. Хотя такая же древняя.
– Проститутка? – спрашиваю как можно спокойнее, но в груди моей что-то больно сжимается.
– Да. – И она оценивающе оглядывает меня от фуражки до мокрых туфель. Я работаю там, где ты, наверное, сейчас живешь, – в "Интуристе".
– У тебя такая работа!.. И ты пишешь такие стихи?!
– Это не мои стихи – Аркадия Сурова. Ты его не знаешь. А я пишу прозу.
– Как это? – Туман накрывает мою военную голову.
– А так. Старым дедовским способом: ручку беру, лист бумаги и вывожу длинные строки из слов и знаков препинания...
Вот это засада!
– И что ты уже написала?
– Да немного пока. Две повести. Они опубликованы в "Юности".
– О чем повести?
– О смерти... Ты офицер, ты должен ощущать запах смерти здесь, на Кавказе. Он разлит в воздухе, как вино в старом погребе.
В глазах ее нет безумия, говорит холодно и спокойно. Но я не чувствую того, что чувствует она. Мой славянский круглый нос улавливает лишь слабое дуновение ее духов и сигаретный дым.
– Это потому, что война, – говорю осторожно.
– Может быть, – она смотрит на меня в упор. И от этого мое лицо начинает гореть. – Ты что-нибудь знаешь о войне?
– Эта для меня четвертая, – я наливаюсь уверенностью, – начинал в Афгане.
Здесь, на Кавказе, шестой год уже. Все "горячие точки" прошел, исключая Карабах.
Почти полный набор...
– Для "афганца" ты слишком молодо выглядишь, – в ее голосе сквозит недоверие.
– Я прожил короткую, но яркую жизнь, – неожиданно вываливается из меня газетный штамп. – Плюс заспиртованность организма.
– Убивал когда-нибудь? – и смотрит на меня, не мигая.
– Нет, мое оружие – слово, – выдаю еще один трафарет. – Я военный журналист.
– О-о-о, – впервые удивляется она. – Поэтому ты бываешь на брифингах. А я думала, ты охранник... И о чем пишешь, если не секрет?
– Почти о том же, о чем и ты. О любви и смерти. Вернее, о любви к Родине и о презрении к смерти, – и пытаюсь улыбнуться.
– Смерть нельзя презирать, – это сказано спокойно, без напуска. – Она заслуживает уважения и недостойна ни смеха, ни презрения... Ты был здесь в первые дни боев?
– Был. Я работаю в пресс-службе территориального управления федералов. И в курсе дел... Но что-то не хочется говорить об этом. Давай лучше о любви.
– Любовь придумали русские, чтобы денег не платить, – и она впервые обнажает в улыбке зубы. Красивые зубы страстного рта.
– Сколько ты стоишь? – спрашиваю, скрывая волнение, и глаза мои скользят по стройным ногам, обтянутым джинсами.
– Я не продаюсь, – она произносит это манерно низким голосом и встряхивает зайорошенными снегом волосами. В ее глазах – лед. Выдержав паузу и дождавшись моего смятения, добавляет. – Но какая-то небольшая часть меня может сдаваться в аренду. По цене двадцать долларов в час. Можно в рублях, по курсу.
– Это не много, – я облегченно вздыхаю. – Но и не мало, – и глубоко затягиваюсь дымом.
– У тебя есть деньги? – Она склоняет голову к плечу и пытливо щурится.
– Почти.
– Как это? Деньги или есть, или их нет. Третьего не дано, – коротко хохотнув, она снова белозубо улыбается.
– Дано, – почему-то упрямлюсь я. – Я живу в "Интуристе". Рядом со мной номер шефа – Соломина. У него и одолжу. Кстати, большая часть суммы у меня есть.
– Твой шеф – Соломин? Который когда-то работал в Главлите Советского Союза?
– Да. А что? Ты его разве не узнала? Ведь он брифинги проводит каждый день! – не могу скрыть удивления.
– Нет... Так, слышала кое-что о нем, – и щелчком выстреливает окурок в сугроб.
– А, понятно, – вздыхаю. – Раз ты печаталась в "Юности" со "смертельными"
повестями, то его, наверное, не миновала.
– В общем-то да. Зацепила крылом этот гранитный утес, – она зябко прячет "босые" ладони под мышки.
– Тогда пойдем? – предлагаю я робко.
– Сливаться в экстазе? – говорит она с кривой улыбкой.
– Соприкасаться сердцами, – парирую я.
– Было бы любопытно... Если возможно.
Мы направляемся к реке – черной бурлящей ленте, чьи истоки теряются гдето в ущельях Кавказского хребта. Тусклый фонарь на берегу освещает узкий пешеходный мост, обросший снегом.
– Меня зовут Андреем, – говорю я наконец.
– Анна, – она проводит ладонью по перилам мостика, лепит рыхлый снежок и бросает в темную кипящую воду.
– Ты не боишься, что я тебя обману? – вырывается у меня ни с того ни с сего. – То есть попользуюсь, но денег не дам ...
– Не боюсь. Меня трудно обмануть, – ее глаза вспыхивают диковатым огнем. – Люди, которые пытались меня обмануть, очень дорого платили за это.
– Что значит "дорого"? – я смотрю под ноги, потому что не могу выдержать ее взгляд.
– То и значит. Много будешь знать – скоро состаришься.
– Я не боюсь состариться, – снег поскрипывает под моими промерзшими ногами, – я боюсь простудиться. Взял вот с собой в командировку только туфли. Не помню такой зимы на Кавказе.
– Я тоже. Видимо, Бог послал холода – военные страсти остудить. – Анна скрещивает руки на груди.
– Думаешь, это поможет? – и начинаю стягивать со своей руки перчатку. Надень мои. Не могу смотреть, как ты мерзнешь.
– Спасибо. Я не ношу чужих вещей.
– Ты говоришь так, будто я предлагаю тебе изменить Родине...
– Наша Родина сама готова изменить нам с кем угодно, – Анна резко встряхивает головой и волосы ее разлетаются.
– У Родины лихорадка и озноб полураспада, – мой уязвленный патриотизм шевелится где-то под сердцем.
– Какой же это полураспад? Вы тут войска и ментов нагнали тучу – черта с два распадешься... Вот у тех, кто прячется в горах, у тех сейчас и полураспад, и озноб. От костров не отходят, вот-вот готовы разбежаться.
– Откуда ты знаешь? – я замедляю шаг.
– Догадываюсь, – она зябко втягивает голову в плечи.
– Ты рассуждаешь так, будто вчера была в горах.
На другом берегу меня вдруг осеняет.
– Слушай, извини за прямоту, но кто ты по национальности? – вопрос мне дается не без душевного труда.
– Ага! – смеется Анна. – Испугался, что связана с боевиками!? Террористкаэкстремистка?!
– Да черт вас тут разберет, в этом Вавилоне! – тушуюсь я, глядя в белозубый смеющийся рот.
– Не волнуйся, – резко успокаивается Анна. – Я немка.
– Что?! – от неожиданности я спотыкаюсь.
– Есть такой народ на святой Руси – немцы. Не делай вид, что не знаешь, – глаза у Анны светятся.
– Чего угодно ожидал, только не этого! Ты похожа на армянку, на гречанку, на еврейку наконец... Но на немку?!.
– Это потому, что смешение кровей. Но отец немец. Кстати, не знающий немецкого. Наш род здесь, на Кавказе, лет сто живет. Если не больше. Предок нефть тут искал. От фирмы знаменитого Нобеля.
– Нашел?
– Про нефть не знаю, а вот жену нашел. Вот и обрусел или, как здесь говорят, – орусился. Вернее, окавказился. Нам на горе.
– Ну, теперь понятно твое отношение к Родине, – вздыхаю.
– Только не надо высоких слов. Я блядую точно так же, как и мое Отечество. Мы с ним одинаково спокойно укладываемся под тех, кто платит.
– Аня, так нельзя говорить. Мне это неприятно. Я все-таки офицер, – и останавливаюсь, развернувшись к спутнице всем корпусом.
– Ты хоть и офицер, но на дурака не похож, – глаза Анны буравят мой смятенный трезвеющий мозг. – Неужели я смахиваю на тех молодых дурочек, у которых только деньги и кайф в голове?
– Очень хочется спросить, сколько тебе лет, – улыбаюсь и кусаю губу.
– Спроси. А я тебе отвечу: осьмнадцать лет, – и демонстративно поворачивает бледное лицо к свету.
IV
Мы подходим к "Интуристу", нашпигованному офицерами из федеральных силовых ведомств и командированными чиновниками. Площадка перед отелем забита машинами с мигалками.
– Привет, мужики! – киваю вооруженным омоновцам у входа. – Она со мной, – и беру Анну под руку.
– Понятно, – многозначительно улыбаются охранники и оглядывают подругу с ног до головы.
– Гляделки проглядишь – прицел собьется, – мимоходом бросает самому наглому омоновцу Анна и гордо отворачивается.
Через освещенный вестибюль, мимо вахтеров и швейцаров, мимо роящихся военных и милиции мы идем, как сквозь строй. Я стараюсь не глядеть по сторонам, но чувствую, как щеки наливаются румянцем.
– Да не тушуйся ты, как гимназист! – уже у лифта говорит Анна.
Я облегченно вздыхаю и вижу наконец ее сухощавое лицо при хорошем освещении. Высокий лоб блестит от растаявшего снега. Возраст определить невозможно.