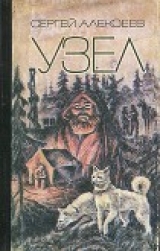
Текст книги "Узел (Повести и рассказы)"
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
― ЧЕРНЫЙ ЯЩИК ―

Местных жителей, где бы мы ни появлялись, к нам словно магнитом тянуло. Едва по весне сейсмопартия становилась лагерем у какого-нибудь таежного поселка, тут же набегала сначала ребятня, любопытная и боязливая, потом приходили степенные, моложавые старики и в последнюю очередь – население среднего возраста. Все интересовались – кто мы да зачем приехали, а узнав, начинались просьбы по интересам. Старики чаще просили пробурить на огороде скважину, чтобы за водой на реку не ходить, пацанва – поглядеть, как мы взрываем, ко мне же обычно шли местные браконьеры: за взрывчаткой.
За два года работы в сейсмопартии я никому грамма взрывчатки не дал, однако начальник Пухов контролировал меня каждый день. Причин не доверять не было, но Пухов на то и Пухов.
– Ты не обижайся, Мельников, – успокаивал он. – Когда сам станешь начальником – тоже будешь проверять…
То, что он всегда обращался ко мне по фамилии, тоже меня смущало.
Одним словом, наша партия везде создавала некоторое разнообразие для старых глухих поселков, жители которых, кроме всего, тешили себя надеждой, что у них геологи обязательно что-нибудь найдут, а значит, скоро построят город и их край зацветет.
Этой весной ничего подобного не произошло.
По большой воде партию завезли на двух баржах в деревню Плахино, которая на карте значилась, но на самом деле давно не существовала. Стоял один огромный дом со множеством маленьких окон в ободранных наличниках и крышей из почерневшего и обомшелого дранья, и жил в этом доме человек по фамилии Худяков. Кругом же были только обгорелые и полусгнившие остовы изб с заросшими крапивой ямами подполов и поваленные заборы. Пухов распорядился ставить палатки на другом краю бывшего поселка, а сам пошел в гости к соседу, узнать, кто такой Худяков и чем он тут занимается. Однако тут же вернулся недовольный и велел на всякий случай на палатку, где хранилась взрывчатка, повесить замок, а мне спать в полглаза. Я понял, что Пухов нашему соседу отчего-то не доверяет. День приезда и вечер были заняты устройством жилья, и никто к Худякову больше не ходил, сам он тоже не показывался. Мы разгрузили баржи, перетаскали ящики с продуктами в лагерь и, намаявшись, попадали спать.
Последний год я жил в одной палатке с поваром Гришей Зайцевым. С поваром жить всегда приятно, но с Гришей было еще и интересно. Сначала я думал, что он лет десять отсидел в тюрьме, потому как изъяснялся он на жаргоне лучше, чем на обычном человеческом языке. Затем оказалось, что он владеет английским не хуже меня, хотя я к тому времени был уже на третьем курсе журфака, пусть и на заочном отделении. Гриша обычно без меня спать не ложился, сидел на своей раскладушке, кряхтел, сопел, ругался тихонечко и смотрел мне в спину, ожидая, когда я брошу учебники и стану укладываться. Сегодня же, навозившись со своей кухней, Гриша уснул мгновенно, я тоже крепко придремал, забыв о наказе Пухова охранять взрывчатку. Проснулся уже под утро от комарья и вышел на улицу. Замок висел на двери склада нетронутым и покрылся холодной росой. Лагерь спал. Солнце вставало откуда-то сзади, красноватый, пожарный свет лежал на бугре, где когда-то было Плахино, и кровяными бликами отражался в окнах далекого дома Худякова. Казалось, там, внутри, бушует пламя, и черные стены вот-вот рухнут, рассыплются искрами, как все избы, что стояли тут до пожара. Повсюду из густой крапивы и зарослей татарника торчали обугленные бревна, доски, груды развалившихся глинобитных печей, падающие телеграфные столбы со спиралями оборванных проводов, и только дом Худякова почему-то был целым да одинокая жердь со скворечником посередине бывшего селения.
Я стоял минут десять, медленно ощущая какой-то непонятный страх, смешанный с любопытством, как у пацанов, что приходили смотреть к нам, как делают взрывы. Вдруг недалеко от меня зашелестел чертополох, продрались сквозь заросли и выбежали ко мне две желтые собаки, Взмокревший от росы передний пес встряхнулся и кинулся ко мне на грудь. Я не ожидал этого и отшатнулся. Однако он завилял баранкой хвоста и ткнулся мне в колени. Вторая собака, как ни в чем не бывало, улеглась возле ног и принялась зубами выдирать из шерсти комки репья. Собачье добродушие меня смутило. Я знал, что лайки самые безобидные собаки, но тут, в сгоревшем когда-то Плахино, все настораживало, искажало привычные представления. Я не ожидал, что из жутковатой картины пожарища могут выскочить веселые живые собаки и запрыгать вокруг чужого человека. Это были первые наши гости, и их следовало встречать как полагается. Я вернулся в палатку, где проснувшийся Гриша перекладывал из одного угла в другой неразобранные вещи.
– Собаки прибежали, – сказал я. – Где у тебя сухари?
Гриша собак недолюбливал. Когда геофизикам разрешали брать в поле своих псов, псы часто обворовывали его холодильник, который устраивался в специально отрытых ямах, или же нагло забирались в котел с кашей. Потом собак в поле брать запретили: накладно, много впустую уходит продуктов.
– Какие собаки? – спросил Гриша, заглядывая под раскладушки. – Ты мой ящик не видал?
– Соседские, – успокоил его я. – Дай сухарей. Гриша наконец нашел свой ящик, вытащил его на середину и облегченно вздохнул.
– Опять дармоеды, – мирно проворчал он. – Ладно, иди на склад, возьми…
Я скормил собакам по сухарю, это им понравилось, и один из них, кобель, что ластился ко мне при первой встрече, потянул носом и отправился к мешкам с продуктами. В это время появился Пухов и спросил – откуда псы?
– Гони их отсюда, – посоветовал он и посмотрел в сторону дома Худякова. Солнце уже поднялось, и окна потухли, но пепелище вокруг по-прежнему выглядело зловеще и тревожно.
Собакам в лагере понравилось. Сколько бы Пухов ни строжился, ни замахивался на них, гости не убегали. Плутали по стану, ласкались ко всем подряд и жались к кухне, где Гриша Зайцев готовил завтрак. А тут еще они попали на глаза начальнику отряда Ладецкому, который считался знающим собачником, и собаки, видимо, сами почувствовали это. Ладецкий, хоть и держал у себя дома только толстомясого боксера, про лаек мог рассказывать сколько угодно. Он немедленно заглянул им в пасти, помял уши, пощупал хвосты, и собаки послушно, даже с удовольствием подчинялись ему.
– Медвежатники, – определил Ладецкий. – У кобеля шрам в паху, а у суки плечо было разорвано.
К медведям Ладецкий тоже был неравнодушен, вернее – к их шкурам. За два года, что я проработал в партии, он купил у охотников две шкуры. Одну угробил, когда выделывал. Помнится, с неделю на весь лагерь воняло кислым тестом, а потом еще неделю Ладецкий ходил с убитым видом. Из второй шкуры, выделанной, он затеял шить шубу. Резал, кроил, перекраивал, одним словом, получилась куцая безрукавка, которая давила под мышками и натирала шею. Затем он стал говорить, что купленная шкура – не шкура. Вот если бы самому добыть… Пока партия завтракала, собаки сидели чуть в стороне и, склонив головы набок, сглатывали слюну. Ладецкий не выдержал.
– Ой, не могу, – сказал он, – видеть не могу, когда собаки голодные… Он их, гад, не кормит, что ли?
И вывалил полмиски каши на траву перед собачьими мордами. Кобель разинул пасть, чтобы хватануть пищи, но в это мгновение громыхнул недалекий выстрел. Собаки забыли о каше и резко развернулись на его звук. Стреляли в стороне дома Худякова. Люди повскакивали, зашумели, и тут собаки галопом сорвались с места и пропали в зарослях травы. От теплой горки каши поднималась тонкая струйка пара.
– Ого! – воскликнул Ладецкий. – Вот это выучка!
– Что, прикормить хотел! – рассмеялся Пухов.
Я вышел за лагерь, откуда смотрел утром на сгоревшее Плахино, и вновь почувствовал тот полудетский страх. Казалось, темный силуэт дома отдалился и окна уже блестели холодным стальным светом. Вспомнился эпизод, когда мне было года четыре и я со старшими пацанами ходил заглядывать в окна к старику Макарушкину. Старик жил на выселках, за поскотиной. Ничего в нем особенного не было, но он слишком долго умирал и не мог умереть. Мы забирались во двор с покосившимся гнилым плетнем из тальника, лезли на завалинку и смотрели через стекла в избу. В полумраке я видел закоптелый зев русской печи, черный, таинственный, хомут, висящий на косяке двери, огромные растоптанные самокатки, торчащие подошвами с полатей. На этих полатях, говорили, и лежал старик Макарушкин. Смотреть в окно было страшно, но я не мог оторваться и лип к стеклу дольше всех. Если Макарушкин замечал нас, то звал кого-нибудь из старших, а мы убегали за плетень. Пацаны заходили в избу, чем-то помогали старику, а затем мы выдергивали палки из ограды и начинали сражаться, как на шпагах. Забор постепенно становился щербатым, кое-где повалился на землю, но пацаны говорили, что он все равно старику не нужен, потому что он скоро помрет. Двор вокруг тоже зарастал чертополохом и крапивой, которую по весне наши матери выкашивали на корм свиньям. Когда Макарушкин умер, мы больше не ходили на выселки и лишь смотрели издалека. Мне почему-то всегда виделся печной чувал и хомут – вещи для меня таинственные, необъяснимые, хотя у нас в избе была такая же печка, но там был огонь, а хомут я видел только на лошади, привык видеть. У старика же коня не было.
Мне представился Худяков, чем-то напоминающий старика Макарушкина: желтый, небритая седая щетина по ввалившимся щекам, дрожащие пальцы, рваная душегрейка с огромными карманами, – и я почувствовал, что меня тянет пойти к его дому и, как в детстве, заглянуть в окно…
Собаки Худякова стали прибегать к нам каждое утро, однако хозяин деревни так и не появлялся. Мы начали работать. Рубщики прямо от стана потянули профили, по которым поползла наша буровая установка, смонтированная на вездеходе. Когда отбурили первую скважину, я принес взрывчатку, опустил заряд, приготовил взрывную машину и стал ждать геофизиков, у которых, как всегда в начале сезона, что-то не клеилось в аппаратуре. Я был единственным взрывником в партии, и мне приходилось меньше работать, чем бегать с профиля на профиль. Я отстреливал одну скважину, хватал новый заряд и шел в другую бригаду. Выходило, что от меня зависела работа партии, меня всегда ждали с нетерпением, помогали, разговаривали любезно, и я даже иногда покрикивал: быстрей, быстрей, чего копаетесь. Слушались лучше, чем Пухова. Работа мне нравилась. В армии я служил сапером, где меня обучили взрывному делу, и после демобилизации сунулся было на стройку, но мне это быстро надоело, и я пошел в геофизический трест. Там, помню, кто-то пошутил, дескать, рожденный разрушать – строить не может. Однако я вовсе не собирался всю жизнь взрывать, хотя взрывал на благо строительства. Сразу после армии поступил на журналистский и тешил себя надеждой уйти со временем в областную молодежку. Там меня встречали всегда ласково, давали советы, просили написать какой-нибудь очерк о передовике, но принимали только как взрывника, а не журналиста. Поэтому я учился со злостью. Контрольные писал в поле, таскал за собой два ящика книг, ждал нетерпеливо конца сезона, торопился с профиля на профиль, подгоняя геофизиков, которые таскали на себе ящики с сейсмографами, аппаратами нежными и хрупкими. Вечно у них что-то заедало, отказывало, не писало.
Наконец геофизики настроились, и я крутанул ручку сирены. Залегли буровики между гусениц вездехода, попадали в траву рубщики, лег на живот топограф возле кочки с прошлогодней брусникой, прижимая к боку теодолит. Теперь слово было за мной. Я подключил аккумулятор и надавил кнопку взрывной машинки. Из скважины хлестанул столб грязи, дрогнула земля, полетела пихтовая игла, сбитая волной. Вот и вся работа. Эхо гулко отозвалось за рекой, черный клок дыма понесло на Плахино.
– Эх, началось… – с тоской протянул кто-то из рубщиков. – А до осени еще…
Я не спеша стал сматывать магистральный провод, и тут на профиль вылетели собаки. Кобель затанцевал вокруг воронки, коротко взлаивал, бросался по сторонам. Сука же улеглась на землю и равнодушно вывалила язык.
– Погляди-ка! – удивился Ладецкий. – Они же на взрыв прибежали! Во собаки! Я-то думал, они только на хозяйский выстрел бегают.
Собаки через несколько минут убежали обратно, словно появились тут только для того, чтобы выяснить – кто стрелял и по какому поводу. Но к обеду, когда я рванул вторую скважину, они примчались вновь. Опять покрутились возле воронки и ушли. Геофизики смеялись: так все лето и будут нас контролировать.
С этого дня собаки бегали к нам на профиль после каждого взрыва. Мы удалялись от Плахино, однако они настойчиво, упрямо появлялись у нас, запаленные стремительным бегом. Сука была, видно, старше кобеля и бегала с ним за компанию, потому что, увидев, что стрельба по ее мнению холостая, ложилась отдыхать. Но кобель метался, лаял, искал убитую дичь. Это был какой-то прочно вбитый в их собачьи головы инстинкт. Я вспоминал нетронутую кашу, когда собаки в то утро бросились на выстрел хозяина. Инстинкт был сильнее голода…
Мы проработали две недели, однако хозяина так и не видели. Мы даже не знали, как зовут его добродушных собак, и окликали их кто как мог. Общительные собаки реагировали на любые клички, и в партии стали сомневаться, есть ли у них имена вообще.
Интерес к хозяину Плахино в партии постепенно исчезал. Привыкли, втягивались в работу. Но как-то вечером Ладецкий не выдержал.
– Пойду к отшельнику в гости, – сказал он. – Может, у него шкура на продажу есть.
Я хотел было отправиться с ним, но что-то меня удерживало. Идти к дому Худякова нужно было через весь сгоревший поселок, а он мне все больше напоминал кладбище. По утрам я все еще смотрел на единственный дом Плахино, на развалины обугленных бревен, и печной черный зев маячил перед глазами.
Ладецкий скоро вернулся.
– Ну и что? – спросил я. – Видел Худякова?
– Видел, – буркнул Ладецкий. – Ничего особенного. Мужик как мужик. Шкурами, говорит, не торгую.
– Кто он? – напирал я. – Почему к нам не приходит?
– Охотник, говорит. А в гости ходить некогда, – рассказывал Ладецкий. – У меня, мол, путина началась, рыбу ловлю.
Рыбачить нам было некогда и почти нечем. У Гриши Зайцева имелись две драные сети, которые он ставил в озерах на карасей, но вода еще была холодная, и Гриша боялся простуды. Впрочем, рыба повара заинтриговала. Он помчался уговаривать Пухова – купить рыбы у Худякова. Пухов стал отмахиваться, дескать, нет наличных денег, платить нечем, но в партии тут же начали шарить но карманам, вытряхивать мелочь, короче, удалось собрать пятнадцать рублей. Мы с Гришей и двое геофизиков пошли к хозяину Плахино.
Я шел позади всех и смотрел на то, что осталось от поселка. Странно, но сейчас я почему-то не испытывал того чувства, что охватывало меня утром. Мне не казалось, что я. проникаю в какую-то тайну. Не было того ощущения страха, которое останавливало нас, мальчишек, далеко от одинокой избы на выселках. Все обыкновенно: дома, видно, сгорели, когда жителей здесь не было. Похоже, когда занялось пламя, не было ни криков, пи суеты. Отгорело и погасло само собой. И никакой трагедии тут не происходило.
И снова вспомнилось детство, только уже другое время. За нашей деревней стоял заброшенный смолзавод. Само здание кто-то разобрал и увез, оставались лишь его фундамент, горы древесного угля вокруг, разбитые бочки, выкорчеванные на перегонку, но брошенные сосновые пни. Там тоже были заросли малины, а еще – множество змей. Мне казалось, что змеи живут там, что эта змеиная деревня такая же, как и наша. Мы ходили па смолзавод есть малину и бить гадюк. Кто-то сказал, что за одну убитую змею отпускается сразу сорок грехов, и мы колошматили их десятками: блестяще-черных стремительных, ленивых полосатых, бурых с желтым зигзагом по спине. Поскольку грехов у нас было еще мало, мы «отрабатывали» их впрок, и я теперь, видимо, обеспечен на отпущение грехов всей жизни. Битых змей мы относили на муравьиные кучи и отдавали на съедение муравьям. А мальчишки постарше, уже парни, отрубали головы гадюкам, заматывали отруб изолентой и несли вечером в клуб пугать девчонок. Девчонки визжали, бледнели, тряслись от страха…
Дом Худякова стоял на окраине Плахнио, однако примыкал к сгоревшим избам вплотную. Сразу у крыльца виднелся новый сруб колодца, аккуратно закрытый крышкой из толстых половых плах. Тут же – раскатанные в беспорядке бочки, стол, заляпанный чешуей и почерневшими кишками, над которыми вился рой блестящих зеленых мух. Мы поднялись на крыльцо, и Гриша, скорчив гримасу вежливости, осторожно постучался. Дверь, обрамленная толстенными косяками, гулко отозвалась, но никто нам не ответил. Гриша толкнул ее плечом, и мы по одному вошли в избу.
В нос шибануло крепко посоленной рыбой, махорочным дымом и сыростью. Худяков, босой, в широких брезентовых штанах на резинке, в клетчатой старой рубахе, сидел возле раскаленной печи и мешал что-то в крутобоком закоптелом чугуне. Черные волосы слиплись от пота, красное широкоскулое лицо блестело, словно он только что выскочил из парной. На вид Худякову было около пятидесяти, однако в его движениях было что-то старческое, усталое. Увидев нас, он вынул из чугуна деревянную меселку, лизнул ее и опустил руки.
– Здорово, хозяин! – сказал Гриша и стащил с головы кепочку. – Чего это так натопил? Жара на улице.
Худяков обвел нас глазами, и в это время кобель выскочил из-под скамьи, встал возле хозяина и ощерил пасть. Мгновенно откуда-то появилась сука, сверкнула белками глаз и села по другую сторону от хозяина.
– Во, гостей встречают! – засмеялся Гриша, – Классные псы у тебя, хозяин…
Кобель сделал стремительный рывок вперед, но остался на месте и приглушенно заурчал. Сука приподняла голову, ткнулась носом в меселку, которая была в руке у Худякова, всхрапнула и вдруг, скосив глаза на хозяина, по-воровски лизнула полосатую от накипи деревяшку.
– Здорово, – сказал наконец Худяков и снова опустил меселку в чугунок. Голос у него был низкий и гулкий.
– Да, собачки у тебя, – протянул Гриша. – Рыбы нам не продашь, а, хозяин? Тридцать кило. У нас едоков много…
– Продашь… – проворчал Худяков, расплескивая кипящее варево на горячую плиту. – Вы чо, купцы, что ли?.. Приехали, и все вам продай да продай… Сами ловите.
Я рассматривал его из-за спины стоящих впереди геофизиков, что-то знакомое чудилось мне в этом человеке. Он напоминал нашего деревенского пастуха Кешу. Кеша ходил по деревне босой, с длинным плетеным бичом, в таких же штанах на резинке. Летом он пас скот, а зимой куда-то исчезал. Мало кто знал его фамилию и тем более сколько ему лет. Одни считали его дурачком, другие – пьяницей. Пил Кеша здорово. Каждый в деревне старался подпоить пастуха, чтобы он лучше смотрел за коровой, однако Кешу подкупить было невозможно. Вечером, напившись у какого-нибудь хозяина, до полуночи бродил по деревне, орал бессвязные песни, щелкал бичом, пугая дразнящую его пацанву, а утром со злостью и ненавистью драл корову того хозяина, матерился и кричал до слез. Мы побаивались его, и когда наступала очередь идти к нему в подпаски, мальчишки делали это с неохотой, а то и вовсе сбегали. Однако едва Кеша собирал стадо и угонял его за деревню – он тут же преображался, становился грустным и жалким. Бич тащился за ним по пыли, как опущенный собачий хвост, а сам он брел, опустив голову и наступая босыми ногами в горячие коровьи лепешки. В обед он не ел, а, дождавшись, когда стадо после водопоя разляжется в прибрежных кустах, набирал в обрыве желтой глины и, усевшись поближе к воде, начинал лепить человеческие фигурки. Первым он вылепливал коротенького мужичка без штанов и в шляпе, потом бабу в платочке и длинном фартуке, затем шли, видимо, их ребятишки: маленькие, пузатенькие человечки. Усаживал их в рядок на солнышке, отходил, разглядывал и, взявшись за бич, шел поднимать коров. Глиняные фигурки так и оставались на траве. Когда мы, бегая по берегам реки, находили такое семейство, кто-нибудь всегда говорил: «Кеша тут был…» – и распинывал человечков. Кеша, обнаружив разгром, ничуть не отчаивался и лишь, виновато улыбаясь, произносил: «Ишь, семья-то пропала…» Когда мне было шестнадцать и я уезжал в город учиться на электрика, пропал и сам Кеша. Однажды в обед коровы пришли одни, чем-то напуганные, взбудораженные, и разбежались по дворам. Кешу сначала материли, потом долго искали в лесу, в реке, но не нашли. Спустя два года я приехал в деревню к родителям, чтобы меня проводили, в армию. Это было весной. Снег по солнечному берегу реки уже стаял, и я бродил с одноклассницей Верой по теплым полянам, собирал ей подснежники, рассказывал про армию, которой еще не знал и не представлял, про любовь и детство. На бугорке, на самом солнцепеке, срывая еще нераспустившиеся кандыки, я наткнулся на «семейство» глиняных человечков…
– Смотри! Кеша тут был! – закричал я и размахнулся ногой, однако не ударил, а сел рядом, взял в руки размокшего, потрескавшегося мужичка. Перед глазами встал наш пропавший пастух, босой, в широченных штанах на резинке, привычный с детства и непонятный, как его увлечение глиняными куколками.
…Худяков снял чугунок с огня, поставил его на стол, и собаки разом оказались тут же. Сука норовила заглянуть в посудину, повизгивала и виляла хвостом. Кобель же мрачно поглядывал на нас и все морщил в оскале продолговатую морду, показывая желтые клыки.
– Один ваш только что приходил за шкурой, – продолжал Худяков. – А коли шкуры нет, говорит, продай собаку…
– Ты что разворчался, хозяин? – миролюбиво спросил Гриша. – Дай людям рыбы, будь человеком. Заплатим, не бойся…
– Я-то не боюсь, – прогудел Худяков. – Мне вас чо бояться… Видал всяких… – и, неожиданно разозлившись, сказал: – А собак моих не приваживайте! Убью за собак, понятно вам?
– Они сами прибегают, – вставил я. – Мы их не зовем…
– А кто пальбу открывает каждый день? – Худяков вынул из шкафа на стене миску и бросил ее на стол.
– Это мы скважины взрываем, – пояснил я. – У нас работа такая.
– Пошли отсюда, – сказал один из геофизиков. – Чего с ним разговаривать. Иди он…
Худяков вдруг повернулся и пошел мимо нас к выходу. Собаки рванулись следом. Мы тоже вышли на крыльцо. Хозяин снял с гвоздя два сыромятных ремешка и, поймав собак, крепко привязал их к скобе, вбитой в нижний венец избы. Кобель сверкнул глазами, а сучка спряталась за него и тоненько заскулила. Худяков подошел к мешкам, лежащим на траве, схватил один в охапку, поставил и подкатил пустую бочку. Затем развязал мешок и вывалил из него рыбу в бочку. Мелькнули щуки, желтые язи и россыпь чебаков. Вставил в паз крышку и двумя ударами топора насадил обруч.
– Получайте, – тихо сказал он и катнул бочку Грише. – Рыбы не жалко… Гриша вынул из кармана пригоршню мелочи.
– Держи, хозяин, – торжественно провозгласил он. Худяков, не взглянув на него, прошел к черемуховому кусту за колодцем и выломал там длинный гибкий прут. Кобель завыл и прижался к стене, сука уткнулась головой в бревно, подставляя худой зад. Гриша сунул деньги в карман и крикнул:
– Покатили, братва! Дают – бери…
Бочка глухо застучала по заросшей дороге.
– Собак не трожьте! – крикнул вслед Худяков, обчищая прут от листьев. Я оглянулся. Он мне снова напомнил пастуха Кешу, когда тот драл бичом корову, загоняя ее в стадо… Кобель оборвал вой, напрягся и неожиданно резко дернулся вперед. Ремень оторвался у самой скобы, пес упал на бок, потом вскочил и ринулся в заросли сухостойной прошлогодней травы.
– На место, Шайтан! – прогремел Худяков, однако спина кобеля мелькала в траве все дальше и дальше. Я обрадовался, что псу удалось сбежать от порки.
Стемнело, когда Гриша начал варить уху. Спать никто не ложился, разговаривали, смеялись, обсуждали визит к соседу. Пухов несколько раз подходил к кухне, все удивлялся, как это Грише удалось достать чуть ля не целую бочку рыбы за так, бесплатно, и все хвалил повара. Я вместе с остальными ждал уху и прислушивался к звукам, доносившимся от дома Худякова. Там долго стучал топор, гремело железо, скрипели выдергиваемые откуда-то ржавые гвозди, однако собак не было слышно. После запоздалого ужина я решил с часик позаниматься английским, устроился за столиком, зажег свечу и открыл разговорник. Этот разговорник я ценил и берег больше, чем любую мою вещь, больше, чем ружье. Он был не простым туристским талмудом, с помощью которого можно едва-едва поговорить о погоде. Мой разговорник издавался специальным тиражом для дипломатических представительств и оказался у меня с помощью книжного «жучка» в Сокольниках. Я отвалил за него двести рублей и с момента покупки с ним не расставался. Сейчас я уже мог вести беглый разговор о политической обстановке в стране, о специфике курсов самых разных президентов, об экономической политике фирм и о положении рабочего класса. Я раскрыл свою драгоценность на странице, где излагалась беседа о живописи и литературе, но Гриша за спиной зевнул и сказал по-английски:
– Давай-ка, Витька, спать.
– Спи, – ответил я с дипломатическим спокойствием.
Порой мне начинало казаться, что Гриша завидует мне. Я бубнил полушепотом фразы по-английски, п. если ошибался, он тут же делал замечание, ревностно поправлял и доказывал, почему так, а не иначе.
– Погоди, старик! – обрывал он. – Ты хреновину спорол. Глагол «отворять» надо ставить в настоящем времени… Кошмар!
– Не суйся, – бросал я по-русски.
– Сам дурак, – отмахивался Гриша, но не обижался.
Я начал читать маленькую вступительную статью об английском искусстве, однако смысла не улавливал. В голову лез Худяков, со своими собаками, виделись его лицо, блестящее от пота, стремительные движения, когда он набивал обруч и выламывал прут. Что-то заставляло думать о нем, притягивало внимание, как притягивает взгляд красивая девчонка в толпе или карлик-уродец на кривых ножках. «Ну и что? – пытался я отделаться от навязчивых мыслей. – Мужик за собак беспокоится. Собаки для охотника – первое дело. А тут приехали какие-то, приманивают собачек, прикармливают, испортят начисто. Шалавая собака – не от рождения. Собака что женщина, – вспомнил я слова Ладецкого, – как пошла по рукам – так пропала…»
Но тут же вспомнился отчаянный вой кобеля со странной кличкой – Шайтан, его рывок и побег. По сути, бунт против хозяина, а ведь минуту назад он с такой же отчаянностью защищал его, щерил зубы, рычал, будто не кормил я его сухарями и Гриша не вываливал ему объедки. И Худяков тоже хорош: то ворчал – купцы, то мешок рыбы за так отдал, а мы его и поблагодарить забыли.
– Что за мужик наш сосед? Никак не пойму, – неожиданно сказал Гриша и заерзал на ящике. – То ли дундук такой, то ли хитрющий, как одесский еврей.
Я оглянулся на Гришу и снова уткнулся в статью.
– Вообще я такого брата-таежника повидал. Они все любят корчить из себя этаких загадочных лесных мудрецов, – продолжал повар. – Придешь к иному, а он поглядывает исподлобья, бороду оглаживает, улыбается, дескать, трепись, трепись, я-то тебя насквозь вижу. Другой же наоборот, насидится в одиночку в тайге, так не остановишь. Балабонит и балабонит. А этот как баптист какой…
Надо было поспорить с ним, но мне хотелось самому разобраться в своих мыслях. А Гриша все говорил, нарывался на спор, пока я не сказал по-английски – давай спать. Он с готовностью вскочил, отволок свой ящик на место и стал раздеваться. Все два года я видел у повара этот ящик, небольшой, выкрашенный в защитный цвет, с двумя ручками по торцам. В таких ящиках к нам приходили электродетонаторы. Поперек красной полосы небрежно было написано «Гриша». Он никогда не открывался, поскольку был заколочен гвоздями, и что в нем хранилось – никто не знал. Кроме ящика, у Гриши был полупустой рюкзак, в котором он возил пару драных засаленных халатов и штук десять поварских колпаков. Колпаки он стирал каждый день и даже крахмалил. С Гришей, с единственным поваром, разговаривали всегда уважительно, и, когда я пришел в партию, он уже имел там большой авторитет. Поначалу и ящик, и этот непонятный Гришин авторитет меня заинтересовали, но скоро я привык, тем более стал жить с ним в одной палатке.
Мы улеглись с Гришей в спальники, и он сразу же засопел, а я еще долго лежал с открытыми глазами, и в_ ушах вместе со взрывами проносились английские фразы на политические и международные темы, гулкий голос Худякова, вой собак и снова взрывы, от которых вздрагивала земля. Я уснул под этот грохот и тут же увидел прямую, как стрела, просеку и геофизиков, которые один за другим нависали надо мной и все требовали, чтобы я не копался и делал взрыв. Потом оказалось, что я не взрывник в сейсмопартии, а сейсмограф. Что я лежу на земле и слушаю отраженную волну. В руках был сломанный карандаш и английский разговорник, где мне надо вычерчивать кривую. Но вместо толчков отраженной волны я услышал собачий вой и стал записывать его нотными знаками…
Утром, взглянув издали на дом Худякова, я увидел у его крыльца дощатую загородку, которой вчера не было.
– Напугался! – сказал Ладецкий. – Думает, мы собак его уведем. Загородил, а они выли всю ночь…
Однако после первого же взрыва на профиле собаки как всегда примчались к нам, ошалелые и возбужденные. Я подозвал к себе кобеля, и он немедленно, обрадованно подскочил ко мне, ткнулся в колени и завилял хвостом. От вчерашней озлобленности ничего не осталось. Ладецкий подошел ко мне и тоже потрепал кобеля.
– Ишь, ручной стал, – сказал он. – А вчера окрысился на меня, думал, порвет…
Спустя два часа на профиль пришел Худяков.
– Работаете, значит, – сказал он мирно.
– Работаем, – подтвердил Пухов. – А что?
– Так… – бросил Худяков. – К чему она, работа ваша? Для чего взрываете?
– Землю прослушиваем, – улыбнулся Ладецкий. – Узнаем, что в ней лежит.
– Ну и узнали? И чо тут под Плахином лежит?
– Камералыцики расшифруют записи – узнаем, – бойко доложил Ладецкий. – Может, и нефть лежит.
– Э-э… нефть… – протянул Худяков многозначительно. – И долго вы тут греметь собираетесь?
– До осени, а потом еще и зимой, по болотам, – объяснил Пухов. – Так что, дорогой сосед, нам еще долго вместе жить.
Худяков промолчал, оглядел просеку, вездеход-буровую, что виднелась в ее створе, вздохнул и поплелся назад. Собаки бросились к нему, заюлили возле ног, кобель все пытался прыгнуть ему на грудь, забегая вперед, а сука норовила лизнуть руку, но Худяков брезгливо отдергивал ее и замахивался на Шайтана.
После обеда я отправился на соседний профиль, где буровики за ночь прошли несколько скважин, и столкнулся там с Худяковым. Он стоял у лиственницы, привалившись к ней плечом, и наблюдал, как геофизики устанавливают сейсмографы. Собаки сидели по обеим сторонам от него и тоже глядели на бегающих по профилю людей. Я опустил заряд, разбросил провода и подал сигнал «в укрытие». Худяков не побежал, а присел на месте и стал выглядывать что-то в небе. Собаки подняли головы и залаяли. Сирена провыла, и я крикнул Худякову:








