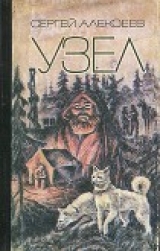
Текст книги "Узел (Повести и рассказы)"
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
5
Вечером, после ухода Вадьки, Ганькин завел трактор, буровики зацепили нагруженные оборудованием сани и поехали на новую точку. Они спешили, так как солнце уже заходило, а еще надо было успеть поставить палатку и сварить ужин.
Около вбитого геологом колышка Вадьки не оказалось.
– Ну и сачок же он у тебя! – крикнул Ганькину буровик, который в первый день появления Вадьки хохотал до слез.
Ганькин забеспокоился, но, увидев срубленные кусты на склоне увала, предположил:
– Жерди готовить ушел. На гору залез.
Вадьку несколько раз крикнули. Бесполезно. Ганькин забрался на вершину увала, нашел избу, сунулся было вовнутрь, но тут же захлопнул дверь. Ганькин боялся шершней до смерти. Он вернулся к мужикам вниз, рассказал про избу, шершней и то, что Вадька был наверху, там кем-то недавно расчищен проход к двери, но других следов нет.
Буровики в тревоге начали ставить палатку, договорившись, что подождут Старухина до утра и уж тогда сообщат начальнику партии.
Утром Вадька не пришел. Буровики расстреляли два десятка патронов, сорвали глотки и, убедившись в бесполезности криков и стрельбы, вернулись в лагерь. Ганькин всю дорогу материл себя и Вадьку, удивлялся: как это он не углядел пацана? Мужики пробовали шутить, дескать, тебе простительно, у тебя глаз один. Но было не до шуток.
Через сутки вызвали вертолет, но из-за большого расстояния горючего ему хватало лишь на путь в лагерь и обратно, на сами поиски оставалось десять минут. Гань-кнн облетал с пилотом прилегающую к лагерю территорию, но безрезультатно. Решено было завезти большим вертолетом топливо в лагерь и лишь после этого делать облеты. Но больших вертолетов в ближайшие пять суток не ожидалось, и Ганькин, взяв ружье, продукты, ушел в тайгу.
– Каюк нашему Старухину, – заключил все тот же веселый буровик. – Надо хоть родным отписать, поди, маменькин сыночек. Шуму будет! На нас бочку катить начнут: не усмотрели, скажут. Так хоть обезопаситься немного можно. Эх, молодежь!
Вздохнул и полез в Вадькин портфель искать адреса. Нашел только Людмилин. Посчитав ее за мать Вадькину, написал длинное письмо про то, как проявляли они отеческую заботу о Вадьке, как наставляли на путь истинный и учили жить, однако не послушался и пропал где-то в тайге.
А Вадька в это время усиленно пытался оторвать впившегося клеща, обливался холодным потом, заламывал, выкручивал назад руки, но лишь едва нащупывал пальцем клеща. Попробовал вытащить сучком, до крови разодрал кожу вокруг – все напрасно. Тёрся голой спиной о дерево – то же самое. Уже не чувствуя укусов облепивших его комаров, Вадька Старухин сидел на земле, и его помаленьку охватывал ужас. «Говорят, – вспоминал он, – что заражение энцефалитом происходит в момент укуса. Слюну он какую-то запускает, заразную. Значит, я уже заражен, поэтому и болит так затылок. Потом должна заболеть голова, будет рвота я головокружение…» Вадька отчетливо вспомнил женщину из отдела кадров и ее слова и сейчас, будто заучивая урок, повторял эти слова, когда-то слышанные им, но тут же забытые. Вскочив, он взял за лямки рюкзак и побежал. Его сокровища грохотали, тряслись, но Вадьке было уже не до сокровищ. Впившийся в его спину клещ медленно высасывал кровь, заполнял его жилы ядом, – это подстегивало, гнало вперед. Вадька бежал, ожидая мгновения, когда ударит обещанный паралич. Это, наверное, будет как выстрел в спину: ожидаемый, но прогремевший все-таки неожиданно… Вадька должен остолбенеть вначале, словно в темноте ударившись всем телом о стену, и упасть прямым, негнущимся, твердым, как закостеневший на морозе. Так Вадька представлял себе паралич.
Он потерял ориентир – реку – и теперь уходил в сторону, в редкие низкорослые пихтачи, карабкался на какие-то горы, переползал вязкие болота, остановился, лишь когда стемнело и идти было некуда: высокий каменистый обрыв отвесно уходил вниз, а там, затянутая туманом и мраком, шумела на пороге неизвестная речушка.
Голову и тело разламывала боль, будто Вадьку долго колотили чем-то тяжелым и гибким, ноги и руки отяжелели, казались чужими, лишними. Он понял, что заблудился, и вовсе обессилел. Страшная мысль о смерти уже не была такой страшной, как в первую минуту, когда он обнаружил клеща. Навалились отупение и вялость, какие бывают если сильно хочется спать, а кто-то мешает.
Вадька подтянул к себе рюкзак, обнял его и, свернувшись калачиком, замер в полусне-полубреду. Ему чудилось, что он все еще бежит по тайге, большой, сильный, удачливый, и будто навстречу ему идет кто-то, Людмила, кажется, и не одна. Ромка за ней плетется, лохматый, обросший, изодранный весь, одичалый, глаза страшные, кричит что-то, а что – не поймешь, рот только открывает, руки корявые, грязные; и будто не Вадьку, а Ромку клещ укусил, и он скоро умрет: вот упал, зарывается в мох, стонет, хрипит…
Вадька очнулся, с трудом распрямился и понял, что не Ромка стонет и хрипит, а он сам, а рядом нет никого. Вадьке стало обидно, что он умирает здесь один, никому не нужный, брошенный, а все его друзья живут и еще долго будут жить, ездить на пляжи, пикники, беззаботно и весело смеяться, петь, радоваться, и никто не заметит, что нет среди них Вадьки Старухина. Он, Вадька, сдохнет в тайге, на берегу неизвестной речки будет валяться даже не похороненный, в обнимку с рюкзаком, набитым драгоценностями, за которые можно купить все и жить по-другому, так, что ему плевать бы было на Ромкино превосходство, на все его изысканные манеры, и уж Вадька бы сам тогда небрежно хлопал дверцей авто, и компания собиралась бы вокруг него. А Людмила…
Она бы с него глаз не сводила, а он лениво, под ее взглядом, говорил, смеялся, вел машину…
Но ничего этого уже не будет! Вадька закрыл глаза. В ушах стоял звук, словно колотили по тонкому осеннему льду, и звук то удалялся, то накатывался, отчего Вадьку стало коробить и выворачивать, как в полете, когда самолет неожиданно проваливается в воздушные ямы.
Перед глазами вновь возникли какие-то давно прошедшие события. Вадька понимал, что это галлюцинации, что такого быть не может, так как он не в Риге, а в тайге, но отделаться от навязчивых видений не мог. Вот идет Вадька по городу, идет продавать иконы, и все завидуют ему, восхищаются. Говорят, какой интересный парень, Вадим Старухин! И где он только не был, и чего только он не видывал. Хорошо бы с ним познакомиться!
Потом ясно и правдиво Вадька видит картину: он за рулем собственного «жигуленка», узкая и, как стекло, ровная дорога, ехать так приятно, спокойно, скорость на спидометре – сто двадцать, на заднем сиденье – Людмила в алом купальнике, загорелая, стройная и красивая, а рядом Ромка: он безобразный, страшный, и будто не Ромка это, а клещ, огромный, насосавшийся крови. Вадька пытается увидеть в переднем зеркале лицо Людмилы, но видит только свое отражение, и будто лицо у него теперь как у чудотворца на иконе.
– Старик, – говорит Вадька, лениво, одной рукой поворачивая руль, – тебе не кажется, что мы засохли и скоро вымрем?
– Не вымрем, Старухин! – довольно отвечает Роман. – Поехали ко мне, насосемся!
– Я не о том, – Вадька убирает сразу все пальцы с руля и удерживает его лишь мизинцем, – я о другом, старик. Предлагай такое, чтобы я не бросил руль, а то мне уже надоело ехать. Я дороги не вижу.
Машина несется со страшной скоростью, мелькают за окном искаженные страхом лица, клещ-Ромка хохочет, и его толстый красный живот трясется и усы шевелятся.
Вадька видит Людмилины пальцы с побелевшими кончиками ногтей, обвившие спинку сиденья, выпускает руль и говорит:
– На все ее величество Удача. Мы с ней сейчас запросто, а ты, Людмила?
И Людмила вдруг кричит:
– Останови-и!
Все замирает, останавливается, скрипят тысячи тормозящих колес, ветер останавливается, солнце, птицы деревья.
– Все остановилось, – говорит Вадька.
– Как мы хорошо пошутили! – восхищается Ромка. – Каков розыгрыш, а? Искусство! Живопись!
Людмила выходит из машины и говорит:
– Бейтесь себе на здоровье, шутите!
И неожиданно разбивает машину вдребезги, и все вокруг люди превращаются в клещей, их много, целая стая, вся компания тут, даже соседка пытается сказать что-то про Вадькину удачливость. Клещи во главе с Ромкой бегут, и Вадьке очень хочется с ними, но… Людмила, высокая, совершенно голая и красивая уходит от Вадьки и от всех, и волосы ее плавятся на солнце…
– Бежим! – кричит Ромка. – Что ты стоишь?
Но Вадька не слышит его и идет следом за Людмилой, догоняет ее, а она уходит, не останавливается.
– Куда же ты?! – спрашивает он. – Почему ты убегаешь? Я же теперь удачник!
Но Людмила исчезает, и у Вадьки ужасно болит голова, он стоит посреди дороги, вокруг снуют машины, большие, с красными брюшками, усатые, и громко хохочут над Вадькой. Потом появляется Хозяин и говорит:
– Погибель тебе будет. Легко жить хочешь, Вадька!
И целится из ржавого ружья. Вадька прикрывается рукой, убежать хочет, страшно, но одноглазый усатый Ганькин вдруг появляется с трубой в руках и орет:
– За романтикой приехал! Нас всех обманул! Сбежал!
Слепой глаз у Ганькина открывается, и лицо его нависает над Вадькой, сердитое и улыбающееся, а толстые губы говорят:
– Вот уж я сейчас рассмотрю тебя, кто ты такой!
Вадька пятится, но упирается во что-то спиной – ни сдвинуть, ни обойти. Оглянулся – полуголые, в белых простынях люди стоят, бородатые все, на буровиков похожие, но лица худые, желтые, а от голов сияние исходит. «Да это же святые с икон! – узнает Вадька и смотрит в пустой рюкзак. – Разбежались, черти, как же я вас таких здоровых донесу?» Святые стоят толпой, спорят между собой и, слышно, Вадьку ругают матом, как буровики. Чудотворец выступает вперед и голосом Хозяина-Ганькина говорит:
– Ах ты сучий потрох, продать нас хочешь? В книжный магазин снести?
Сколько валялся Вадька на голой земле – не помнил. Утро это было или вечер, так и не смог определить. Солнце над горизонтом, птицы поют, порог внизу шумит и увалистая тайга вокруг. Боль разламывала тело, болела голова и вся правая часть плохо слушалась, словно Вадька разделился надвое.
Отряхнулся он от кошмара, однако где-то в глубине сознания все еще, как кинолента, прокручивались события, когда-то им пережитые.
Вадька увидел себя на буровой. Станок трясется, дизель урчит, ведущая штанга-квадрат весело вращается, а с сальника наверху легким искристым веером разлетаются брызги промывочной жидкости. Ганькин видит, что сальник подтекает, но станок не останавливает, чтобы подтянуть уплотнение, а тоже задрал голову вверх и любуется. И глаз у него строгий, но добрый. На буровой пахнет маслом, соляркой и крепким чаем, который готовит Вадька. Где-то в глубине алмазная коронка режет твердую породу, хорошо режет, штанга на глазах в землю уходит. Не верится даже: коронка гладкая совсем, а такие камни бурит! Поднимут они с Ганькиным снаряд, вынут столбик керна из колонковой трубы, а он словно отшлифованный, аж блестит!
– Вот здорово! – удивился Вадька, когда в первый раз такое увидел, и долго разглядывал узоры кварцевых прожилок на круглых кусках породы.
– Это тебе не телевизоры ремонтировать! – с достоинством сказал Ганькин. – Ты вот лапаешь руками, а не знаешь, что самый первый держишь эту породу. Никто до тебя ее не касался. Как земля еще только родилась, и людей-то не было, вообще никакой жизни, а камни эти уже были! Понял, Вадька?
– Ого! – сказал Вадька и хотел засунуть керн в карман, но Ганькин молча отобрал и бросил обратно в ящик.
– Бери ключ, спуск делать будем.
И вот Вадька будто снова на буровой. Сидит около костерка, чай варит. Засыпал пачку «Грузинского» в засмоленный от сосновых дров чайник, пустую пачку, как полагается, на носик надел и закрутил, чтобы пропарилась заварка как надо. Будто Ганькин Вадькой доволен, что тот научился первейшей помбуровской обязанности – чай варить, и ключи теперь не путает с подкладной вилкой, и все муфты во время спуска успевает смазать, и даже насос включать научился. Соскочит трос с разношенного кронблока на самой верхушке вышки – не ждет Вадька, когда мастер объяснит, в чем дело. Сам, как кошка, по отвесной лестнице заберется, поправит трос и кричит Ганькину:
– Готово!
Тот радуется, что у него помбур стал разворотливым, и Вадька радуется.
– Расскажи-ка мне про Европу! – говорит Ганькин и чай в кружку наливает. Руки у него мазутные, и кусочек сахара в пальцах кажется белее белого, обычного.
Вадьке не хочется больше вспоминать Ригу, даже душу не щемит, как было раньше. Уютнее на буровой кажется.
– Чем там люди живы? – продолжает мастер и глотает чай. – Слышно было у нас, пляжи там организовали, где мужики и бабы совсем голые вместе купаются.
Вадьке отвечать неохота. Крутит вращатель штангу-квадрат, брызги летят, дизель урчит, коронка где-то в глубине породу режет. А породу ту никто из людей в руках не держал…
– Это уж совсем ни к чему! – заключает Ганькин. – Насмотришься там на них, и весь интерес к бабам пропадет.
«Не кто-нибудь, а я, – думает Вадька, – первым возьму в руки эти камни. И даже геолог, что придет потом на буровую документировать керн, уже будет вторым. А вроде бы что такого, камни и камни… В Риге сколько ими улиц вымощено!..»
– Чем и хорошо здесь, в тайге, – рассуждает Ганькин и сосет кусочек сахара, – насидишься в глухоте да дичи, думаешь, ну скоро и шерстью обрастешь и говорить разучишься. На людей станешь бросаться, как зверь, или наоборот, шарахаться. Однако не так! Уж коли выпьешь настоящей водочки – вкус чувствуешь! На бабу глянешь – душа, как у пацана, екает! Не лапать ее хочется, а смотреть как на диковину приятную! Сладко!
Кусочек сахара белеет в мазутных руках Ганькина, и Вадька ощущает его сладость. Хорошо Вадьке на буровой!
Но что это? Тело ломит от боли, в затылке стучит… А! Его же энцефалитный клещ укусил! Буровая, Ганькин и запах крепкого чая привиделись только. И уже не будет больше Вадька сидеть у костра и варить чан, и смотреть, как станок бурит крепкую, никем не тронутую породу… Ага! Но зато Вадька несет в рюкзаке свое будущее! Нужно только выйти из тайги… Он с Людмилой на собственном «жигуленке» поедет на взморье. Вдвоем они будут бегать по пустынным песчаным дюнам среди сосен…
Он с трудом разогнул ногу и заскрипел зубами. С Людмилой по дюнам побежит кто-то другой, а он скоро умрет, может быть, даже здесь, на краю пропасти у шумящего порога.
«Как же так? – зло и растерянно думал Вадька. – Ганькин же говорил, когда сахар на землю уронил, что в тайге все стерильно. Откуда тогда клещи берутся? На такую большую стерильную тайгу нашелся всего один-единственный заразный клещ и укусил именно его, Вадьку Старухина! Почему? Не укусил же он Ганькина, который полжизни в тайге прожил!»
– А с чего ему меня кусать? – спросил Ганькин над ухом. – Сдался я ему!
– Спаси меня! – закричал Вадька, и распевавшие вокруг птицы враз замолкли и слетели с деревьев. – Ты ведь добрый, Ганькин! Я помню, как ты меня от мужиков защищал, когда они смеялись надо мной! Ты же обещал меня научить за рычагами стоять! Хочешь, я про Европу тебе расскажу?!
– Сдалась мне твоя Европа!
Вадька осекся, сообразив, что это опять галлюцинации, что нет рядом никакого Ганькина и кричать бесполезно. Кто его может найти здесь? Хотя скорее всего уже ищут, и Ганькин ищет.
– Ищу, – сказал Ганькин. – Третий день хожу по тайге, да где же мне отыскать тебя? Я ведь в избу-то не заглядывал; и не знаю, что ты с иконами крадеными убежал. Если бы знал, то по реке бы пошел, а я совсем в другой стороне ищу. Ты же сказал, что за романтикой приехал, я и верю, дурак, думаю, блажь в голове твоей. А ты видишь какой, оказывается, вор! Потому и клещ на тебя отыскался. Тайга, Вадька, грязи не терпит. Она из себя быстро всю заразу вытравит.
Не мог определить Вадька, сколько он пробыл в полубредовом состоянии. Окончательно пришел в себя ночью. Легче стало, голоса пропали. Он встал, по кромке обрыва прошелся. Ночь светлая, холодная, порог внизу утих, туман над водой. Вдруг сорока застрекотала, обернулся Вадька и замер. У рюкзака по-собачьи сидел медведь и, склонив голову набок, смотрел на Вадьку. Это был уже не кошмар, а явь. Сорока опустилась на нижнюю ветку и кричать перестала. Медведь перевел взгляд на нее и всхрапнул – что, мол, орешь, нужны вы мне оба! Я только посмотреть пришел!.. Вадька не шевелился. Удовлетворенный порядком, зверь подковылял к обрыву, искоса посматривая на оторопевшего человека, заглянул вниз. Затем деловито вывернул камень из самой кромки и скатил его с обрыва. Послушав, как грохочет потревоженная осыпь, медведь понюхал землю и, неуклюже развернувшись, ушел в тайгу. Сорока сорвалась с дерева и улетела следом, и эхо ее стрекотания забилось где-то на другой стороне реки.
Вадька опустился на четвереньки и подобрался к рюкзаку, где только что сидел медведь, пощупал выпирающие сквозь брезент уголки икон и, потянув шнур-завязку, вынул расколотого чудотворца. Составил половинки – не сошлись. Полголовы вверху – полголовы внизу. Размахнулся и швырнул их в реку.
– Молодец, – одобрил Ганькин, – соображать начинаешь. Говорю же я тебе, сложности тут никакой. Медведя и того научить можно, лишь бы желание было. Тяжело только поначалу!
Вадька вспомнил, когда говорил эти слова Ганькин: в тот день, когда Вадька впервые не спутал ключи и взял из десятка висящих на перекладине нужный.
По-прежнему на четвереньках, Вадька подтащил рюкзак к обрыву, заглянул вниз и улыбнулся – глубоко! Тяжело поднялся на ноги и кинул рюкзак в реку. Даже подумал: «Вот и идти легче станет!» Но тут на всю тайгу загудело:
– Покаешься!!! Вадька!!! Ты бы мог совсем в люди выйти!!! Покаешься!!!
Голос был знакомый. Так кричал ему Аркадий Васильевич, когда Вадька уходил из телемастерской.
Из-за этого грохота Вадька и всплеска не услышал. Снова посмотрел вниз. Не долетел рюкзак, завис над самой водой, уцепился лямками за рога коряжины. Мелькнули выпавшие иконы и исчезли в пенных гребешках волн снова набирающего силу переката…
Вадьку не разбил паралич. Он не заблудился и не умер в тайге. Он все-таки вышел на реку, Полуживой, лицо в коростах, щеки ввалились, пробилась редкая, с пушком, борода. Если бы он мог увидеть себя в зеркале, ужаснулся бы: волосы стали пепельными от седины, наползавшая на глаза челка была вообще серебристо-белой. Вышел на берег, сел, а встать больше не мог. За десять дней блуждания по тайге Вадька, кроме единственного сухаря, съеденного еще в начале побега, ничего не ел. Банка тушенки осталась в брошенном рюкзаке. Не разводил костров: спички потерял во время ночевки, когда обнаружил клеща.
Вадька лежал на берегу. Идти дальше не было сил. Он лежал и плакал. Слез не было, только гортанные конвульсивные всхлипы. Он знал уже и верил, что скоро умрет, если его не найдут. Он уже терял зрение и слух, сознание работало смутно, и все окружающее казалось продолжением навязчивого кошмара.
В памяти возникали полузабытые эпизоды и, как на зло, все до одного досадные, хотя Вадька, напрягаясь, пытался вспомнить что-нибудь веселое и забавное. Однако все прошлое казалось угрюмым и серым. Дюны на взморье, по которым Вадька собирался бегать босиком, походили на могильные холмы, и будто под каждым лежит его прах. И Людмила в траурном платье под руку с Романом торжественно перешагивала песчаные гребешки могил и уходила вдаль, растворяясь в пустыне. Все, ради чего Вадька поехал в тайгу, ради чего бежал с рюкзаком, набитым иконами, стало для него безразличным. Единственное, что заставляло его огорчаться, – это Людмила, уходящая по нагретому асфальту; не та, что брела с Ромкой по дюнам в развевающемся черном платье, а высокая, загорелая, какой была в день их ссоры. Огорчало и то, что не будет больше запаха свежезаваренного чая на костерке, урчащего дизеля, столбиков породы, которых не касалась рука человека.
В моменты, когда разум становился управляемым, Вадька думал: «Только бы к людям выйти»…
Звук мотора Вадька не услышал, а лишь едва различил двоящиеся очертания лодки и фигуры человека. Лодка шла против течения, медленно выбирая путь среди волн и камней. Вадька замахал руками, хрипло и бессвязно закричал. Человек в лодке повернул к берегу.
– Здорово! – крикнул парень из лодки, причаливая к каменистому мыску. – Ты что, загораешь?
И, наверное рассмотрев Вадьку как следует, уже испуганно и недоверчиво спросил:
– А ты случаем не Старухин?
– Ага… я, я… – прохрипел Вадька.
Парень свистнул и стал закуривать.
– Меня клещ укусил, умираю я!
– Клещ? – переспросил парень и выпрыгнул на берег. Вадька кое-как завернул на спине энцефалитку и ждал, когда подойдет спаситель.
– Куда? – парень дышал тяжело и отрывисто.
– Между лопаток… чуть ниже…
– Ничего не вижу!
– Там… смотри.
– Хэ! Так это же родинка!
– Клещ это…
– Обыкновенная родинка! – обрадовался парень. – Большая коричневая. Тут клеща-то сроду не было. Царапины есть, а клеща нет! Чудак ты, Старухин!
Вадьке сразу стало легко, перестала болеть голова, правая половина тела наполнилась кровью и защекотали мурашки, прояснилось сознание. Он встал на ноги и уставился на парня.
– Ты давай беги в поселок. Тут рядом, полкилометра, – сказал тот весело и пошел назад. Столкнул лодку на стремнину, сел и крикнул:
– А то тебя по всей тайге ищут! Вчера милиционерка откуда-то приехала, тоже ищет! Красавица! Увидишь и умирать не захочется!
В одно мгновение в Вадькином совершенно здоровом сознании до мельчайших подробностей встал весь его путь: от заброшенной избы до зависшего над шумящий порогом рюкзака, набитого иконами. Вадька потряс головой. Иконы раскачивались перед глазами, глядели пристально темные лики. Вадька еще минуту стоял без движения – соображал что-то, вспоминал, тряс головой, а потом уж развернулся и побрел к поселку.








