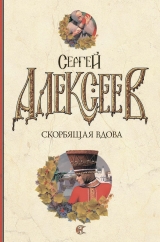
Текст книги "Скорбящая вдова [=Молился Богу Сатана]"
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Она и в храм не ходит?
– Помилуй, благодетельница! – он окончательно воспрял и стал как будто сердобольным, загоревал. – Ведь я ей не указчик, не воспитатель, а волею твоей всего слуга. В храм ни ногой, даже в Великую седмицу, и дома – лба не перекрестит. Не знал бы ранее, подумал – басурманка…
– Лжешь, окаянный! – Скорбящая свечу затеплила и поднесла огонь к лицу Офелия. – Молва была, ты нянюшку мою в храм не пускал и голодом морил…
– Да ей же ей! – тот устрашился и закрестился крупно, ровно дрова рубил. – Я пред тобою ныне, как пред иконой!..
– Довольно, плут! Ступай и позови Агнею!
Домой, в родные костромские земли, кормилица давно просилась, еще при Глебе, мол, отпусти ко правнукам, коль не понянчу, то хоть взгляну на них, а там и умирать пора. На что старуха, когда младых служанок вокруг полно, кухарок, подавальщиц и прочей челяди? Тебе уж нянька не нужна, сама боярыня, достойный муж и сына пестуешь… Ведь я теперь что старая трава: засохла, пожелтела, уронила семя и ныне лишь ноги путаю. Чуть дунет ветерок – и полегла… Негоже зреть на немощь и скудоумие, когда кругом весна и зелень свежая, и цвет искрится…
Не отпустила бы, но стала замечать, как Ванечка – боярский сын и в скором стольник царский, опора государя, заместо воинских забав, ученья книжного и прочих дел мужских, к старухе начал льнуть. Как почивать, так кличет и сказы слушает, словно дитя. Однажды вечером вошла и, затаившись у порога, послушала Агнею и опечалилась – так детством напахнуло. А няня сказ вела про Рай земной, про Беловодье. Де, мол, в далеком далеке, за реками большими и лесами, за волоками и горами есть чудная страна – суть остров, омытый водами, кои светлее хрусталя и чище света. Там, на восьми столбах железных, стоит Сура – суть чаша, куда по вечерам ложится солнце. Когда же утром встанет, на тепленькое место слетают звездочки с небес – насыплются доверху, с горкой, и так весь день лежат, сверкая, как алмазы. И токмо месяц вольный: захочет – сядет в чашу, а нет, так в небе остается. Сей остров, Беловодье, страна покоя, благодати, суть Рай земной, где люди отдыхают. Не ведают они ни ночи, ни тьмы, ни Бога и ни сатаны, не молятся, не бьют поклоны, а токмо утром провожают солнце да вечером встречают с песней. Земли не пашут и хлебов не сеют, поелику на деревах растут плоды, в долинах виноград и овощ всякий – всего обильно. Но сложа руки не сидят. Мужи там – златокузнецы иль камнерезы, покуда солнце отдыхает, они скребут его и трут, и пыль сметают, чтоб днем сияло ярче. Из пыли сей, суть злата, куют оправы, а из звезд погасших, кои остаются в чаше, суть самоцветов, режут камни и вставляют – творят очелья, ожерелья и перстни, и подвески красы невиданной. А жены их огромными гребнями расчесывают волосы светилу, и, начесав куделек, прядут потом и ткут паволоки из солнечного злата. Коль месяцу расчешут голову, прядут серебряную нить. Из полотна сего сошьют рубахи: ткань тонкая, в кольцо проходит, а когда наденешь – и носко, и не марко, и зимой тепло.
Послушав притчу, боярыня смолчала, но Ванечка на исповеди – безгрешная душа! – поведал сам все Аввакуму, и осерчавший духовник велел услать Агнею прочь от себя, мол, сказки нянькины – скверна и ересь, и крамола. К Ивану след не бабок приставлять с их притчами дурными, а матушку Меланью, чтоб укрепила дух, молиться научила.
Пришлось услать…
Час минул, прежде чем за дверью, в переходе, раздался стук клюки. Агнею привели вдовицы – суть приживалки, коих приютил и принял на прокорм еще покойный деверь. На лавку няню усадив, они в тот миг же повалились в ноги.
– Кормилица! Помилуй! Все злые языки! И годы уж не те, чтоб приживать детишек!..
Агнея не состарилась, поелику у старости тоже был край. Разве что суше стала, костистей и, показалось в первый миг, слепой. Взор мимо проскользил и замер на огоньке свечи…
– Храни Господь, – боярыня склонилась. – Здорова ль, нянюшка? Я тосковала…
Она молчала, зато вдовицы суетились и били лбы.
– Помилуй, государыня! Не виноваты! Офелий же, Григорьев сын, к нам ласков был, не обижал! Ну, было иногда, щипнет или подол поднимет… Не для греха – потехи ради!
– Ступайте, будет! – застрожилась она. – И не трещите тут! Завтра ответите… Прочь от меня, лукавые!
Перед отсылкой нянюшки, Скорбящая, ей воздала с лихвой – на двух подводах уезжала, везла подарки для детей, внуков и правнуков. Самой же наложила большой сундук добра, чтобы нужды не знала до самой смерти. Все со своего плеча дала, рубахи, платья, платки и шали, и обувь разную – в боярские одежды нарядила. Должно быть, сродник все отнял и рухлядью сей одарил вдовиц, а те не ведали, откуда есть добро и заявились в сарафанах няни. Зато саму одели в тряпье, лежалое и тронутое тленом, разве что лапти новые, немятые, со скрипом…
Прогнав распутниц, боярыня пред няней на колени, облобызала руки, к ланитам их прижала.
– Ужель не зришь, кто я? Или забыла?.. Взгляни же, нянюшка! Не чаяла уж свидеться… Узнала?
Едва вдовицы за порог, Агнея плат сняла, кокошник золоченый и, распустив власы, стала плести косу. Взор потеплел, очистился, и слепота сошла.
– Да как же не узнала?..
– Поклон тебе от Евдокии. Ты помнишь Дунюшку? Обеих нас кормила…
– Как же не помнить? Помню!.. А кто она?
– Сестра моя!.. Ну, Евдокия? Да замуж вышла за Петра? Урусова? Ты ж еще ругалась: почто татарину отдали красу сию – Дуняшу?
– Ах, да, ну, помню, – как будто спохватилась няня. – И верно, почто татарину отдали? Погубит он ее, живой посадит в яму.
– Постой, кормилица… Как страшна речь твоя! Сдается, не признала… Позри, позри – кто я?
– Сестреница моя.
Скорбящая чуть отстранилась и нянюшкины руки отпустила.
– Агнея, Бог с тобой… Я Феодосья! Ты нянчила меня и Евдокию, вскормила нас… Ужель не помнишь?
Она главою покачала, вздохнула тяжко:
– Совсем плохая стала… Я много старше, а в уме. Какая Феодосья, коль Федора? Федорой от рожденья звали, с сим именем умрешь… Ну да, а грудью я кормила, и посему в душе твоей частица моей плоти. И коль ее не растеряла, послушаешь меня и так поступишь, как я скажу. Не то ведь смерть тебе придет… Да не печалься! Сие не скоро будет. Ты мыслишь над людьми своими суд учинить, а того не знаешь, что завтра приключится.
– И что же приключится? – с опаскою спросила и поднялась с колен.
– Сосватают тебя. Эвон как расцвела, да и летами вышла – пора!
– Ах, нянюшка… Ужели ты не помнишь мою свадьбу? Я ныне уж вдова, мой государь-свет Глеб Иванович семь лет тому почил…
– Довольно уж болтать, октись! – чело нахмурила. – Невеста уж, а как дитя… Сегодня же смотрины были! Ты жениху понравилась, инно бы знак не подал. Коль приняла сей знак, знать и тебе пришелся…
– Знак? – Скорбящей стало знобко. – О, Боже Правый… Не принимала знака. И смотрин…
– Ну, девушка! Да ты вконец ослепла и разум растеряла! А шапка? Соболья, с красным верхом да шелковым подкладом?
Боярыня сломалась.
– О, Господи! Святая Матерь!.. Я шапку приняла.
– Вот и добро. Как завтра обручитесь, так я домой пойду, – Агнея встала. – Давно домой пора, но с миром сим все как-то не сочтусь. Покуда прощевай. Не думай боле, не терзайся, а почивать ложись.
– Кто мой жених? Кто всадник тот?
– А князь, сестреница. Боярин Вячеславов.
– Как его имя?
– В миру Василий, – и дверь клюкой толкнула. – Послушай мой совет. Какой бы ни был дар, уйми и норов свой, и предрассудки – прими, не прекословь. Инно ведь кровь прольется!
Свеча пред образами полыхнула, и огонек ей поклонился вслед…
6.
Хоть привели, как вора, на веревках, однако на подворье сняли железа и не под землю сунули – в палаты посадили и принесли еды. Тишайший помнил протопопа и благоволил, не то в Елагин показал свой нрав. Всех беглых сразу при поимке пороли насмерть, а кто выживал, много недель держали в яме, клеймили щеки, лоб и отправляли в монастырь, на цепь. Царь же щадил его и не затем, чтоб вразумить иль милостью своею приручить, заставить кукишем молиться. Давно Пилат изведал, что жаждет Аввакум – каленого железа, встряски, пыток, мук принародных и смерти на миру. Дабы была причина крикнуть:
– Позрите, православные! Да разве се по-христиански – так человека мучить?
Он жаждал мук и потому бежал, и много хитростей придумал, чтоб разозлить царя и его придворных – суть, палачей. Теперь же, по воле Божьей получив Евангелие Матфея, крупицу от Приданого, он путь позрел, указанный Всевышним – лишить антихриста святыни! Отнять источник животворный, чтобы спасти его, надежно спрятать и уберечь до тех времен, когда на Русь вернется православный царь, а с ним и право называться Третий Рим. Но чтоб пройти сей путь, нужны были иные и подвиги, и жертвы: супротив них каленое железо и дыба – сущий пустяк. От телесной боли страдает плоть, а от притворства, фарисейства, змейства душа изъязвится.
Да милостив Господь, и зрит, чего во имя сей подвиг.
Так размышляя, Аввакум до ночи просидел в палатах и, помолившись, хотел уж было отойти ко сну, да брякнул вдруг засов, дверь отворилась. Увидел бы стрельцов или Елагина, и глазом не моргнул, однако на пороге архимандрит стоит, Иоаким, и посох держит не по чину. С ним два вельможи – светлейший князь Воротынский и князь Одоевский – придворные царя, да еще пес поганый, думный дьяк Иванов.
Распоп себя смирил и, с мыслями собравшись, впал в притворство.
– Рад видеть в здравии… Премного благодарен, сподобились и навестили несчастного распопа, – и к Иоакиму, с поклоном: – Благослови, отец святой.
Они ж стоят, таращатся и слова не обронят: то ль пребывают в ярости, то ли с испугу все лишились речи.
Архимандрит отпрянул, рукою заслонился:
– Изыди, сатана!..
А сатана Иванов уж тут как тут, едва лишь помянули – схватил за шиворот и поволок на лестницу.
– Ну что, распоп, идем! В сей час благословим!
Господь все видел и подставил ножку. Дьяк оступился и головой своею, саблей ступени сосчитал и, когда скатился, встал на карачки и к стене пополз. И там, держась за камни, ругаясь матерно, хотел подняться. Тем часом Аввакум без спешки вниз спустился и подсобил ему. Светлейшие князья и вовсе онемели и токмо рукавами машут, архимандрит уж было посох поднял, но не ударил, заругался:
– Ужо вот я тебя!..
В повозку сели, и тут распоп заметил: прячут его от глаз чужих, хоть и ночь на дворе. Иоаким рясой прикрывает, князья с боков, а вместо кучера на облучок забрался думный дьяк. Так и поехали по улицам. Пустынно на Москве и смрадно, гулко, как в бочке смоляной. Архимандрит тряпицу изготовил, чтобы уста зажать, коль закричит распоп, а караулить надо было в дьяка – того стошнило, зарычал, как зверь, и всех обрызгал, всем досталось, особенно князьям. Чуть погодя опять на всю Москву взбугал, ну и пошло. Иоаким не сдержался, отчищая рясу:
– Да, батюшка, сколь же ты съел-то ныне? И день-то постный был, пяток…
В Чудову обитель привезли и сразу же спустили в подземелье. А там все приготовлено: кузнечный горн горит, железо калится, веревка спущена со свода и дымно, как в курной избе. При сем один палач, Иван Елагин, других не допустили. Знать, пытка тайная, и спрос будут чинить светлейшие князья.
Распопа к дыбе подвели, подрясник сняли, рубаху сдернули, оставив лишь вериги на голом теле. Веревкой повязали локти…
– Ужо помужествуем, Вань, – промолвил Аввакум и крест сотворил в уме. – Ну что стоишь? Вздымай.
– Годи, апостол, – князь Воротынский шапку снял, упарился, как в бане. – Поднять успеем… Ответствуй мне: где свиток взял?
– Спросил бы ранее, я в сразу и сказал.
– Добро, скажи сейчас. Нас государь послал…
– Сперва ответь, как крестишься! – встрял Иоаким и посохом пристукнул. – И как персты слагаешь!
– Я в показал, да руки связаны, – вздохнул смиренно Аввакум.
И тут вмешался Одоевский:
– Пускай хоть кулаком! Или ногой!.. Ты, Аким, не суйся!.. Откуда свиток? Каким путем попал?
– Господь послал.
– Не зли меня, распоп! И не юродствуй! Коль раньше получал пощаду по воле государевой, надеешься и ныне увильнуть от казни? Не обольщайся, милости не будет, – князь будто бы увещевал, но получалось грозно. – Сгноим в сих подземельях, и ни одна душа вовеки не узнает, как ты подох и где.
– Постой, князь Яков, не грозись, – вступился Воротынский. – Не забывай, кто пред тобою. Се есть ревнитель Аввакум Петров. Его ли казнями стращать?
– Разбойник он и вор!
– Остынь… Коли начнем с огня – получим пламень, и боле ничего. Огня он не боится, поскольку жаждет правды…
– Да он холоп!
– Нет, Яков, не холоп. Происхождением – согласен, по духу он боярин и достоин, чтоб говорить открыто, без обиняков.
Князь Одоевский лишь головой боднул.
– Что Никон был мужик и нерусь, что сей распоп, суть, блядин сын…
Архимандрит насторожился, однако же, смолчал – должно, не понял, о чем это князья. А Воротынский выдернул топор из чурки, для устрашения стоящей, бросил в угол и сел.
– Доселе учиняли спрос за крест и веру, по-божески с тобою обходились, поелику твое упорство имело помыслы иные, – завел он речь негромкую, как старец из пустыни. – Ты спорил с иерархами, ты истину искал и твердостью своею польстил двору. А обличая Никона, хуля за ересь, ты пособил царю избавиться от патриарха, когда в его стараниях нужда отпала.
– Ты что глаголишь, князь? – архимандрит готов был полыхнуть огнем. – Какую речь ведешь? И кто дозволил…
И тут светлейший князь вдруг усмехнулся и в миг единый погасил огонь:
– Уймись, Акимка… Получишь ты, что хочешь – панагию, посох и Церковь православную. Уж недалек тот срок. Чего еще?.. Тебе бы должно кланяться распопу. А ежели в Аввакум не пособил, не грыз бы Никона и не хулил царя, увидел бы ты место патриарха? – помедлив, опахнулся шапкой и дружески добавил: – Скажи Елагину, чтоб не качал меха. Эвон, старается, злодей. Скорее, нас уморит…
Распоп едва дышал, однако не присел, не поклонил главы, чтобы уйти от дыма. Речь Воротынского его смущала и вызывала любопытство с такой же силой, как случалось в те времена, когда он отроком пел в церкви и, хоронясь за аналоем, с лютым страхом старался заглянуть за царские врата, когда там совершалось одно из таинств.
Князь между тем продолжил:
– Да, что Петров сын, Аввакум, ты многое изведал и много прочел в Писании и прочих книгах… Так должен знать, как мир устроен. Ты пособил государю – он увенчал тебя венцом терновым, дозволил пострадать за веру.
– Дозволил? – переспросил распоп, задавливая гнев. – Сей путь я выбрал сам, по воле Божьей. И крест несу. Мне государь здесь не указ.
– Добро, что мыслишь так. Знать, все учел Тишайший, насквозь тебя увидел… Сам выбрал! Не воля бы царя, ты в из Даурской ссылки не вернулся. Пашков прибил бы где и прикопал, иль в воду бросил, рыбам… Не возжелал бы государь, ты бы в Москве не пикнул. Не то, что на площадях вещать! А он дозволил принять страдания, благословил на подвиг ради веры и благочестья древлего. А ты ведь мыслил – все по воле Божьей?
Дым ел глаза, коптил уста и глотку, речь вязла на зубах и забивалась кашлем. Распоп молчал, ибо светлейший князь внезапным откровением сразил его. А лучше бы язык отрезал…
– Безбожники вы все округ престола, – распоп откашлялся и воздуху глотнул. – Зачем вам вера? На что вам церковь?!
– На что – желаешь знать? Народ в узде держать! – блистая нездоровым взором, промолвил Одоевский.
– Не богохульствуй, князь! – тяжелым басом гаркнул Иоаким, однако сразу же примолк.
Распоп лишь в раж вошел и начал обличать:
– Мужи боярые, вельможи! Да вы же фарисеи! Да вы ж Христа распяли! Придворные лжецы!.. Господь узрит – аукнется обман! И вас – ногами! Подобно гадам поползете, ужалите свой хвост. Геенна огненная вам!
– Ужо я слышу Аввакума! – князь Воротынский встал. – А то притворщик был… Должно, так и случится когда нито, ты мученик, почти святой, а говорят, устами их вещает сам Господь. Он спросит с нас… Но ныне я спрошу с тебя, на то и послан государем. Тебе дозволили кричать – ну и кричал бы, хулил, бранился, вершил свой подвиг. Ты ж возгордился, брат, и сел не в свои сани. Заместо дел духовных залез в державные, где ничего не смыслишь. И навредил зело! Обоз царя пограбил…
– Побойся Бога, князь!
– Откуда ж свиток сей? Тебе же ведомо, чей был он и ныне кому принадлежит. Но как к тебе попал?
– В дар получил, за труд, – признался Аввакум. – Вот крест святой. Младенца окрестил, усопшего отпел…
– Как ты посмел? – взревел тут Иоаким. – Тебя расстригли и лишили сана! Ты не приносишь благодати Божьей!..
– А ты приносишь?! – не выдержал и огрызнулся Аввакум. – И для сего в святом монастыре не молишься – пытаешь! Огонь – твой дух, железо – крест, а дыба – символ веры!
– Кто одарил так щедро за труды? – вмешался Одоевский. – Покойный цезарь?
– Разбойный атаман…
Князья с архимандритом придвинулись к нему, как вороны к добыче, и клювы приоткрыли, Елагин ухо навострил у горна – все ждали правды. И токмо думный дьяк, лежащий на соломе, стонал сквозь зубы и, помочив тряпицу, прикладывал к челу.
– Ну, сказывай, – дворецкий государя, князь Иван знак сделал Одоевскому – не суйся. – По сговору сей атаман обоз остановил…
– Да ни бывало! Се Промысел Господний. Позвали окрестить, куда-то привезли – деревня, лес кругом… Думал, живым не выпустят, себя отпел. Но за труды воздали, отпустили…
– А ты и не изведал, чем воздали? – князь Одоевский усмехнулся. – Покуда складно врешь…
– Изведал, – распоп сверкнул глазами. – Евангелие Матфея… И в тот же час спросил. Старик сказал, и, верно, не слукавил. Де, мол, семь лет тому, на святочной неделе ходили на большак под Ярославль, обозы грабить. Лазутчик с постоялого донес, обоз купеческий идет, на шесть подвод с сукном, сапожной кожей, скобяным товаром. Однако же при нем пять верховых охраны и ездовые при фузеях: знак верный – серебро везут в Великий Устюг. Где-то в лесах подкараулили и свору прирученных волков спустили. И под шумок отбили воз, а в нем ни сукн, ни кож, ни серебра – рогожею прикрыты два сундука. В них свитки, книги… Тут лиходеев страх объял: с виду обоз купеческий, но судя по начинке – государев. Суровый сыск грядет… Подводу бросили с товаром и утекли. Лишь пару свитков прихватили. Де, мол, обычай, для жертвы надо взять хотя в иголку или клок соломы. И Господу воздать, чтобы не выдал. Еретики! У них закон такой!
– Язычники поганые! – Иоаким посохом потряс. – Крамольники и суеверны!
– Я тако же сказал…
– Где сия деревня? Где их стан?
Распоп расхохотался.
– Под носом у тебя, Акимка! Как будет ведро и дым рассеется – залезь на колокольню. И сам позри! Коли от них Иванову главу позришь, так и с нее сей стан увидишь. Бориска Годунов отстроил верх, так далеко видать! И погрози им сверху! Тебе же недосуг нести в народ ни веру, ни слово Божье, по новому обряду твой крест – каленый прут, а чин отпеванья – цепи!..
– Ну, полно вам! – прервал светлейший князь. – Молчите оба!.. А ты, Елагин, подь сюда. Ответствуй мне, что добыл в сыске. Сколь правды за распопом?
Стрелецкий полуголова передник снял и руки вытер.
– На святки был обоз… Пограблен… Семь лет тому, егда Приданое перемещали…
– В странноприимном доме что сыскал? – прикрикнул князь.
– Там есть догляд… Все верно: как буря началась, мужик приехал, попа искал, младенца окрестить по старому обряду. С печи слез инок и вызвался. По образу похож на Аввакума…
– А свиток был при нем?
– Я ключаря пытал… Покуда инок спал на печи, ключарь суму потряс. Крест деревянный, кадило, масло, требник и кус сушеной рыбы. Да вон сума лежит, все там и есть…
– Деревню поискал?
– Подобных деревень там два десятка, и все в лесах. Где сыщешь правду? – Елагин головой боднул, взбивая смрад. – Как Ирод-царь, ходил, искал младенца, коего распоп крестил…
– Чья вотчина? – князь Воротынский зачерпнул воды, напился и плеснул в лицо.
– Была за Гришкой Клубовым, придворным ловчим, но своевольник сей по собственной охоте вепрей стрелял в угодьях. Хватился государь, ан нет зверей!.. Разгневался, боярина в опалу, на Вологду услал и вотчины лишил. Теперь твоя, светлейший князь.
– Моя?..
– Пожаловал тебе после похода на поляков. Но люд того не знает, вот и творит разбой. А коли знал бы, в чьей крепости он ныне, ни в жизнь в не посмел…
Стрелецкий полуголова язвил открыто – верно, мстил Воротынскому за то, что был унижен до ремесла палаческого. Ему ли, дворянину, калить железо и вздергивать на дыбу? Ему ль мараться, собственноручно казня распопа?
Князь не внимал, лишь хмурился.
– Печально… След бы людей послать да утвердить порядок. Иль ехать самому…
Тем часом Аввакум хоть и не висел на дыбе, по-прежнему стоял привязанным за локти, однако чуял, пытать с пристрастием не будут, ибо ответами довольны и вера есть ему. Должно быть, полагали, он запираться станет и изготовились поднять на встряску и умучить, ан не пришлось, и самая пора им пытку учинить.
– О том ли ты печалишься, муж государев? – спросил распоп без всяческой обиды. – Когда я к лиходеям в стан попал, мне чудно сделалось. Иванов купол зрю, кресты Успенского собора, а сам как будто бы стою за тридевять земель. Народ кругом хоть и разбойный, но послушать – не темный вовсе и весьма смышленый. Однако же не ведает, кто ныне царь и что в Москве творится: раскол там, не раскол… И тако же повсюду, князь, не токмо в твоей вотчине. Тут страсти при дворе, бояре и князья то думу думают, как бы престол упрочить, кого царем назвать, то насмерть бьются, чтоб рядышком стоять. Идут на дыбу, под топор, в опалу! – дух перевел распоп и, будто бы с амвона, продолжил с новой силой: – А иерархи? Церковь распинают, пытая и казня в сиих подвалах… Что ты, Акимка, морду отвернул? Не пышкай, как медведь, ведь знаешь, истину глаголю!.. Да токмо не хулю, не обличаю ныне, а вкупе с тобой скорбеть готов. До страстей сих московских народу дела нет! Тебе же чудится, ты Моисей и Русь за собой ведешь, как древних иудеев, во Царство Божие! И Никон мыслил так… Опомнись, Иоаким! И оглянись! Позри, кто за тобой идет? Тишайший государь, заморскими попами на дыбу вздернутый? Такие вот князья, бояре, что труса празднуя, готовы свою светлость в крови топить? Что же примолкли, господа? Иль говорю не так, и вам не ведомо палачество?.. А! Знать, совесть не утрачена, знать, стыд грызет, и сии чувства мне по нраву. И потому скорблю со всеми вами! Как вы, тако ж и я повинен в разброде и беспечности, что на Руси творится. Покуда нет войны, и царь с вельможами, и церковь православная, и суть народ – всяк по себе живет. Кто Богу молится, кто правит, кто ниву свою пашет, кует железо, кто промышляет на больших дорогах. И так из века в век!.. Ужель ты скажешь, князь, что государь сиим народом управляет? Иль церковь овладела его душой, и пастыри ведут ее к спасенью?
И палачи молчали. Даже Иоаким, обнявши посох, присмирел, а думный дьяк, стонавший на соломе, вздохнул протяжно и затих. Распоп почуял – час настал! Внимают слову, ибо пришел миг истины, и не его, а он вздымает палачей на дыбу, и речь, разящая их слух – каленое железо.
Но не злорадствовал, а горевал и плакал:
– Покуда вы, бояре, престол делили, а мы дрались и сварились, сколькими же перстами крест творить и сколько «Аллилуйя» петь, народ изверился и вышел из-под власти. Ни веры нет, ни боязни пред Господом. Ни у кого, Иоаким!.. Стада бредут без пастыря, пасутся сами, вкушают тлен и мерзость, а волки тут как тут… Отрепьев Гришка с кем гулял, кого водил с собою? Не православных ли? А жид овин Богданко, вор тушинский, смутил бы Русь, будь крепкой вера? Ведь не разбойников прельстил, и не холопов темных – вас, бояр, князей. И ныне – Стенька Разин?.. Ох, братья, я скорблю! Когда-то мог царю сказать, челом ударить – в сей час же ворчу лишь пред вами. Не слышит меня царь!
– Да слышу, Аввакум, – дверь потайная распахнулась, и в зареве от горна, подобно призраку, явился государь.
Вмиг слезы высохли, глубинный, застарелый страх костлявою рукой до сердца дотянулся и сжал его, и стынущая кровь по жилам растеклась.
Распоп царей боялся еще с младых ногтей. Помазанники Божьи так были всемогущи и так высоко сидели, что мыслились бесплотными, небесными, в лучах, но с грозными очами, как на иконах Спас. Но ежели Господь недостижим был и суть его сокрыта под ореолом таинств, то государь сидел в Москве, на золотом престоле и говорили, коль постоять у врат кремлевских, можно позреть, как выезжает. И люди многие стоят и ждут, чтоб глянуть, но если посчастливится, не всякий из зевак посмеет приблизиться к карете, даже людей бывалых охватывает страх. А храбры перед ним лишь Божьи люди – блаженные, коим не грех дорогу заступать царю, кричать пророчества и даже побраниться. Однажды Аввакум, будучи отроком, признался батюшке на исповеди, мол, грешен я, гордыня обуревает и неуемный страх. Хочу, де, на царя позреть, не из толпы, не из-за спин, а близко, и чтобы он меня увидел, и посему надумал в Москву бежать. Поп замахал руками, лишил причастия и отослал к отцу, и тот, поставив сына в храме, как грешника великого – лицом к стене, велел молиться с заутрени до полночи. Родитель Аввакума имел священный сан и хоть пьянчужка был, однако свой приход во строгости держал и домочадцам не спускал.
Уж за полночь взял сына за ухо, постукавши челом об пол, спросил:
– Ну, раб Божий, Аввакум, желаешь ли еще бежать в Москву и зреть на государя?
– Ох, батюшка, страх и сказать, – с тоской промолвил он. – Желаю еще пуще…
Тишайший из царей в сей час стоял пред ним и в огненном свечении от горна на самом деле чудился бесплотным. Да токмо уж распоп блаженным был и посему не робкого десятка.
– Слышу, все слышу, Аввакум, – взирая мимо, молвил государь. – Печалишься за Русь… И потому из Пустозерска в Москву бежал? Чтоб с нами поскорбеть?
Приблизившись к распопу, он жалостно позрел, вериг рукой коснулся и очи опустил – ну, истинно тишайший. Токмо за образом сиим скрывался ум колючий, таился твердый и суровый дух.
– Здорово, Аввакум.
– Здорово, государь, – он вскинул голову, расправил плечи, спину. – Не чаял повидать…
– Я иногда спускаюсь и слушаю. Вон как заговорил князей, вон как прельстил речами – стоят, дыхнуть боятся. Забыли, что и государь велел… Ты добрый проповедник, муж смысленный, ученый. Сии достоинства давно узрел и потому позволил книги править. Ты помнишь, Аввакум, Печатный Двор?
– Да помню, государь…
– А я забыл, – тихонько рассмеялся он. – Минуло двадцать лет!.. А с кем ты книги правил?
Распоп подвоха ждал – уж больно мягко стелет, но, как и прежде, ответил правдой:
– Со старцем Епифанием. Ну, и с другими…
– Ох, ох, ох! – вмиг опечалился Тишайший. – Не стало памяти. И верно, с Епифанием. Должно, и ныне вы с ним на пару в Пустозерске?
– Еще и Лазарь с нами…
– А был ли с вами на Печатном Арсений Грек?
– Он языкам учил, – промолвил осторожно и локти за спиной развел – веревка плоть уязвила сильней вериг: боль придавала силы.
– Ужели токмо языкам? Я слышал, книги правил по древним спискам…
– Сам он не правил, поелику на нашем уж больно худо говорил и не писал совсем… Следил, чтобы канон не нарушали и правкой не портили писаний, сверял по книгам греческим…
– Но Бог с ним, с Греком, помянули к ночи… Скажи мне, Аввакум, а по какой нужде к вам Стефан приходил, духовник мой покойный?
– Он как судья нам был. Коль спор затеется, так править или эдак, покличем старца, а он уж скажет свое слово.
Тишайший не поверил, однако продребезжал:
– Добро, добро… А кто в бега послал? Должно быть, старец Епифаний?
– Я сам, по собственной охоте! – чуть поспешил распоп. – Сей старец не способен ни слова молвить, ни писать. Твой муж, Елагин, казнил его!
Царь спешки не заметил и лжи не внял – похоже, мыслил об ином.
– Ответь-ка мне, ревнитель благочестья, зачем ты ночью приходил к вдове Скорбящей?
– А денег попросить, – еще сильнее натянул веревку. – По милости твоей расстригли, приход отняли и в ссылку увезли… Детишки голодают.
– И сколь же подала боярыня?
– Да целых семь рублев.
– Немного подала. Столько недель бежал, столь принял мук, лишений… К разбойникам попал! – царь вроде бы жалел. – И токмо семь рублев… Дом оскудел ее иль поскупилась?
– Скупа, мой свет, скупа…
– Но ране щедро подавала. Может, обидел чем? Неосторожным словом сгоряча иль чем иным?
Чтоб вызвать боль сильней, распоп встал на колена, тем самым приподнял себя на дыбе.
– Бранил ее… Сняла вериги, не спросивши благословления, да мыслям грешным предалась.
– И что ж, вновь обрядил вдову?
– И обрядил, и строгий пост назначил. Пусть страсти укротит, измучив тело! Иссохнет в щепку!.. Да пусть в постах умрет, чем во грехах погрязнет!
– Сурово обошелся!
– Ведь я отец духовный и за нее молюсь. А кто порадеет за вдову? Кто душу ей спасет?
– Добро… Поскольку я государь твой, придется о душе твоей радеть, – дрожащим голоском проговорил Тишайший и сделал знак. – Апостол чистой веры… Воистину, беда. Так хитро все сплетаешь – не отличу зерна от плевел. Где правда есть, где ложь…
Князь Воротынский взял веревку и было потянул – с колен поднял распопа – однако бросил, отвернулся.
– Мне не с руки, уволь уж, государь. Эй, Елагин? Бери-ка вервь, тебе привычней…
– Да будет, вздергивай! – распоп его взбодрил. – Оставь сомнения и страсти. На дыбу вешать – нет греха! Поелику мне любо взглянуть на вас, государи, оттуда, сверху!
– Тьфу, дьявол! – князь отступил, перекрестился. – От вида одного дрожит душа… А он смеется! Иван, что встал? Вздымай!
– Что, княже, напужался смерти? – в лицо расхохотался. – Добро, как выдастся минутка, я научу, как с сей молодкой обходиться. Чтоб не являлась никогда, в затылок не дышала! Захочешь посмотреть иль с нею повенчаться – вовек не сыщешь!
– Вздымай! – уже неиствовал Тишайший. – А ты, Одоевский? Что растерялся, князь? Ну, подсоби ему! И, раз-два – взяли! Ну, архимандрит, считай! Обаче не получишь места!
В три счета на пять локтей подняли. Немыслимая боль взломала плечи, стан, толкнулась в голову и там, свернувшись в шар огненный, спустилась в душу. И в тот же миг исторгла страх!
– Спаси Христос! Сие мне благодать, хоть здесь и дымно…
– Ответствуй, Аввакум, куда со Стефаном ходил? За Истиной?
– За нею, государь. За нею я ходил. Со Стефаном, с другими. И ныне в одиночку, бреду, бреду…
– Зачем вы ездили в Успенский монастырь?
– Молиться, государь. За Русь и за тебя…
– Довольно, не упорствуй. Что Вонифатьев показал? Чему учил?
– Сведом был твой духовник, молиться научил…
– По ветхим книгам?
– Да нет, из уст в уста…
– А что сказал тебе боярин Вячеславов?
– Кто сей блаженный, государь? Сего боярина не знаю!
Тишайший лишь рукой махнул, и палачи воздели еще выше – под самый свод, и прут каленый взяв, приставили к ногам.
– Кто наустил Приданое искать? Кто и зачем?








