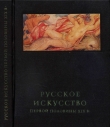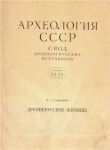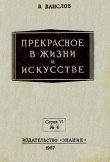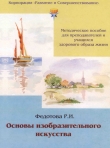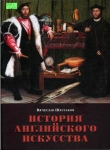Текст книги "У истоков поэтической образности византийского искусства"
Автор книги: Сергей Аверинцев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Отход от этой традиции впервые с наибольшей смелостью совершился, надо полагать, вне ортодоксии: в кругах гностиков. Здесь отвага в игре с темными, загадочными, многосмысленны– ми символами заходит чрезвычайно далеко. Стоит остановиться на гностическом славословии, вложенном в уста Иисуса на Тайной вечере (как некоторое соответствие «первосвященни– ческой молитве» из Евангелия от Иоанна) и дошедшем в тексте апокрифических «Деяний апостола Иоанна» (III век); по– видимому, оно было как-то связано с евхаристической практикой гностиков. Поскольку оно совсем неизвестно русскому читателю, целесообразно дать перевод этого гимна вместе с краткой преамбулой, дающей ситуацию сакрального танца в стиле языческой мистерии.
«...Он собрал нас всех вместе и сказал: „Покуда я не предан в руки их, споем песнопение отцу, и так пойдем навстречу тому, что нас ждет". Потом он велел нам стать в хоровод и держаться за руки. Сам же, стоя в середине, сказал: „Отвечайте мне: Аминь!" Затем он начал воспевать песнь, глаголя:
«Слава тебе, отче!» Мы же, вращаясь по кругу, отвечали ему «Аминь!» «Слава тебе, дух! Слава тебе, святый!» «Аминь!» «Мы хвалим тебя, отче, мы благодарим тебя, свете, в котором тьма не обитает!» «Аминь!» «При благодарении же нашем глаголю: «Спастись жажду и спасти жажду». «Аминь!» «Искуплен быть жажду и искупить жажду». «Аминь!» «Уязвиться жажду и уязвить жажду». «Аминь!» «Рожден быть жажду и рождать жажду». «Аминь!» «Вкушать жажду и предаться во снедь жажду». «Аминь!» «Внимать хочу и услышан быть жажду». «Аминь!» «Умом мыслим быть жажду, всецело ум будучи». «Аминь!» «Омыться жажду и омывать жажду». «Аминь!» «Благодать пляшет и поет; играть на флейте жажду; пляшите и пойте все вы!» «Аминь!» «Скорбеть жажду; рыдайте все вы!» «Аминь!» «Единая Огдоада нам подпевает». «Аминь!» «Двунадесятый сонм пляшет и поет в вышних». «Аминь!» «Целокупности должно плясать и петь». «Аминь!» «Кто не пляшет, не разумеет совершающегося». «Аминь!» «Бежать жажду и остаться жажду». «Аминь!» «Украшать жажду и украшен быть жажду». «Аминь!» «Воссоединиться жажду и воссоединить жажду». «Аминь!» «Дома не имею и домы имею». «Аминь!» «Храма не имею и храмы имею». «Аминь!» «Светильник я для тебя, о взирающий на меня». «Аминь!» «Зерцало я для тебя, о мыслящий меня». «Аминь!» «Дверь я для тебя, о стучащийся в меня». «Аминь!» «Путь я для тебя, о путник». «Аминь!»
Атмосфера, которую живописует этот гимн, – атмосфера мистериального кругового танца. Иисус, стоящий в центре хоровода, сравнивает свою речь с музыкой флейты – дионисий– ского оргиастического инструмента. Конечно, сам по себе образ священного хоровода был мистической аллегорией, достаточно распространенной и в ортодоксальной церковной литературе той эпохи. В качестве примера могут быть приведены слова Климента Александрийского (ум. ок. 215), рисующие христианское благовествование как новую музыку:
«Те, кто отреклись и освободились от Геликона и Киферо– на, пусть оставляют их и переселяются на гору Сион: ведь с нее сойдет ном»'; и «из Иерусалима – слово Господне» (Исайя, 2); «Слово небесное, непобедимый в состязании певец, венчаемый победным венком в том театре, имя которому – мироздание. Это мой Эвном поет, не Терпандров, и не Капионов, не фригийский, не дорийский и не лидийский ном, но вечный напев новой гармонии, божий ном» [28]28
Игра слов: греческое слово vouoq означает одновременно «закон» (в данном случае ветхозаветный) и «ном» (музыкальный «лад»). Идея отождествить нравственный порядок заповедей с эстетической упорядоченностью музыкального лада приходила христианским авторам патристической эпохи чрезвычайно часто (ср. тексты, приводимые в издании: Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966. С. 96—115).
[Закрыть] .
Все это так. Не следует, однако, забывать, что попытки ввести в церковный обиход античную «триединую хорею» (выражение филолога Ф. Ф. Зелинского, который обозначал таким образом нераздельность слова, музыки и танца) производились в эти века вполне реально: еще Иоанну Златоусту (ум. 407) приходилось укорять прихожан, переносивших в церковь «действия мимов и танцоров, непристойным образом вытягивая руки, притопывая ногами и выворачиваясь всем телом» [29]29
In Jo. , 1. PG, t. , col. -102.
[Закрыть] . Играл свою роль и пример синагогального пения, во время которого широко применялась так называемая «хирономия» – интенсивная жестикуляция, иллюстрирующая движение мелодии [30]30
Средиземноморским народам с их южным темпераментом вообще свойственно двигать руками во время пения: характерно, что древнеегипетский иероглиф, обозначавший понятие «петь», имел форму руки. О синагогальной «хирономии» см.: Е. Werner. Op. cit., p. .
[Закрыть] . Если бы эти тенденции победили, византийской церковной поэзии пришлось бы развиваться внутри совершенно иного эстетического комплекса, больше напоминающего античное театральное действо, нежели православное богослужение; надо думать, интонации гимнов стали бы от этого отрывистыми и экстатичными, как мы и видим в приводимом нами тексте из «Деяний апостола Иоанна» [31]31
В качестве примера сакральных выкриков, порождаемых синагогальным религиозным темпераментом, приведем несколько строк из одного еврейского гимна византийской эпохи (Ha'adereth weha
[Закрыть] .
Однако этого не произошло. Христианский аскетизм с его глубочайшим недоверием к оргиастическому телесному экстазу, к безотчетным импульсам и позывам крови («кровяному разже– нию», как будут говорить православные мистики) не мог потерпеть храмового танца. Идея этого танца осталась, но в «снятом», преображенном, спиритуализированном виде, лишь как намек и символ, не как физическая реальность; например, в чин крещения и в чин венчания греческой церкви входит шествие по кругу вокруг купели и соответственно вокруг аналоя, что представляет отвлеченный знак кругового хоровода [32]32
Ср. толкование Симеона Солунского на литургию (Expos, div. lit. ; 282). О пропасти между образом танца в дионисийском и христианском культе ср. замечания: А.Ф. Лосев.Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 74—75.
[Закрыть] . Подобным же образом в знаменитом пасхальном каноне Иоанна Дамаскина (ум. ок. 750) будет говориться о пляске «богоотца Давида» «перед ковчегом завета» (песнь 4), о праздновании Пасхи «ударами веселой ноги» (ауоЛАоцёУсо яоб(, Kpooovxeq, песнь 5); в тропаре на праздник Троицы брат Иоанна Дамаскина Косьма Маюмский назовет дух святой «хорегом жизни», то есть устроителем вселенского хоровода, всемирных игр бытия [33]33
Как известно, хорегом в некоторых греческих полисах назывался руководитель хора, его «запевала», а специально в Афинах – гражданин, взявший на себя расходы и труды по подготовке хора. В терминологии греческих астрологов слово «хорег» означало звезду, определяющую своим влиянием тот или иной род человеческой деятельности. Впрочем, в позднеантичном греческом языке самое нормальное значение – «предоставляющий средства», «даятель», отсюда в славянском переводе тропаря Косьмы («Царю небесный, утешителю...») термин «хорег» передан словом «Податель».
[Закрыть] . Мы видим, таким образом, что дионисийское настроение, пронизывающее приведенный выше гимн из «Деяний апостола Иоанна» [34]34
Чтобы термин «дионисийский» в приложении к некоторым периферийнымфеноменам раннехристианской религиозности не казался надуманным, приведем два колоритных факта. Гемма Берлинского музея изображает Распятого на кресте, навершие которого украшено серпом луны, а сверху видны семь звезд; надпись гласит: «Орфей Вакхический» (см.: О. Kern. Orphicorum fragmenta. Berolini, . № 150, S. ). Другой христианский памятник дает рельефное изображение Амвросия Медиоланского со змеевидным посохом в левой руке и с вакхическим тирсом, увенчанным шишкой пинии – в правой, и на престоле
[Закрыть] , нашло свое место в позднейшей православной византийской гимнографии; но оно было строго обуздано и ограничено непреступаемыми пределами мистической аллегории. Любые попытки дать ему чувственную реализацию повели бы в границах христианского обихода к извращениям, известным по позднейшему феномену хлыстовства; поэтому на них было наложено вето. Восторжествовала эстетика тихой сосредоточенности, «духовного трезве– ния»; дионисийский хмель претворяется в то, что еще иудейский мистик Филон Александрийский (I в. до н. э. – I в. н. э.) называл «трезвенным опьянением» – цт|6г| тцр6Ало<;.
Возвратимся, однако, к гимну из «Деяний апостола Иоанна». Как может убедиться читатель, гностический, неправославный характер этого гимна определяется отнюдь не только его «хороводной» образной системой и даже не только его богословской терминологией (например, упоминанием «Огдо– ады», то есть совокупности тех восьми «эонов», или духовных первоначал сущего, о которых учил гностик II века Василид, между прочим, тоже писавший какие-то «псалмы»). Важнее другое. Христос, каким его изображает автор апокрифа, не есть только спаситель, всецело светлый и чистый; он и сам нуждается в просветлении и спасении, в искуплении, в «воссоединении», которые приносит людям [35]35
С этим же тяготением гностиков к двойственным, амбивалентным образам, совмещающим в себе тьму и свет, связано то, что женственное воплощение харис (благодати), жену, «благословенную в женах», они видели не в непорочной деве Марии, но в обращенной грешнице Марии Магдалине; это особенно характерно для трактата «Пистис София», а также для новонайденного «Евангелия от Филиппа». Ср.: J. Fendt. Gnostische Mysterien: Ein Beitrag zur Geschichte des christlichen Gottes– dienstes. MQnchen, . S. -80. Anra. .
[Закрыть] . Он – не только субъект, но и объект акта спасения, так что глаголы, описывающие этот акт, применяются к нему не только в действительном, но и в страдательном залоге [36]36
Ср.: К. Beyschlag. Herkunft und Eigenart der Papiasfragmente // Studia Patristica. Bd. IV. Berlin, . S. —280 (методологически устаревшая статья, во многом связанная с характерными предрассудками «сравнительного религиеведения» начала века!); М. Foerster. Vom Ursprung der Gnosis // «Christentum am Nil», hrsg. von K. Wessel. Recklingshausen, . S. —130. Эти представления связаны, между прочим, с образом земного «близнеца» (т. е. двойника) Христа, каковым для восточно-гностических кругов представлялся образ апостола Фомы (имя Фомы означает по-арамейски «Близнец»). См:. G. Quispel. Das ewige Ebenbild des Menschen: Zur Begegnung mit dem Selbst in der Gnosis // «Eranos-Jahrbuch ». Zurich, . S. —30.
[Закрыть] . Этот образ «спасенного спасителя» [37]37
Трудно удержаться от соблазна привести параллель из драматической поэзии XIX века – заключительные слова музыкальной драмы Рихарда Вагнера «Парсифаль»:Чудо верховнейшего спасения: Искупление искупителю!
[Закрыть] больше напоминает Сиддхартху Гаутаму, становящегося прозревшим Буддой, нежели Христа ортодоксальной веры. Родственное представление о ниспосланном свыше посланце, который, однако, в стране мрака сам подпадает под власть сил мрака и должен быть выведен из забытья пробуждающим окликанием с родины, лежит в основе другого замечательного памятника неортодоксальной христианской гимнографии – так называемой «Песни о жемчужине», дошедшей в составе апокрифических «Деяний апостола Фомы» (написаны по-сирийски в первой половине III века н. э., вскоре переведены на греческий язык).
Автор апокрифа отправляется от символа многоценной жемчужины – символа, крайне характерного для раннехристианской и византийской религиозной поэзии [38]38
Н. Usener. Die Perle: Aus der Geschichte eines Bildes // Vortrage und Aufsatze von H. Usener. Leipzig—Berlin, Teubner, . S. —231.
[Закрыть] . Еще в одной из притч Иисуса Христа (Евангелие от Матфея, 13, 45—46) жемчужине придан смысл духовной ценности, ради которой ничего не жаль отдать; эта ценность – Царство Небесное. Позднее в гностических, но также и ортодоксальных кругах под жемчужиной начинают подразумевать самого Христа: как будет объяснять в XI веке Феофилакт Болгарский, подводя итоги патристической эксегезы, «„многие жемчужины" – это мнения многих мудрецов, но из них одна только многоценна – одна истина, которая есть Христос. Как о жемчуге повествуют, что он рождается в раковине, которая раскрывает створки, и в нее упадает молния, а когда снова затворяет их, то от молнии и от росы зарождается в них жемчуг, и потому он бывает очень белым, – так и Христос зачат был в деве свыше от молнии Св. Духа» [39]39
' Феофилакт, архиеп. болгарский. Благовестник, или Толкования на Св. Евангелия. СПб., [б. г.]. С. 81.
[Закрыть] . Собственно говоря, эта интерпретация нисколько не противоречит первой: обретение «истины, которая есть Христос», тождественно для верующего с обретением «Царства Небесного». Совсем иное толкование символа имеет в виду «Песнь о жемчужине»: драгоценный перл – здесь не спасение, но спасаемое: избранная душа будущего гностика, которая покуда пребывает в земле египетской, то есть, согласно аллегорическому пониманию Египта, в плотском царстве мрака [40]40
Еще у Филона Александрийского исход иудеев из Египта был истолкован как иносказательное описание освобождения духа от плотского начала (Египет=тело): эта интерпретация была воспринята гностической и патристической эксегезой.
[Закрыть] . Из страны Востока, то есть из царства духовного света, за ней посылают царского сына. «Псалом», который поет апостол Фома в индийской темнице, начинается так:
Когда был я дитятей бессловесным, в чертогах моего отца богатством и роскошами утешаясь, от Востока, отечества моего, родившие меня
в путь собрали и послали меня. От богатств сокровищниц своих они ношу собрали мне в путь, великий, но легкий груз [41]41
Ср. евангельское речение Христа: «бремя Мое легко» (Матфей, 11,30).
[Закрыть] ,
чтоб нести его мог я один. Злато есть бремя вышних, слитки от великих сокровищ, и самоцветы от народа индийцев, и жемчуга от народа кушанов [42]42
Кушаны – древнее ираноязычное племя, во II в. до н. э. пришедшее из Затяньшанья в Согдиану и в Бактриану (Средняя Азия). В I—вв. н. э. существовало Кушанское царство, включавшее обширные среднеазиатские и северноиндийские владения.
[Закрыть] . И надели на меня доспех из адаманта [43]43
Ср. символику облечения в доспех для духовного ратоборства в Послании апостола Павла к Ефесянам: «Станьте, препоясав чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности» (гл. 6, ст. 14).
[Закрыть] , и одеянием златотканым облачили, что сотворили для меня любящие меня, и ризой, желтоцветной, мне по мере [44]44
Словарю Павловых посланий присуще выражение «облечься во Христа» (соответственно «в Господа нашего Иисуса», «в нового человека» и т. п. См. Гал. 3, 27; Рим. 13, 14; Ефес. 4, 24 и др.). Посвященного в мистерии у язычников и принявшего крещение у христиан облекали в новое одеяние. Во всех этих случаях одеяние символизирует некую высшую сущность, образ которой сообщается человеческому Я и им воспринимается. Ниже читатель увидит, что риза царевича есть его верховный двойник.
[Закрыть] .
И сотворили они завет со мною, начертав его в уме моем, и сказали так:
«Когда придешь ты в Египет, изыми оттоле единую жемчужину, обретающуюся подле пасти змия».
Царевич пускается в путь, минует Майшан (область у русла Тигра) и приходит в Египет; там он совлекается своих одежд и через это отчуждается от самого себя. В этом эпизоде Египет приобретает явственные черты царства мертвых. Как известно, сошедшему в царство мертвых никак не рекомендуется вкушать от яств, которые ему там предложат; вкусивший причащается субстанции преисподней и подвластен ее силам (как Персефо– на в греческом мифе). Но людям Египта удается ввести царевича в соблазн, и последний как бы повторяет грех Адама, вкусившего запретный плод:
Не знаю, откуда постигли они, что родом я не из их земли, и смесили они с лукавством обман, и вкусил я от яств их, и позабыл, что я сын царев, и поработился их царю; и пришел я уже к жемчужине той, за которой родившие послали меня, но от тяжелых их яств погрузился в глубокий сон.
бедственном забытьи царевича узнают в Земле Востока, и родители посылают ему такое письмо:
«От отца, царя царей,
и от матери, царящей над землею Востока, и от братьев их, вторых после нас, обретающемуся во Египте сыну нашему – мир [45]45
Приветствие «мир» – семитическое (евр. «шалом», сир. «шло– мо»); по-гречески было бы «радоваться».
[Закрыть] .
Восстань,
и пробудись от сна, и услышь глаголы послания, и воспомни, что царский ты сын! Рабское принял ты иго; воспомни о ризе твоей златотканой, воспомни о жемчужине, коей ради послан ты в Египет!»
Окликание оказывает должное воздействие на царевича, ибо сообщаемое в письме совпадает с тем, что написано в его собственном сердце:
Я же от такого гласа пришел от сна в чувство, и взял, и облобызал послание, и прочел его;
написано же было в нем то, что начертано было в сердце моем.
И тотчас припомнил я, что сын я царей, и свобода моя
взыскует благородства моего; припомнил я и о жемчужине, коей ради послан был я в Египет.
Царевич без труда одолевает змия, изрекши имя своего отца (из чего явствует, что это имя – имя божье, и сам он – сын божий). После этого он пускается в обратный путь. Его ведет все то же родительское письмо, претерпевающее удивительные метаморфозы: оно оказывается и голосом, и светом, и наконец, одеянием, которое одновременно есть зеркало (!), представляющее царевичу его собственный образ. Эти конкретно непредставимые метафоры столь же противоречат традициям античной поэтики, сколь соответствуют нормам поэтики Ближнего Востока: цветистость и неожиданность метафоры призвана гипнотически возбудить воображение, а ее бесплотность, безобразность, неуловимость позволяет тем легче пройти сквозь нее и выйти к лежащему за ней смыслу. Если об одеянии говорится, что оно есть зеркало, всякому ясно, что это и не чувственное одеяние, и не чувственное зеркало. Символ «одеяния» и «зеркала» на наших глазах обнажает свой смысл высшей сущности героя, его сокровенного Я:
Внезапно узрел я ризу мою, подобившуюся как бы зерцалу; я видел ее всецело во мне самом, и был в ней всецело явлен себе, так что были мы двое в разделении, и все же едины в едином образе.
Язык мистики – всегда язык парадокса. Одеяние – это зеркало, и зеркало – это одеяние (не говоря уже о том, что они суть письмо, голос и свет); высший лик посвященного тождественен его личности и одновременно не тождественен ей, они являют собой двоих и единое. Так ортодоксальная теология на Халкидонском вселенском соборе определит соотношение божественного и человеческого естеств в богочелове– честве Христа парадоксальными словами «неслиянно и нераздельно» [46]46
См.: I. Michalcescu. Н2АТРОЕ ТНХ ОР0ОДОЕ1А1. Die Bekentnisse und die wichtigsten Glaubenszeugnisse der griechischen orientalischen Kirche im Originaltext. Leipzig, . S. . Эта формула, как и другие, подобные ей по логической (металогической!) структуре послужила излюбленной темой для византийской литургической лирики. Ср. начало восьмого икоса Акафиста:Весь был Ты долу, но от горних нимало Не отступил, Несказанное Слово...
[Закрыть] . Неслиянны и нераздельны в «Песни о жемчужине» буквальный план повествования и его таинственный смысл. Путь царевича проходит по совершенно реальному географическому маршруту из Ирана, через Южную Месопотамию и Красное море к Египту, а затем обратно; но одновременно это путь духовного нисхождения (соответственно восхождения) через космические планы бытия, ибо Иран расшифровывается как верховное царство чистой солнечной духовности, Месопотамия – как опасное промежуточное царство астральных «тиранических демонов Лабиринта», Египет – как дольняя преисподняя мрака и материи. Кушанская земля, Майшан, Сарбуг – все это места, которые можно отыскать на карте Азии тех времен, но каждому из этих имен придано еще второе, «духовное» значение. Все эти черты – и парадоксализм, проявляющийся в описании неописуемого через пары взаимоисключающих терминов [47]47
Второй икос Акафиста открывается характерным оксимороном: «Знание незнаемое познать желая...» Этот оборот очень типичен для языка церковной поэзии Византии, и одновременно он формулирует ее коренную установку: дело шло именно о передаче «знания незнаемого». Неизвестный византийский автор V века, создавший для Византии ее мистическую эстетику и писавший под именем Дионисия Ареопагита, замечает: «Божественный мрак – это тот недосягаемый свет, в котором... обитает Бог. Свет этот незрим по причине чрезвычайной ясности и недосягаем по причине преизбытка сверхсущностного светолития» (см.: Антология мировой философии. Т. 1. М., 1969. С. 610).
[Закрыть] , и опять-таки парадоксальное по своей сути совмещение предметного и запредметного планов – останутся конститутивными особенностями византийской религиозной поэзии на все века ее существования.
Так обстоит дело с внутренней формой «Песни о жемчужине». Что касается более внешних аспектов ее облика, в частности, ритмического аспекта, то следует сказать, что, по традиционным античным понятиям, ритм ее, безусловно, есть ритм не стиховой, но прозаический. Это относится к «Песни о жемчужине» точно в такой же мере, как, скажем, к тексту Давидовых псалмов в переводе Септуагинты, и причина этому в обоих случаях одна и та же: и здесь, и там мы имеем перед собой не оригинальный, грекоязычный поэтический текст, но более или менее дословный и постольку прозаический перевод стихотворения, созданного в семитической языковой сфере по семантическим законам стихосложения [48]48
Текст, рассматриваемый как сакральный, обычно переводят дословно: поэтому его поэтическая структура неизбежно приносится в жертву. То, что случилось при переводе на греческий язык Давидовых псалмов или «Песни о жемчужине», повторялось впоследствии, когда строго метрически организованные образцы византийской гимнографии стали переводить на славянский язык: место регулярного изосиллабизма Акафиста или ямбов Иоанна Дамаскина в переводе заступил свободный ритм риторической прозы, держащейся на синтаксическом параллелизме и дактилических клаузулах.
[Закрыть] . В самом деле, сирийский извод «Деяний апостола Фомы» предлагает нашему взгляду «Песнь о жемчужине» как поэму с правильной метрикой, основанной на принципе так называемого изосиллабизма (равного количества слогов в каждом стихе [49]49
«The Hymn of the Soul contained in the Syriac Acts of St. Thomas», reedited with an engl. transl. by A. A. Bevan // «Texts and Studies». V, № 3. Cambridge, ; «Zwei Hymnen aus den Thomasakten», hrsg., iibers., und erkl. von G. Hoffmann // «Zeitschrift fur neutestamentliche Wissenschaft». Bd. IV, . S. -309.
[Закрыть] ); характерность этого принципа для семитической и специально сирийской поэзии отмечал еще зачинатель научного исследования византийской гимнографии, кардинал Ж. Б. Ф. Питра [50]50
J. B. F. Pitra. Analecta sacra spicilegio Solesmensi parata. Т. I. Parisi– is, . P. LIII ff.
[Закрыть] , и современная наука с ним солидаризируется [51]51
Ср.: E. Werner. Op. cit., p. .
[Закрыть] .
Решительно все в «Песни о жемчужине» – ее мистическая география, не выходящая за пределы ближневосточно-средне– восточного круга земель и локализующая рай где-то в Иране, и ее образная система, порывающая с античной пластичностью, и, наконец, ее метрика – все указывает на Восток. Ее непосредственная родина [52]52
Эта оговорка необходима постольку, поскольку некоторые гипотезы связывают «Песнь о жемчужине» с дохристианским иранским мифом о спасителе.
[Закрыть] – Сирия, та страна, которая, существенно опередив в принятии христианства греко-римский мир [53]53
Ср. классическую работу А. Гарнака: A. Harnack. Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. Leipzig, . S. -445.
[Закрыть] , под знаком новой веры стремительно освободилась от гипноза эллинистических культурных стандартов, усилиями нескольких поколений создала блестящую самобытную культуру и распространила свое духовное влияние на всю христианскую ойкумену, вплоть до Ирландии (!) [54]54
Ср.: J. H. Hillgart. The East. Visigothic Spain and the Irish // Stu– dia Patristica. Vol. IV. Berlin, . S. -456.
[Закрыть] . Развитие сирийской литературы, уже к IV веку достигающее огромного размаха, похоже на взрыв: духовный мир Сирии, прикрытый тонким пластом эллинистической «псевдоморфозы», как будто давно дожидался своего часа, чтобы вырваться к словесному воплощению – и этим часом для него стала именно эпоха христианизации. И в языческом прошлом Сирия давала литературные таланты, но для знаменитого сатирика Лукиана из Самосаты (ок. 120 – после 176) его сирийское происхождение – всего-навсего экзотический факт его личной биографии, совершенно несущественный для его литературного творчества; между тем всего полустолетие спустя христианско-еретический мыслитель и писатель Вар– десан (Бар-Дайшан, т. е. «Сын реки Дайшан», 154—214) уже всецело укоренен в родной сирийско-месопотамской почве, и это относится как к составу его мысли, так и к словесной оболочке этой мысли. Развитие самобытных тенденций сирийской культуры знаменовало собой отчуждение от греческого влияния [55]55
Характерен уже агрессивно антиэллинский тон «ассирийца Та– тиана» (вторая половина II века), столь отличный от тона его учителя Иустина Философа.
[Закрыть] : но в эту эпоху сами греки склонны были до некоторой степени принять претензии своих восточных оппонентов.
Христианское мировоззрение настолько решительно требовало переоценки эллинских ценностей, что грекам приходилось, принимая новую веру, идти на выучку к Востоку и в какой-то мере отрекаться от самих себя. Ярко вспыхивает извечная ностальгия греческой мысли – томление по материнскому лону восточной мудрости. Ученейшие христианские писатели со времен Климента Александрийского (ум. до 215) наперебой доказывают, что греки всему научились от варваров, что все науки и искусства пришли с Востока, что восточная цивилизация много древнее греко-римской. Все чаще вспоминаются [56]56
Например, Theodoreti Graec., affectat. curatio. rec. J. Raeder. Lip– siae, . P. , 18-20 (c. .51).
[Закрыть] презрительные слова, вложенные Платоном в уста египетского жреца, собеседника Солона в Саисе: «О, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно пребудете детьми, и не бывать эллину старцем: ведь нет у вас учения, которое поседело бы от времени!» [57]57
Tim. p. B.
[Закрыть] Христианство обостряет в самосознании греческой культуры уклон к самокритике (чего стоит заглавие трактата церковного писателя V века Феодорита Киррского: «Врачевание эллинских недугов»!) [58]58
Под действием таких настроений само слово «эллин» на тысячелетие становится одиозным синонимом «язычника».
[Закрыть] и одновременно делает ее открытой для внушений с Востока [59]59
* Эти внушения чрезвычайно наглядно прослеживаются в сфере изобразительного искусства. Ср. образцовую характеристику историко– культурного процесса: «...Как ни значительно было воздействие античности на христианское искусство, основной центр тяжести переносится на иные движущие силы – на христианский Восток и на Иран, начинающие постепенно играть ведущую роль. Все те сдвиги в сторону нового понимания искусства, которые происходили на Западе в условиях сильнейшей идейной коллизии с античностью, на Востоке протекали в менее болезненных формах... Рим все более отступает на задний план, руководящая роль переходит к семитическим народам. В Александрии, Антиохии, Эфесе процветают блестящие художественные школы, оказывающие сплошь и рядом сильнейшее влияние на западную половину империи. Наряду с Египтом, Малой Азией, Сирией, огромное оживление наблюдается в Месопотамии и Иране, откуда двигаются бесконечные волны кочевников, приносящие с собой богатый мир орнаментальных форм» (В.Н.Лазарев.История византийской живописи. Т. I. М., 1947. С. 39. Ср. также с. 45-48).
[Закрыть] .
Таков широкий историко-культурный фон, на котором мы должны прослеживать перипетии становления христианской церковной поэзии. Восточное и специально сирийское происхождение «Песни о жемчужине» – лишь одно звено в цепи фактов, доказывающих авангардную роль Сирии в нащупывании новых возможностей гимнографии. Известно, в частности, что уже упоминавшийся Вардесан (или, по другой версии, руководимый им его сын Гармоний) сочинил 150 «псалмов» по числу псалмов ветхозаветного сборника, создав или хотя бы реформировав [60]60
По преданию, некий «жрец» Анудузбар обучил Вардесана древним месопотамским «песням язычников»; даже если эта версия тенденциозна, она все же отмечает некоторую связь между поэзией Вардесана н дохристианскими литературными традициями.
[Закрыть] для этой цели сирийское силлабическое стихосложение. Мы не располагаем ни одним поэтическим текстом Вар– десана в сколько-нибудь цельном виде: этот богоискатель, тяготевший к астральным мифам своей месопотамской родины, отклонился от ортодоксального вероучения (как, впрочем, и автор «Песни о жемчужине»), а потому почти все его наследие подпало осуждению богословских авторитетов и погибло. Но о литературной инициативе Вардесана ясно говорит самый компетентный и одновременно наименее заинтересованный в похвалах «ересиарху» из всех возможных свидетелей – тот самый Ефрем Сирин (по-сирийски Афрем, 306—373), который ожесточеннее всех боролся с учением Вардесана и ревностнее всех продолжил его работу над сирийским стихом. Вот его слова о Вардесане:
Он создал песнопенья, он придал им напевы, он составлял хваленья, и он в них ввел размеры; в порядке, ладе, море он разделил реченья [61]61
Цит. по кн.: Е. Werner. Op. cit., p. .
[Закрыть] .
Такая характеристика яснее ясного говорит о работе Вардесана над упорядочением просодии. Еретические «псалмы» удобно было запоминать и петь, а потому они получили широкое распространение и привлекли к себе любовь. Изгнать их из народной памяти церковь могла только одним способом: предложив народу гимны такой же или еще большей поэтической и музыкальной силы, но несущие в себе ортодоксальное вероучение. Еретические эксперименты в области гимнографии оказались вызовом, подтолкнувшим православных писателей, одаренных творческими способностями, к новым экспериментам. Иначе и нельзя было бороться за души простых людей: как замечает Василий Кесарийский (ок. 330—379), «едва ли кто из великого множества легкомысленных помнит апостольское или пророческое назидание, слова же псалмов поются в домах, и можно их услыхать на площади» [62]62
Basil. Magn. In psalm. , PG, t. , 29.
[Закрыть] . Ответом церкви на опасную популярность песен Вардесана, еще в V веке доставившую хлопоты епископу Кирры Феодориту [63]63
Theodor. ep. . Сходным образом ортодоксальные авторы горько жалуются на успех «Фалин» знаменитого ересиарха Ария. Воздействие еретической гимнографии побуждало и самых строгих аскетов отказаться от взглядов, высказываемых египетским подвижником Пам– вой, который скорбит о днях, «когда монахи позабудут о строгой пище речений Духа Святого и будут прилежать к напевам и возгласам» (см. наш перевод в кн.: Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966. С. 150).
[Закрыть] , было творчество эдесского монаха Асваны, писавшего шестисложным силлабическим стихом с применением алфавитного акростиха и диалогической драматизации [64]64
Сохранились фрагменты его литургической поэмы, относящейся к чину церковного погребения.
[Закрыть] , и гениального ученика Асваны – Ефрема Сирина, заслужившего у современников почетное прозвище «сирийского пророка». Ефрем выступил как видный религиозный мыслитель, представитель оригиналь– но-сирийского стиля в богословствовании: для него в большей степени, чем для его греческих современников вроде Григория Нисского, на первом месте стоит не умозрение, а проповедь, не догматика, а этика, не смысловая структура бытия, а пути человеческого сердца. Свое учение Ефрем излагал в толкованиях на библейские тексты, в гомилетических сочинениях и, что особенно важно, – в семисложных силлабических стихах: он явил собою едва ли не самого плодовитого поэта, которого только знала сирийская литература, и притом высокоодаренного стилиста. Одна из стихотворных молитв Ефрема, в греческом и затем славянском переводе [65]65
Разумеется, эти переводы выполнены ритмизированной прозой и не дают представления о силлабике Ефрема (ср. выше примеч.). Славянский перевод начинается словами: «Господи и владыко живота моего...»
[Закрыть] , вошедшая в общеправославный церковный обиход, своей глубиной и проникновенностью привлекла к себе внимание А. С. Пушкина, который дал его переложение в александрийских стихах, отличающееся большой точностью [66]66
...Владыка дней моих! Дух праздности унылой, Аюбоначалия, змеи сокрытой сей,И празднословия не дай душе моей; Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, Да брат мой от меня не примет осужденья, И дух смирения, терпения, любви И целомудрия мне в сердце оживи.
[Закрыть] . В творчестве Ефрема приобретают классически четкий облик те жанровые формы, которые и в дальнейшем будут определять собой самобытную структуру сирийской поэзии. Вот важнейшие из этих жанровых форм:
а)мемра (memra) – стихотворная проповедь с несложной метрикой, лишенная акростиха и рефрена, не предназначенная для пения и часто представляющая собой свободный эпический пересказ библейского эпизода;
б)мадраша (madrasa) – богословско-назидательная поэма с обязательным акростихом и рефреном, предназначенная для сольного исполнения в сопровождении хора;
в)согита или сугита (sogita, sugita) – драматизированная поэма, дающая библейские эпизоды в диалогической форме, представляющая их «в лицах» [67]67
A. Baumstark. Geschichte der syrischen Literatur. Bonn, . S. ; R. Duval. La litt6rature syriaque. ed. Paris, .
[Закрыть] .
Запомним на будущее структуру, которую обычно имела согита: она открывалась вступлением, затем шел ряд строф, каждая из которых чаще всего являла собой реплику в диалоге, и, наконец, композиция завершалась заключением. Эту структуру нам еще придется вспоминать, когда речь пойдет о построении византийского кондака.
После смерти Ефрема перечисленные жанровые формы обретали все новый блеск в руках таких поэтов, как Кириллона (конец IV в.), Балай (ум. ок. 460), Нарсай [68]68
Ср.: F. Feldmann. Syrische Wechsellieder von Narses. Leipzig, .
[Закрыть] (ум. после 603) и Иаков Серугский (451—521). Расцвет сирийской поэзии IV—VI веков распространил свое влияние даже за конфессиональные границы христианства. Конечно, нет ничего удивительного в том, что гностическая гимнография того типа, который мы можем наблюсти в «Песни о жемчужине», служила образцом для возвестителей столь молодой религии, как манихейство, родившееся к тому же именно в месопотамской культурной сфере; но влияние церковной поэзии Сирии на синагогальных стихотворцев I тысячелетия н. э. (т. н. пайтаны), отмечаемое некоторыми исследователями [69]69
E. Werner. Op. cit. ch., VII sqq.
[Закрыть] , заставляет задуматься. Очевидно, что в эту эпоху, когда вероисповедные различия были несравненно важнее национальных, двери для воздействий сирийского гения на религиозную поэзию Византии были открыты гораздо шире. Сирийские поэмы, не скованные изжившей себя античной традицией, могли дать грекоязычной церковной поэзии столь нужный ей новый импульс; эта возможность была необходимостью, и она осуществилась.
Но прежде чем она осуществилась, нужно было, чтобы окончательно исчерпали себя попытки соединить христианское содержание со школьными, академическими представлениями эл– линства о том, что есть поэзия. Евангелие предостерегает от того, чтобы вливать новое вино в старые мехи; но в истории культуры новое вино вновь и вновь вливается в старые мехи, пока невозможность этого не докажет себя на опыте.
Самый ранний из известных нам опытов превращения христианской гимнографии в «высокую литературу» – тот далеко не лишенный поэтических достоинств гимн Христу, который замыкает сочинение Климента Александрийского (ум. до 215) «Педагог». Этот гимн построен на сложной комбинации вполне классических анапестов и ямбов; его образная система и архаизирующая лексика тоже заставляют читателя вспомнить скорее о древней Элладе, чем о Библии; по своей структуре он являет собой то, что мы назвали в первом разделе статьи «гимн-именование». В этом гимне нет ничего, что оскорбило бы вкус интеллигентного греческого читателя-язычника; он, так сказать, «salonfahig» («может быть допущен в салон» [70]70
Христианство впервые становится salonfahig именно в той сфере, к которой принадлежал Климент; вспомним о религиозно-философских лекциях, которые читал в присутствии вдовствующей государыни Юлии Маммеи преемник Климента в его «учительных» функциях – Ориген (между 218 и 222).
[Закрыть] ). Но к жизни рядовых христиан, к их переживаниям и восторгам, к складывающейся сакраментальной практике церкви он имеет лишь дистанцированное отношение.
Чтобы читатель мог сам проверить нашу характеристику, мы даем текст гимна в переводе М. Е. Грабарь-Пассек:
Узда коней непугливых, Крыло пернатых парящих, Кормило нешаткое слабых, Пастырь ягнят царевых! Твоих немудрых детей собери Чтобы свято хвалить, бесхитростно петь Устами незлобными Родителя чад, Христа.
Владыка святых, всех смиряющий разум Отца всевышнего, ума начальник, Оплот в трудах вечно прекрасный, Смертного рода Спаситель Христос. Пастух, землепашец, кормило, узда, Крыло небесное паствы святой.
Рыбарь, спасающий смертных Из моря зла; освященных рыб От враждебной волны
Уловляющий жизнию сладкой! Веди нас, пастух духовных овец,
Святой, веди, Владыка детей невинных!
Стопа Христова, путь к небесам, Несякнущий ум, безграничная жизнь, Бесконечный свет, милосердья родник,
Творец добра, Славнейшая жизнь, Божьих певцов Христос Иисус, о, млеко небес От сладких сосцов девы красот, Твою источающих мудрость. Твоих немудрых детей собери, Чтоб свято хвалить, бесхитростно петь Устами незлобными Водителя чад, Христа.
Младенцы устами невинными, От сосцов духовных питаемы, Дыханьем росы насыщаемы, Хвалою немудрой, песней нелживой Царю Христу в священную плату За жизни ученье все воспоем. Воспоем немудро дитя всесильное!
Мирный хор, Христом порожденные,
Сонм целомудренный, Мы бога мира все вместе поем!
Все же в картину раннехристианской культуры гимн Климента вписывается достаточно органично; он оказывает примерно такое же эстетическое воздействие, как, скажем, анти– кизирующие изображения музицирующего Орфея на стенах и сводах катакомб. В обоих случаях мы ощущаем старинное изящество и молодую свежесть чувства, но одновременно слабую согласованность того и другого, необязательность избранного языка форм, неотчетливость художественного идеала и стоящего за ним мировосприятия. Такой была, и не могла не быть, культура церкви во времена Климента. Григорий Нази– анзин, или Богослов (ок. 330 – ок. 390), жил в совершенно иную эпоху, когда стиль церковной догматики и церковного обихода уже откристаллизовывался на века. Но поэтическое творчество этого виднейшего мыслителя и деятеля церкви, иерарха, активно участвовавшего в острых догматических спорах, решающим образом определено тем классическим образованием, которое он получил в Афинах [71]71
О поэзии Григория Назианзина см.: В. Wyss. Gregor von Nazianz. Ein griechisch-christlicher Dichter des Jahrhunderts. Darmstadt, .
[Закрыть] . Пусть в своих содержательных аспектах стихи Григория весьма адекватно передают душевное состояние человека новой, христианской эпохи; в своих формальных аспектах они неисправимо тради– ционны. Один из самых замечательных гимнов Григория написан столь классическим размером, как гомеровский гекса– метр, и при этом настолько чужд специально библейских и христианских мотивов, что немецкому филологу прошлого столетия могла прийти в голову хотя и необоснованная, но все же находящаяся в пределах логически мыслимого гипотеза, согласно которой автор гимна – не христианский иерарх Григорий, а языческий философ-неоплатоник Прокл [72]72
A. Jannius. Eclogae e Proclo de philosophia Chaldaica. Halis Saxon– um, . P. -77.
[Закрыть] . Действительно, стихотворение от первого до последнего слова вращается в сфере таких мистико-философских понятий, которые были общими для языческой и христианской ветвей платонического умозрения. Оно описывает бога как онтологический исток и онтологический предел всего сущего, всего явленного, мыслимого и изрекаемого, который в качестве такого истока и предела сам оказывается немыслимым и неизрекаемым, явленным лишь через символ и трансцендирующим категорию бытия как сверхсущее «ничто». Такое богословствование со времен Псевдо-Ареопагита (V век) принято называть апофа– тическим, или отрицательным [73]73
Об апофатическом богословии см. материал, собранный в следующих работах: С. Булгаков.Свет невечерний. М., 1917. С. 103—146; Fг. Heiler. Die Gottesidee in der Mystik // Numen. Bd. I, . S. -183.
[Закрыть] : оно встречалось еще у Платона, характеризовавшего благо как «лежащее по ту сторону сущности» [74]74
Plat. Resp. , 509В.
[Закрыть] , у герметиков, именовавших бога «несказанным неизреченным, окликаемым через молчание» [75]75
Poimandr. I, , p. Parthy.
[Закрыть] , у Филона Александрийского, Плотина, Прокла и т. д. Когда речь идет о чистой мистике, о переживании, лежащем за словами, все догматические различия отпадают, и люди самых разных вероисповеданий говорят одним языком. Приведем небольшой гимн Григория целиком:
О, превышающий все! Что ж еще тебе я промолвлю? Как тебя слову восславить? Для слова ты несказуем. Как тебя мысли помыслить? Для мысли ты непостижен. Неизречен ты один, ибо ты – исток всех речений, Неизъясним ты один, ибо ты – исток всех познаний. Все и речью своей, и безмолвьем тебя славословит; Все и мыслью своей, и безмысльем тебя почитает; Все алканья любви, все порывы душ уязвленных Вечно стремятся к тебе, и целый мир совокупно, Видя твой явленный знак, немое приносит хваленье. Все пребывает в тебе, и все ты объемлешь собою, Как всеобщий предел, как единый, как все, и, однако, Как ничто из всего! Всеимянный, ты безымянен; Как же воззвать мне к тебе? Какой из умов занебесных В светы проникнет, тебя сокрывшие? Будь благосклонен, О превышающий все! Что ж еще тебе я промолвлю?
(Пер. С. С. Аверинцева).
Конечно, если бы этот гимн и мог быть сочинен языческим богоискателем из числа поздних неоплатоников, он заведомо не мог бы выйти из-под пера грека классической эпохи; устремленные к богу «алканья любви» и «порывы душ уязвленных» несовместимы с тем холодноватым пафосом дистанции, который отличает языческую эллинскую гимнографию. Но в чисто формальном жанровом отношении философское славословие Григория ничем не отличается от таких созданий античной любо– мудрствующей музы, как, скажем, гимн Зевсу Клеанфа: та же риторическая интонация, та же смысловая структура, исходящая из антитезы божества и универсума, та же «гомеровская» лексика, наконец, тот же гексаметр. Оба гимна предназначены для чтения в тиши кабинета, отнюдь не для богослужебного обихода. Литургическим песнопением гимн Григория не мог бы стать и притом по двум причинам: не только ввиду его малопонятной лексики и особенно его устаревшей просодии, делавшей его непригодным для пения, но и ввиду отсутствия в нем актуальной догматической топики. В бурную эпоху споров церкви с арианами, аполлинаристами, евномианами, а столетием позже с несторианами и монофиситами, богослужебный текст небиблейского происхождения призван был отделять ортодоксальное вероучение от всех видов гетеродоксии и запечатлевать его в умах верующих (тем более, что за стенами церкви пелись еретические гимны). Гимн Григория этому чужд. Мало сказать, что он не содержит в себе точных догматических формул: мы не найдем в нем даже самого неопределенного намека на учение о Троице, о вочеловечении Логоса и т. п. Это не проповедь перед лицом церковной общности, а кабинетная медитация. Это обстоятельство характеризует не только и не столько самого Григория, который не меньше кого бы то ни было из своих современников потрудился над разработкой догмы, сколько жанровую разновидность гимнографии, наблюденную нами на примере приведенного гимна. Такой гимн по самой своей установке, по правилам игры, есть приватное дело автора, а не всенародное самоопределение церковного коллектива; и говорит такой гимн на языке классической литературы, а этот язык мало пригоден для ответственной работы догматизирования. Нолугомеровская, полуплатоновская речь куда как пригодна для описания бога философов, но бог Авраама, Исаака, Иакова ей чужд.