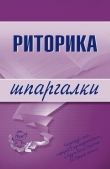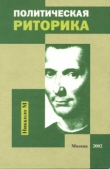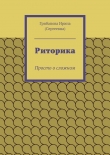Текст книги "Риторика как подход к обобщению действительности"
Автор книги: Сергей Аверинцев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Разобранная эпиграмма – отнюдь не единичный случай, напротив, она может представительствовать за множество ей подобных. Прежде всего можно выделить целый класс совершенно таких же эпиграмм «на стоящие рядом
статуи». Скажем, Дионис и Афина сопрягаются в одном из стихотворений этого класса по следующим трем пунктам: оба, (1) воители, (2) дарователи важнейших культурных растений – оливе отвечает виноград, (3) родились из частей Зевсова тела – рождению из бедра отвечает рождение из головы [46a] [46a]
Anthol. Palat., XVI, 183.
[Закрыть]. Все же этот класс невелик; но к нему в порядке концентрических кругов большей или меньшей близости примыкают другие тематические группы эпиграмм, каждая из которых основана на том же принципе абстрактно-логического сопрягающего рассмотрения несходных понятий через голову всякой конкретности. Так, в Эпидавре локальный культ потребовал изображения вооруженной Афродиты [47] [47]
Ср.: Paus., Descr. Gr., III, 15.
[Закрыть], которое и было выполнено в IV в. до н. э. скульптором Поликлетом Младшим. Этой статуе посвящено семь эпиграмм [48] [48]
Anthol. Palat., XVI, 171–177.
[Закрыть], ни одна из которых не дает никакого конкретного и наглядного образа. Настоящая тема всех их – нахождение логического перехода между двумя далекими понятиями: «Афродита» и «бранный доспех». Вот несколько вариантов: Афродита присвоила доспехи влюбленного Ареса по праву победительницы в бою – сопряжение понятий по смежности через гомеровский мотив любви Афродиты и Ареса и одновременно через подразумеваемое традиционно-фольклорное приравнивание любви и борьбы, брачного и бранного «поединков» [49] [49]
Ср.: Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936, с. 79, 102–103, 112–114, 354–355 и др.; Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. 2-е изд. Харьков, 1914, с. 14 и пр.
[Закрыть] (эпиграммы Леонида Тарентского [50] [50]
Anthol. Palat., XVI, 171.
[Закрыть] и Филиппа [51] [51]
Anthol. Palat., XVI, 177 (осложнено тем, что в терминологии Мейерхольда, развитой Эйзенштейном, именуется «отказным движением»: автор начинает с того, что обосновывает полную несовместимость Афродиты и доспехов).
[Закрыть], отчасти Антипатра [52] [52]
Anthol. Palat., XVI, 176.
[Закрыть]); Паллада (на имени которой перекрещиваются два ассоциативных ряда – мастерства и воинственности, – вызываемые образом доспехов) сама довела до совершенства (απηκριβωσατο) облик вооруженной Киприды, забыв о соперничестве с этой богиней, – сопряжение понятий по противоположности через популярный сюжет суда Париса (дистих Александра Этолийского [53] [53]
Anthol. Palat., XVI, 172.
[Закрыть]); в Спарте сама Киприда повинуется законам Ликурга, дабы спартанские жены, творя в брачных чертогах дело Киприды, зачинали воинственных сыновей– сопряжение понятий через их выведение из мифологической плоскости и транспозицию в плоскость гражданской этики (эпиграмма ранневизантийского поэта Юлиана Египетского[54] [54]
Anthol. Palat., XVI, 173.
[Закрыть]).
Это стихи разных времен, разных авторов, различные по художественному уровню; тем более показательно тождество коренной установки. Эту установку можно вновь и вновь узнавать в неисчерпаемом множестве вариантов. Так, рассмотренному выше типу эпиграммы на
стоящие рядом статуи несхожих божеств отвечает противоположный тин – эпиграмма на удаленные друг от друга в пространстве статуи божеств схожих. Почему Афродита Праксителя на Книде, а его же Эрос не подле своей матери, а в Феспиях? Антипатр Сидонский отвечает: «таковых божеств изваял Пракситель, каждого в другой земле, чтобы все сущее не было сожжено двойным огнем» [55] [55]
Anthol. Palat., XVI, 159–170.
[Закрыть]. Этот ответ, данный в заключительном дистихе, подготовлен в двух предыдущих дистихах «огненными» метафорами: Афродита Книдская «зажжет и камень», Эрос Феспийский «заронит огонь не то что в камень, а хоть в хладный адамант». Ни для какой характеристики конкретного облика обоих статуй эти метафоры не оставляют места. Зато ими обоснован изысканный логический ход: именно сходство выступает как мотив разделения в пространстве, т. е. некоторого вида несходства.
Праксителевой Афродите вообще повезло в эпиграмматической поэзии. Посвященные ей 13 эпиграмм [53] [53]
Anthol. Palat., XVI, 172.
[Закрыть], без сомнения, свидетельство восторга, который эта статуя (во многих отношениях, очевидно, предвосхитившая эллинистический вкус) вызывала у ценителей. Но мы были бы просто слепы, если бы не замечали, что само-то реальное содержание эпиграмм стоит лишь в весьма косвенном отношении к каким-либо эмоциям, вызываемым статуей. Что интересует поэтов, так это казус совмещения двух несовместимых логических моментов, где первый момент – априорно предполагаемая недоступность наготы богини для взора смертных [57] [57]
Ср. выше примечание 51 о понятии «отказное движение». 58 Anthol. Palat., XVI, 160.
[Закрыть], а второй момент – факт представления этой наготы в шедевре Праксителя (причем, как заверяют гиперболы, представления, адекватного своей «натуре», что на следующем уровне гиперболичности выступает как тождество этой «натуре»). Иначе говоря, «Афродита, представленная (=явленная) нагой» стоит по своей логической структуре в том же ряду, что и «Афродита в доспехах». Разумеется, стихи на ту и другую темы отлично можно было писать, никогда в жизни не видав ни той, ни другой статуи. Для поэта достаточно было отправной точки в виде самой идеи несовместимости как таковой; от этой отправной точки расходился целый веер возможных путей. Можно было подчеркивать несовместимость, обыгрывать и заострять ее: Афродита вопрошает, где же это Пракситель подглядел ее нагой [58]
[Закрыть], восклицая по этому поводу «φευ! φευ! [59] [59]
Anthol. Palat., XVI, 162.
[Закрыть]. Можно было поставить вопрос так: невозможность для смертного видеть наготу Афро-
диты – общее правило; случай Праксителя – единственное исключение из этого правила [60] [60]
Anthol. Palat., XVI, 163.
[Закрыть]. Можно было вспомнить о трех смертных, уже бывших такими исключениями, во-первых, о Парисе, во-вторых, о любовниках богини Анхисе и Адонисе, спрашивая, не стоит ли Пракситель в этом ряду четвертым [61] [61]
Anthol. Palat., XVI, 168.
[Закрыть]: через невозможность перекинут мостик прецедента [62] [62]
Понятие прецедента имеет огромное значение для античного и вообще раннего рационализма ввиду юридической окраски последнего.
[Закрыть]. Можно было вообще увидеть в ситуации, создаваемой наличием статуи, некую аналогию ситуации, имевшей место во время суда Париса, приравнивая к положению Париса не только положение Праксителя, но и положение созерцателя его изваяния [63] [63]
Anthol. Palat., XVI, 165, 166, 169, 170.
[Закрыть]. Можно было, наконец, подумать не о земном, но о божественном, посвященном в таинство наготы Афродиты, т. е. об Аресе, связав его с Праксителем через медиацию [64] [64]
Ср. понятие медиации в анализе структуры мифа, например, у К. Леви-Стросса. Характерно, что последнему понадобился этот термин по ходу описания интеллектуалистических аспектов мифа.
[Закрыть]неодушевленного предмета – железного резца: железо принадлежит Аресу, или по логике мифологической образности есть Apec[65] [65]
Ср.: Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии.
М., 1957, с. 50–52. 66 Anthol. Palat., XVI, 160b.
[Закрыть], а потому резец в руках Праксителя передает Праксителю знание Ареса о наготе Афродиты, сам воспроизводя эту наготу в соответствии со своим знанием[66]
[Закрыть]. В разнообразии использованных ходов снова выявляется поразительное единообразие установки. Это ходы в одной и той же игре.
Рассмотренные нами классы эпиграмм на произведения искусства стоят в широком контексте эпиграмматической поэзии вообще, представляя собой в совокупности часть целого, и притом такую часть, которая очень адекватно характеризует целое. Но нам сейчас не так легко выработать непредвзятую точку зрения на эпиграмматику. Наш сознательный или бессознательный отбор того, что нам представляется в ней наиболее «ценным», «ярким» и т. д., во-первых, преувеличивает значение описательных моментов, чувственной наглядности, так называемой пластичности [67] [67]
Вспомним роль, которую категория пластичности играет в популярных схематических характеристиках античной культуры от эпигонов Гегеля до Шпенглера и далее, переходя из рук в руки и превращаясь у популяризаторов в совершенно расплывчатую и бесцветную, но тем более всепроникающую идею. Нарочитая «выпуклость форм», априорно ожидаемая от всякой античной поэзии, но прежде всего от греческих стихотворений «из антологического рода», как говорили в старину, была отлично спародирована еще в стихотворении Козьмы Пруткова «Древний пластический грек» (ср. его же «Спор греческих философов об изящном» и «Письмо из Коринфа»). По мере начавшегося в XIX в. поступательного снижения «наивного» интереса к умственной и нравственной культуре античности, к эллинскому интеллектуализму и эллинскому морализму (имевшему центральное значение для самих древних, удерживавшему его для европейцев средневековья, Возрождения, Просвещения) одностороннее подчеркивание «пластических» компонентов античного наследия закономерно делается все сильнее. Вся шпенглеровская концепция «аполлоновской» культуры определяется тем фундаментальным фактом, что это взгляд извне: «пластика» античности сохраняет власть над воображением Шпенглера (и его предполагаемого читателя), но эллинская мысль уже ничего не говорит непосредственно его уму, а эллинская этика – его сердцу.
[Закрыть] (которая во многих эпиграммах присутствует или, что чаще, чуть намечается, в немногих – достигает разработки и совершенства, но отнюдь не играет центральной роли в основной массе образчиков жанра); во-вторых, односторонне сосредоточивает внимание на некоторой частной топике (эротико-гедонистической, бытописательской, сатирической, сентенциозной и т. п.), на так называемом настроении эпиграммы, могущем быть характерным для автора, для его эпохи и его круга 68 (если только это не иллюзорная характерность), но очень мало затрагивающем сущность самого жанра как такового,
Но стоит нам отвлечься от всех попыток отбора по критериям современного вкуса и читать Палатинскую антологию и прочие эпиграмматические сборники попросту подряд, как становится затруднительно не заметить, что чаще всего нам встречаются все-таки не «зарисовки» и не фиксации «настроений», о которых мы так привыкли слышать от историков литературы [69]
[Закрыть], но скорее более или менее тонкие упражнения для рассудка наподобие только что описанных стихов на произведения искусства, что-то вроде постановки и решения задач различной сложности по занимательной логике. Такой тип эпиграммы, сильно разочаровывающий современного читателя своей сухостью, может быть назван самым тривиальным, но понятие тривиальности предполагает понятие массовости. На общем фоне эпиграмматического творчества даже те специфические (но при этом достаточно многочисленные) эпиграммы, которые в совокупности складываются в стихотворный задачник по математике [70] [70]
Anthol. Palat., XVI, 1–4, 6–8, 11–13, 48–51, 116–147; append. nova Cougny, VII. 1–5.
[Закрыть] и в сборник загадок [71] [71]
Anthol. Palat., XIV, 5, 9-10, 14–47, 52–64, 103–111; append., VII, 6-81.
[Закрыть], перестают казаться просто курьезом, стоящим за чертой «художественной литературы», и оказываются скорее логическим пределом для очень мощной и влиятельной тенденции жанра в целом. Что до шедевров эпиграмматической поэзии, связываемых традицией с именами классиков жанра и попадающих в кругозор современных изложений истории греческой литературы, то и на них небесполезно взглянуть по-новому с учетом этой тенденции; в контексте жанровой нормы они выглядят несколько по-иному.
Вот один из многочисленных примеров. Об известном эпиграмматисте III в. до н. э. Посидиппе приходится слышать, что его отличительная черта – «склонность к философским рассуждениям с несомненным уклоном в сторону пессимизма», «уныние», которое порождено «упадком общественной жизни в Греции» [72] [72]
История греческой литературы, т. 3, с. 124–125.
[Закрыть]. Единственное основание для такой характеристики – десятистишная эпиграмма из IX книги Палатинской антологии [73] [73]
Anthol. Palat., IX, 359.
[Закрыть]; и вот на ней-то стоит остановиться подробнее. Во-первых, рукописная традиция связывает ее не только с именем Посидиппа, но и с именами Платона Комика и даже Кратета Киника [74] [74]
Последняя атрибуция – в сборнике Плануда.
[Закрыть]. Из этого вытекает не только вполне тривиальное затруднение к использованию ее для характеристики специально Посидиппа, но, пожалуй, и нечто иное: ее едва ли вообще можно рассматривать как излияние душевных чувств или выражение образа мыслей ее автора, кем бы этот автор ни был. К модусу ее восприятия и бытования внутри живой
антично-византийской эпиграмматической традиции принадлежит некая существенная анонимность [75] [75]
Почему эпиграмма не несет столь часто встречающегося в Палатинской антологии надписания αδηλον («авторство неясно»)? Для этого она слишком хороша; такому яркому и популярному творению (о популярности которого свидетельствуют не только включения в сокращенный Планудов извод антологии, но и ответ Метродора, о котором см. ниже) не полагается стоять в рукописи без всякого имени. Но два (или три) имени сразу – все равно эквивалент того же αδηλον.
[Закрыть]. Во-вторых, структура эпиграммы соответствует этой анонимности: ее «лирический герой» не Посидипп, не Платон и не Кратет, но тот самый τις, с которым мы встречались в описании битвы у Либания.
Перед нами не личная жалоба, но классифицирующий каталог абстрактно мыслимых сторон жизни, жизненных путей и жизненных ситуаций, где каждой возможности отвечает некое характерное для нее зло. Хотя бы для того, чтобы одно зло было равно другому злу, нужно, чтобы каждое зло было взято совершенно отвлеченно; и тогда возникает огорчительная для души, но довольно забавная для рассудка невозможность выбора наименьшего зла, что-то вроде положения Буриданова осла навыворот – с двух сторон маячат не равновеликие вязанки сена, а, скажем, одинаково болезненные бичи. Классификация жизненных возможностей, предлагаемая Посидиппом, шестичленна, а в каждом члене – дихотомична, чтобы зло и уравновешивающее его другое зло снова и снова стояли друг против друга попарно.
Во-первых, жизнь вообще может быть либо (1) публичной, т. е. протекать «на площади», либо (2) приватной, т. е. протекать «в доме», но первой свойственны «склоки и неприятные хлопоты», т. е. отсутствие уюта, а второй – «заботы», т. е. отсутствие выхода из круга бесславных каждодневных дел. Во-вторых, добывание средств к жизни может быть связано либо (1) с земледелием, либо (2) с торговым мореплаванием, но в первом – «вдосталь маяты» (καμάτων άλις), а во втором – риск и тревога(τάρβος). В-третьих, предполагается, что человек может поселиться на чужбине, но там он будет по своему имущественному статусу либо (1) состоятельным, либо (2) неимущим, но первое навлекает опасности, второе – тяготы. В-четвертых и в-пятых, по своему семейному положению, взятому в двух различных аспектах, он либо (1) женат, либо (2) холост, но в первом случае он лишен беззаботности, во втором – страдает от одиночества; далее, либо (1) имеет детей, либо (2) бездетен, но дети – это беспокойство, отсутствие детей – уродство (πήρωσις). В-шестых, по своему возрасту он либо (1) молод, либо (2) стар, но молодость сопряжена с неразумием, а седина с немощью. Эпиграмма заключается строго традиционной сентенцией, цитировавшейся в свое время еще в «Эдипе в Колоне» Софокла и
в неизвестной комедии Алексида [76] [76]
Soph. Oed. Colon, 1224–1227; Alex. Com., (Fr. AH Com. II, 447).
[Закрыть]: «желать можно одного из двух – или не рождаться, или умереть немедленно по рождении». Это во всяком случае не вопль души и не вывод из конкретного жизненного опыта индивида или целой эпохи, а нечто совсем иное.
Для эпиграмматиста интересно и почетно заключить в метрические рамки элегического дистиха мысль, уже звучавшую в логаэдах Софокла и в ямбических триметрах Алексида. Это удовольствие, чуждое новой поэзии «самовыражения», манило не только авторов бесчисленных парафраз, которыми так богата позднеантичная и византийская литературы [77] [77]
Ср.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, с. 144–147. В соответствии с темой этой книги в ней не рассматриваются позднейшие факты этого ряда, например переложение Акафиста Богородицы ямбическими триметрами, выполненное в начале XIV в. Мануилом Филом.
[Закрыть], но и побуждало Григория Назианзина самого переписать элегическими дистихами то, что он же написал триметрами, или наоборот [78] [78]
Например, Poemata moralia, 35–36 (PG 37, col. 965–966); 37–38 (ibid., col. 966–967).
[Закрыть]. Эпиграмма тоже предлагает новую парафразу старого текста, возвышает свой голос в состязании. При этом она и сама вызывает на дальнейшее состязание с ней, как бы намечая заранее ход, который может использовать будущий соперник. В самом деле, «пессимистический» текст уже несет в себе как собственную импликацию свою «оптимистическую» обратимость. Так сказать, что в жизни «на площади» есть неуютность, а в жизни «дома» – тесная безвыходность забот, значит сказать (коль скоро два члена определяются, а значит, и описываются по противоположности друг другу), что уют есть в жизни «дома», а выход из тесноты – в жизни «на площади»; и та же прозрачная логическая операция может быть проделана с остальными пятью парами противоположностей. «Оптимистический» антитезис уже задан в самом «пессимистическом» тезисе. Напрашивающаяся возможность должна была быть реализована, и она была реализована – через семь столетий.
Эпиграмматист IV в. н. э. Метродор, известный как автор математических задач в стихах [79] [79]
Anthol. Palat., XIV, 116–146.
[Закрыть], написал ответ, разумеется тоже десятистишный и вообще строжайше воспроизводящий логико-синтаксическую структуру образца (формулы типа είν άγορή μεν έν δε δομόις и т. п. оставлены без изменения и занимают те же самые позиции внутри дистихов); ответ этот дан в Палатинской антологии рядом с первой эпиграммой, чтобы читатель насладился их параллелизмом [80] [80]
Anthol. Palat., IX, 360.
[Закрыть]. К эпохе Метродора упадок общественной жизни в Греции сменился общим кризисом средиземноморской цивилизации; но «пессимистическая» эпиграмма уже была написана [81] [81]
При таком понимании соотношения между двумя эпиграммами остается вопрос: почему именно первая была «пессимистической» и вторая «оптимистической», а не наоборот? Но ответ, как кажется, очень прост. Первая эпиграмма – вызов, вторая – ответ на вызов; первая обязана быть и по тону своему вызывающей, вторая – нет, ибо ее существование оправдано вызовом, содержащимся в первой. Но тезис «во всяком образе жизни есть нечто хорошее» не является вызывающим и при неспровоцированном высказывании просто неинтересен; напротив, в тезисе «ни в каком образе жизни нет ничего хорошего» достаточно задора. Именно этот диспутальный задор, а не «мировую» (или «гражданскую») скорбь обязаны мы ощутить в первой эпиграмме.
[Закрыть], и Метродору просто ничего другого не оставалось, как быть «оптимистом». Как же он
пишет свое сочинение на заданную тему εις τον βίον χρήσιμον [82] [82]
Так определяется тема обеих эпиграмм в леммах рукописей.
[Закрыть]? Мы слышим, что, во-первых, (1) в публичной жизни «на площади» есть «слава и разумные дела», т. е. выход из отупляющей узости домашних работ, а зато (2) в приватной жизни «дома» есть «покой» (αμπαυμα), т. е. укрытие от тревожной неуютности площади; во-вторых, (1) земледельцу улыбается «милость Природы» (φυσιος χάρις), а (2) мореплавателю – быстрое обогащение, так что первый избавлен от авантюрных тревог второго, а второй – от монотонных трудов первого; в-третьих, на чужбине (1) состоятельный имеет «известность» (κλεός), а зато (2) безвестность неимущего укрывает его от бесчестия; в-четвертых, (1) женатый имеет «наилучшее устроение дома» (οίκος άριστος), а зато (2) холостяку вольнее живется; в-пятых, (1) дети – предмет любви, а (2) бездетность – жизнь без забот; в-шестых, (1) молодые люди сильны, а (2) седые головы благочестивы. В заключение воспроизводится сентенция, служившая итогом первой эпиграммы, но только с отрицанием: «нет, не нужно желать одного из двух – или не рождаться, или умереть». Так инверсия первой эпиграммы доведена до конца.
Для чего, собственно, мы столь подробно останавливались на этом казусе? Соотношение двух эпиграмм, подобное зеркальной симметрии, представляет собой факт, хотя отнюдь не единичный, не лишенный параллелей [83] [83]
Ср., например, ряд ямбических эпиграмм Григория Богослова с идентичной логико-синтаксической структурой, а именно основанных на схеме пятичленной (в одном случае – четырехчленной) градации, причем параллелизм подчеркнут (как и у Метродора) формальным единообразием метрического свойства: первый колон каждого первого стиха и затем анжабеманы во всех остальных стихах, кроме последнего, непременно занимают по пять слогов, т. е. по две стопы и по тесису третьей (Poemata moralia, 20–23, PG, 37, col. 788–790).
[Закрыть], но, конечно, далеко не массовый; однако он обусловлен, более того, вызван к жизни не чем иным, как принципом жесткой логической диспозиции [84] [84]
«Dispositio» (греч. τάξις, ср. Arist. Rhet., III, 12) – одно из центральных понятий риторической теории. В новой научной литературе иногда употребляется как коррелят к понятию композиции; термин «диспозиция» акцентирует момент школьной правильности, рассудочной последовательности (то, чего мы ждем от идеальною ученического сочинения), термин «композиция» – момент «творческой» субъективности (то, чего мы ждем от художественной литературы в современном смысле слова).
[Закрыть], работая на выявление этого принципа [85] [85]
Еще вопрос, что важнее для автора первой эпиграммы – высказать свое «пессимистическое» суждение о мире или похвалиться тем, как складно он сумеет в шести парах дихотомий (как теперь говорят, бинарных оппозиций) создать иллюзию исчерпывающего перебора жизненных возможностей; и Метродор, вступая в игровую полемику с оценочным наполнением пунктов каталога, не только принимает самый каталог, но, как бы повернув его вокруг оси симметрии, дает ему статус независимости от конкретного тезиса, в связи с которым он был изначально предложен. Логическая диспозиция имеет здесь такое значение, к которому она стремится в неисчислимом множестве других случаев.
[Закрыть], а последний, как мы убедились на различных примерах (которые могут быть умножены ad libitum), характерен для эпиграмматического жанра в целом. Именно поэтому через рассмотрение пары спорящих друг с другом эпиграмм мы имеем шансы узнать о самом жанре нечто особенно важное, отыскать необходимый корректив к привычному, но одностороннему представлению об эпиграмме как «пластической» фиксации момента и настроения.
Что касается эпиграмматического жанра, то у него есть особые права на представительство за состояние породившей его литературной культуры, и это потому, что он обусловлен ее простейшими, глубоко лежащими, очень стабильными основаниями; само его наличие – это симптом, «необходимый и достаточный признак» литературы, принявшей норму риторического рационализма.
Жанр созревает параллельно созреванию риторического рационализма. Как и последний, он проходит свою архаическую фазу во времена Симонида (которые были также временами Гераклита, сыгравшего, как показал Э. Норден, первостепенную роль в подготовке феномена риторики [86] [86]
Norden E. Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance. Leipzig, 1898, Bd. I, S. 18–20..
[Закрыть]); как и последний, он обретает равенство себе и устойчивый облик на закате классики, к началу эллинизма, чтобы затем сопровождать греческую культуру на всех ее языческих и христианских путях вплоть до гибели Византии в 1453 г. Другие поэтические жанры уходили из живой литературы (как ушел дифирамб, ушла трагедия, ушла Древняя и Средняя, а затем и Новая комедия), а иногда возвращались в преобразованном виде, чтобы снова уйти до следующего возвращения (как гексаметрический эпос); но эпиграмматическая традиция оставалась на редкость непрерывной в течение более нежели полутора тысячелетий. Есть периоды, когда поэзия только и представлена эпиграммами [87] [87]
Для рубежа I в. до н. э. и I в. н. э. имеются эпиграммы Кринагора, Антипатра Фессалоникского, Гетулика, Алфея и др.; для IV в. н. э., когда буйное цветение риторической прозы не оставляло никакого места для поэзии, – эпиграммы Григория Богослова, Юлиана Отступника, позднее Паллада; даже для IX в., времени глубокого упадка всех унаследованных от античности жанров, – ямбические эпиграммы Феодора Студита и Кассии, неловкие, но сохраняющие равенство себе жанровой структуры.
[Закрыть]. Греки не могли перестать писать эпиграммы, как они не могли перестать сочинять торжественные речи в совещательном, судебном и эпидейктическом роде; утилитарные приложения школьной риторики в парадной прозе и ее же игровые приложения в эпиграмматической поэзии – это, так сказать, минимум данного типа словесной культуры, его скромное ядро, то, без чего невозможно обойтись.
При этом эпиграммы пишут все; умение написать эпиграмму для образованного грека то же самое, что для образованного японца времен Басё умение сложить хокку. Это вопрос школьного умения, вопрос грамотности; Филипп III Македонский, монарх, которому было совсем не до литературы, мог, однако, облечь свою угрозу эпиграмматисту Алкею Мессенскому в правильно составленную эпиграмму [88] [88]
Anthol. Palat., append. V, 10. 89 Anthol. Palat., VII, 747.
[Закрыть]. Либаний был, напротив, мастером слова, но слова прозаического; единственные стихотворные строки, которые традиция связывает с его именем, – строки эпиграммы [89]
[Закрыть]. Иногда сочинение эпиграмм напоминает по своей социальной функции что-то вроде домашнего музицирования или игры в шахматы.
И еще одно свойство эпиграмматического жанра – уникальная стабильность его оснований. Разумеется, эпиграммы несут в себе какие-то приметы времени, чаще всего относящиеся попросту к топике, но не сводящиеся к ней; однако в глубине жанровой структуры изменяется поразительно мало. Эпос Аполлония Родосского – в дру-
гом смысле эпос, чем гомеровский; и на переходе от Аполлония к Нонну содержание самой этой жанровой категории меняется еще раз. Но эпиграммы Паллада (IV–V вв.), Павла Силентиария и Агафия Схоластика (VI в.), Иоанна Геометра (X в.), Иоанна Мавропода (XI в.), Никифора Григоры (XIV в.) суть эпиграммы точно в таком же смысле, что творения Асклепида или Посидиппа (IV–III вв. до н. э.). И этой более чем полуторатысячелетней временной дистанции мало; если мы перейдем границы грекоязычной поэзии и обратимся к латинской стиховой традиции, эпиграммы Авзония (IV в.) и поэтов Салмазиева сборника (V–VI вв.), Венанция Фортуната (VI в.) и стихотворцев каролингской поры (VIII–IX вв.), Хильдеберта Лавардинского (XI–XII вв.), но также Анджело Полициано (XV в.), Томаса Мора, Филиппа Меланхтона, Марка Антония Мурета (XVI в.), Юлия Цезаря и Юста Иосифа Скалигеров (XVI–XVII вв.), Гуго Гроция и Каспара Барлея (XVII в.), Лаврентия Ван Сантена (XVIII в.) и так далее, вплоть до таких любопытных анахронизмов, как, скажем, латинская «Надпись к портрету моему» папы Льва XIII на самом исходе XIX в., тоже не знаменуют ни малейшего принципиального сдвига в жанровых установках.
Меняется топика (и то очень мало), но способы ее рассудочного препарирования не меняются. Парадоксы христианской доктрины о вочеловечении Бога трактуются эпиграмматистами совершенно так же, как в свое время трактовался парадокс вооруженной Афродиты. Если тема – вифлеемские ясли, можно сказать, что они обширнее небес: небеса, по Библии, Бога не вмещают [90] [90]
II Paralip., 6, 18. 91 I, 40. 92 VII, 149. 93 I, 33. 94 I, 36.
[Закрыть], а ясли вместили [91]
[Закрыть]. Положим, христианин на свои деньги построил книгохранилище: спрашивается, как связать этот его поступок с догматами его веры? Медиация между понятием «книгохранилище» и понятием «Христос» осуществляется через лексему λόγος («слово»): поскольку христианин верует, что Христос есть Бог-Слово, для него естественно построить жилище для слов, т. е. для книг. [92]
[Закрыть]Некогда языческие эпиграмматисты представляли как парадокс изображение наготы Афродиты у Праксителя; но, если смертным глазам недоступна нагота олимпийской богини, им тем более недоступна бестелесность христианских ангелов, изображение которых на иконе христианские эпиграмматисты превращают в такой же логически формализованный парадокс. Другое дело, что на сей раз
парадокс совпадает по своему содержанию с совершенно серьезным тезисом византийского богословия иконы. «Сколь дерзостно даровать форму (μορφωσαι) бестелесному, – пишет Нил Схоластик (VI в.), – однако и образ (εικων) возводит к умному памятованию о вещах небесных»[93]
[Закрыть]. «Будь милостив, обретши форму, о Архангел! – вторит ему его современник Агафий, – ведь твой лик недоступен зрению; но таковы дары смертных» [94]
[Закрыть]. «О вера, на какие чудеса ты способна! – продолжает через четыре века Иоанн Геометр, – Как легко даешь ты форму естеству, непричастному форме!» [95] [95]
Цит. по примечаниям в парижском издании «Палатинской антологии» 1871 г. (серия Ф. Дидо), т. 1, с. 17.
[Закрыть]
В такие построения автор и читатель могут вкладывать сколь угодно много или мало эмоциональной серьезности – от максимума до минимума.
Рассудочность эпиграммы совершенно не оставляет места для прямых заключений о религиозных убеждениях или тем паче чувствах эпиграмматиста. Умственные игры подобного рода вокруг догматов христианской веры мы встречаем и в самых глубоких памятниках византийской «духовности»; с другой стороны, однако, Клавдиан, этот «недруг имени Христова», по свидетельству Августина [96] [96]
«О граде Божием», I, 26. 97 VII, 35. 98 I, 19, 4. 99 I, 20,1–3.
[Закрыть], «поэт отменный, но язычник самый закоренелый», по свидетельству Орозия [97]
[Закрыть], мог сочинять вполне в тон своим христианским коллегам эпиграмматические формулировки парадоксов богосыновства ибогочеловечества Христа. Бог-Сын – это, по Клавдиану, «незнаменуемого Отца первонасеянный глас» [98]
[Закрыть]; младенец Христос – это «новоявленный градодержец, древлерожденный, новорожденный Сын, вечносущий и предсуществовавший, высший и последний, совечный бессмертному Отцу» [99]
[Закрыть]. Конечно, христианские мотивы в поэзии Клавдиана стимулируются положением поэта при дворе христианских императоров, но в них нет ровно ничего вымученного, они разработаны с блеском и отлично вписываются в общую панораму творчества этого «недруга имени Христова». Ибо, как только что было сказано, новая топика не изменила старый внутренний строй эпиграммы. Что касается эпох, куда более отдаленных от античности, то весьма характерно, что между оригинальными творениями тех же Томаса Мора и Гуго Гроция в «антологическом роде» и их же переводами (очень точными) из Палатинской антологии невозможно ощутить существенного различия. Такая однородность эпиграмматической продукции на колоссальном временном расстоянии объясняется лишь тем, что в жанре, особеннобеспримесно реализующем принцип риторического рационализма, инвариантные элементы гораздо сильнее и глубже, чем отклики на время или отражения авторской судьбы и души.