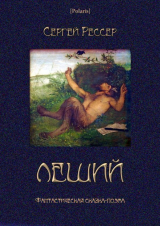
Текст книги "Леший (Фантастическая сказка-поэма)"
Автор книги: Сергей Рессер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)

Сергей Рессер
ЛЕШИЙ
Фантастическая сказка-поэма
Посвящается Анне Сергеевне
Мне шепчут печальные ивы
Старинную сказку любви,
А солнце так грустно красиво
Заходит в туманной дали…
И веет забытой печалью,
И веет невнятной тоской,
И сумерек нежной эмалью
Сменился закат золотой.
А. Гофман


ПРОЛОГ
Свет лампы, а в особенности с красным абажуром, всегда располагает к мечтательности… Эти дрожащие тени, блуждающие по стенам и мебели, более темные пятна, ложащиеся по углам, все это располагает к какой-то непонятной, тревожной истоме… И сама мечтательность какая-то тревожная… Пробуждается и мысль и душа… Нервы и слух становятся чуткими к малейшему шороху, к малейшему колебанию атмосферы.
В камине потрескивают дрова, и этот треск, усиливающийся с завыванием ветра в дымовой трубе, еще больше экзальтирует возбужденность. Присматриваясь к горящим дровам, начинаешь следить за происходящей с ними постепенно переменой… Словом, становишься наблюдательным, и эта наблюдательность переходит в конце концов в самую безнадежную сентиментальность.
Тепло и уютно…
Мне вспомнились теперь такие вечера. Вспомнились те тихие монотонные беседы, навевающие на душу ту же монотонность, вспомнились и участники этих бесед… Все это была молодежь… При другой обстановке резвая и жизнерадостная, она в такие вечера перерождалась, обновлялась… Эти минуты смело можно было назвать минутами, когда в каждом просыпается аналитическое чутье, критика всего, что до сих пор миновало, благодаря мелочности, наблюдательность.
Однако не всегда так было. Случалось, что, собираясь по вечерам у камина, мы сохраняли в себе частицу жизнерадостности, и эта жизнерадостность проявлялась в негромком, но искреннем смехе над каждым пустяком, в сдержанных, но веселых перебрасываниях каламбурами и остротами.
Самым любимым нашим занятием было рассказывать, рассказывать без подготовки, экспромтом. Да, я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что это занятие было действительно для нас самым любимым, самым приятным.
Я люблю сказки… Люблю до наивности… Люблю не потому, что хочу подделаться под шаблон, вставивший сказку в рамки воспитательного смысла и значения, люблю не потому, что слежу за пороком и добродетелью, этими принципами, которые так рельефно до приторности оттеняет сказка, а просто потому, что в сказке, по-моему, можно гораздо больше применить художественности и красоты…
Я люблю сказку еще потому, что люблю бесконечность мысли… Люблю ее фантазию, неограниченную, свободную… Люблю эту мысль уже в ту минуту, когда она только начинает развиваться. Какой простор для нее!.. Вперед ли, назад, она всегда найдет себе выход. Ей не нужно ни строгой логики, ничего… Вольная, как птица, она с легкостью и изворотливостью уносится в пределы самого невозможного и, стройно формируясь, раскрывает перед нами чудный, таинственный мир… Сказке не страшны условности. Она анархистка, разрушает все преграды нашего ограниченного понимания… и я люблю ее за это.
Впрочем, не я один. Мы все любили сказки. И, рассказывая их, мы старались избегать обыкновенно неизбежной морали. Нас занимала таинственность содержания и та художественность, с которой это содержание излагалось. Если в те минуты в нас обострялась чувствительность, то эта чувствительность была эстетическая. Мы были эстетики.
Никто никогда не отказывался от своей очереди. И в смысле этой очереди у нас существовали строгие обязанности.
Я собрал эти сказки… Собрал на память, наизусть. Многое упустил, многое добавил. И, делая добавления, я не чувствовал угрызений совести. Ведь это сказка. Мысль – бесконечная, беспредельная…
Не знаю, придется ли читателям познакомиться со всем имеющимся у меня материалом, но пока я ознакомлю с одной из них, с одной из собранных у меня сказок.
Ее рассказал нам один из нашей компании, мастер по этой части. Рассказал в один из пасмурных декабрьских вечеров, в то время, когда на дворе была метель… Это подходило к настроению, вот почему, мне кажется, эта сказка глубже всего запала к нам в душу, глубже всего проникла в нашу память. Отражает ли сказка настроение? Не знаю… Не берусь резюмировать этот вопрос. Если сказка – фантазия, то отражать она может только подвижность ума, подвижность мысли. Можно ли судить по сказке о характере рассказчика? – Не знаю…
Борич рассказывал нам столько сказок, и эти сказки так разнообразны, что, мне кажется, говорить о характере его не приходится.
Скажу, пожалуй, вкратце, что человек он был мрачный, часто задумывался… В его словах зачастую сквозила желчь, насколько остроумная, настолько же и необузданная… Роста он был высокого, собой некрасив. Словом, по натуре человек скрытный, но безусловно честный и правдивый, он нас интриговал, интриговал и своим прошлым и настоящим. Теперь он умер и, говорят, при странных обстоятельствах…
Итак, одну из своих сказок он назвал «Леший». Предлагаю пока именно ее.
ЛЕШИЙ
I
Были ли вы когда-нибудь в лесу ночью?.. В густом таинственном лесу? Ночью, когда все кругом тонет в беспросветном мраке, мраке холодном, леденящем?.. Ночью, когда этот лес полон дикого хаоса самых разнообразных звуков, мрак его, угрюмый и как бы предостерегающий, полон непонятного шелеста, полон страха и ужаса?.. Не приходилось?.. Жаль… Значит, вам не приходилось, несмотря на свою храбрость, переживать неожиданный перелом духа, перелом, заставляющий неверие перейти сразу в самую обыкновенную трусость, страх?.. Не приходилось бежать от этого страха, бежать так, как будто за вами гонятся все силы ада, вся преисподняя?.. Не приходилось ощущать дрожь в спине, в каждом потрескивании валежника видеть и слышать что-то необыкновенное, намеренное и осмысленное? Не приходила ли вам в голову мысль, что весь этот хаос звуков – жизнь? Что крики сов, жалобные и стонущие, посвистывание пересмешника, пронзительное и как бы диссонирующее всему остальному – жизнь. Что шелест деревьев, вековых дубов и лип, стройных берез и елей – жизнь, жизнь осмысленная, кипучая.
Я часто бывал в таком лесу… Бывал в самой его чаще… Исхаживал сотни его тропинок, перепутанных, как нитки в клубке, десятки овражков и мелких болот. Забирался в самые отдаленные его уголки… Я искал сердце этого чудовища, сердце этого гигантского леса… Я знал, что у него есть сердце, знал, что в этом сердце прячется все, что живет ночью, прячутся феи и нимфы, безобразные сатиры, лесные духи, словом, весь тот сонм необыкновенных существ, понятие о которых окружено среди нас, обыкновенных смертных, полупрозрачной дымкой таинственного тумана.
Итак, представьте себе такой лес… Лес, в котором есть сердце, лес дышащий, как мы с вами, живой… Представьте себе опушку его, редкую и холмистую, залитую белым светом выплывшей из облаков луны. Густые тени ложатся от деревьев на густую траву… на папоротник… Около опушки тянется дорога, простая проселочная дорога с глубокими ровными колеями, образовавшимися от недавних дождей… В стороне поле… И там, в этом поле, где-то далеко-далеко мелькают желтоватые огоньки изб небольшой деревеньки…
Итак, опушка… Между редким кустарником, не скученным, а разбросанным по всему холму, пробирается чья-то темная фигура. Тень от этой фигуры каким-то странным безобразным пятном скользит по земле и изредка неподвижно останавливается. Останавливается, замирая, и как бы прислушивается… Наконец один из кустов раздвигается и странная фигура вместе со своею тенью стремительным прыжком появляется на дороге… Подозрительно оглядывается и, только удостоверившись, что все кругом спокойно, лениво потягивается и присаживается на пень. Странен и безобразен вид появившегося существа. Место открытое и луна освещает и пень и то, что, скорчившись, примостилось на этом пне… Стоит ли распространяться? Не достаточно ли будет определить это явление одним словом? Не достаточно ли будет сказать, что это леший, да-да, леший, леший такой, каким его представляет нам наше суеверие… Впрочем, наше суеверие слишком односторонне, и представления, которые мы себе создаем порывом якобы фантазии, так же односторонни и неосновательны… Представляя себе ведьму, мы мысленно рисуем себе образ чего-то безобразного, фею представляем себе чем-то идеально-прекрасным; лешего – чем-то средним между собакой и лошадью… Я с этим не вполне согласен. Не согласен, по крайней мере, в последнем случае, когда лешему присваивают, как сатиру, козлиные ноги и зад, вместо рук – копыта, вместо головы – собачью морду… Это неточно и, даже скажу больше, неправильно.
Существо, примостившееся на пне, был леший… Все туловище его, покрытое прядями шерсти, книзу заканчивалось ногами общечеловеческого формата, правда, несколько непропорционального, но все же человеческого… Несоразмерно длинные руки, мохнатые и тонкие, по своему виду напоминали руки обезьяны и, как у последней, были снабжены кистью и короткими неуклюжими пальцами… Голова лешего была большая. Вместо волос, на лоб ее свешивалась целая копна длинной перепутанной шерсти, почти скрывающей два коротких, широких, но острых рога. Лицо… (да, это было именно лицо, а не морда) лицо… было лицом сатира в смеси с тем выражением и построением, которое бывает у животных. От переносицы череп круто выгибался, образуя широкий, но длинный заостренный нос. Кости челюстей, в свою очередь, несоразмерно выгнутые вперед, переходили сверху в выпученные вперед по-животному губы, снизу в выдающийся острый подбородок с клочком длинной шерсти на конце.
Это, в сущности, настоящий образ лешего… Почему это именно так, вряд ли я сумел бы объяснить… Возможно, что, желая заставить лешего думать и говорить, я стараюсь придать ему образ именно человеческий, чтобы связать последнее понятие с понятием одушевленности и действительности. Не все ли равно…
Леший сидел на пне, поджав под себя ноги и подперев рукою подбородок. Сидел с видом раздумья и глубокомыслия… Изредка повертывал голову, всматриваясь в луну, изредка устремлял свой взор вдаль, туда, где виднелись огоньки деревни… Надо ли говорить о том, что такие существа, как леший, ведут жизнь одинокую, отшельническую… Предоставленный самому себе, человек углубляется в самого себя, анализирует свою душу и разум, становится мрачным и скрытным…
Почему же лешему, одаренному сверхчеловеческим чутьем, не быть философом, притом искренним?.. Конечно, он философ.
Не философствует ли он в настоящую минуту, сидя с таким глубокомысленным видом на коротком пне? Может быть, хотя вряд ли это можно назвать философией… То, о чем думал леший, было скорее поэтично, чем прозаично. Он мысленно прощался со своими родными местами, с густым темным лесом, вскормившим его, со своей берлогой, затерянной среди непроходимых кустарников, с вековыми дубами, с елями, с опушкой и ее холмиками… Он прощался с каждой травкой, с каждой веткой… То, что он задумал, было нешуточным делом, делом, на обдумывание которого он потратил несколько лет. И вот теперь, когда наступила минута расставанья, ему взгрустнулось… Когда грустит человек, память, воскрешающая малейшие детали пережитого, работает с особенной отчетливостью. А леший пережил много, так много, что его память отказывалась вместить все воспоминания. И эти воспоминания, перепутанные, лишенные цельных форм, без запятых и точек, каким-то хаосом теснились в голове лешего. И тем грустнее становилось ему на душе… Он знал, что, прощаясь с родными местами, он обрывает последнюю, связывающую его с ними нить… Его настоящее найдет себе место в хаосе его будущих воспоминаний, и, если не совсем затеряется, то поблекнет, обесцветится…
А между тем, он отрекался, добровольно и сознательно отрекался от своего настоящего… Надоел ему не этот лес со своей непроходимой чащей, с оврагами и холмами, с просеками и берлогами, с сонмом пернатых и зверей… Надоело ему его одиночество – вечность. Душа устала, захотелось чувств, высоких и гордых, захотелось жить какой-то другой жизнью… Он знал, что в нем что-то живет, что-то скрыто. Зная, что это «что-то» стремится вырваться из окутывающих его цепей непонимания, он в то же время знал, что не в силах самостоятельно пробудить в себе чувства, и решил отправиться на поиски.
Но прежде, чем осуществить свое решение, он отправился искать мудрого совета к совам, с которыми жил всегда в глубокой дружбе, во взаимном уважении… И тот ответ, который он получил от своих мудрых друзей, заставил его еще больше задуматься.
– Ты сам не знаешь, чего хочешь, – хором сказали собравшиеся на совет в одном из дупл деревьев совы. – Не думаешь ли ты, что жизнь «там» менее монотонна, чем здесь?
– Она своеобразна… я часто бродил ночью по деревне.
– Глупо! – пискнула одна.
– Своеобразна, но не разнообразна, – заметила другая.
– Не думаешь ли ты окончательно переродиться?
– Духовно… да!
– Ты хочешь, следовательно, стать выше того, чем ты стоишь сейчас?
– Не то, не то… вы меня не понимаете.
И леший стал изливать перед собранием мудрых свою душу. В нем что-то горит и рвется наружу… Рвется и мечется… Выше того, чем он теперь, он стать не хочет и не может… Света ему дайте, только света! Этот мрачный лес – мудрость, но мудрость тоскливая, холодная! Она давит к земле, а не возносит над землею. Холод кругом, холод в его душе… Ему хочется тепла, тепла, которое разгонит перед ним страх вечности, которое из этой вечности и одиночества создаст свет, яркий, притягивающий…
– Темно… – угрюмо произнес он.
– Зато «там» светло, – иронически усмехнулись совы.
– Там больше света, чем здесь… И я себя не обманываю.
– Но если там больше света, то почему же люди стремятся проникнуть в нашу жизнь? Почему в нашей мудрости, как ты говоришь, бледной и холодной, они видят залог чего-то необыкновенно светлого?.. Зачем они стараются переступить границы им предоставленного самой природой, как не для того, чтобы набраться этого света?.. Нет, друг мой, ты неправ. Ты хочешь мудрости, а сам жалуешься на холод вокруг тебя, вокруг твоей души, в самой душе… Ты хочешь теплой мудрости? Оставь… Мудрость только тогда мудрость, когда она, холодна, как лед. То, что люди в ослеплении называют мудростью, не мудрость, а… жалкая пародия на нее! Они невежественны, но горды и самолюбивы. Горды до смешного. И ты хочешь окунуться в их невежество? Ты сам не знаешь, чего ты хочешь!..
– Сам не знаешь, чего ты хочешь, – повторили за сказавшей это черной совой остальные совы, – брось эти глупые бредни и живи по-своему.
– Но какая же это жизнь! – в отчаянии воскликнул леший. – Разве вечное одиночество – жизнь? Вы вот живете целыми стаями, живете одними общими интересами, любите и оберегаете друг друга… А я… я вечно один. Брожу по ночам бесцельно по лесу и мщу первому встречному за свое одиночество… Разве это жизнь? Вы мудры и говорите о мудрости и ее холоде… А ваша жизнь? Разве она холодная? Нет, в вас я не могу искать поддержки…
И леший, махнув рукой, в несколько прыжков достиг опушки леса и выскочил на дорогу.
– Пойду один, – решил он и, бросив последний взгляд на родной лес, окинув быстрым взглядом дорогу, вскочил с пня, на котором приютился, и стремглав побежал.
Он бежал, вздымая целые облака пыли. Бежал по ржи и пшенице, по клеверу и густой сочной траве… И от быстрого его бега пригибалась к земле колосистая рожь, ломалась пшеница, мялся клевер…
Он бежал в сторону деревни. Огоньки мигали ему навстречу, как бы кланяясь, мигали и один за другим тухли.
Луна скрылась за тучами и густой мрак окутал все кругом… Запахло дождем. От полевых цветов несло тонким ароматом… Пахло свежей травой.
А леший бежал… Бежал, не оглядываясь, боясь колебаний, боясь, что этот лес, видневшийся теперь далеко, далеко за холмами, снова заставит его вернуться.
II
Уже больше часа бежал леший. Из ноздрей его легкими клубами вырывался прозрачный пар, а на тонких губах выступила пена.
До деревни было уже недалеко, но он решил передохнуть.
Перед ним большое озеро, заросшее камышом и плесенью… Почти к самой воде свешивались плакучие ивы, застывшие, благодаря безветрию, в немой печали.
Ивы всегда печальны, их удел грустить…
В былые времена, я часто беседовал с деревьями… Лягу у самых корней на траву и беседую… И деревья мне отвечали… Я понимал их шелест, иногда сдержанный, едва слышный, иногда порывистый…
Дуб рассказывал о своем величии, и его плавная густая речь была пересыпана глубокомысленными метафорами… Бук-мизантроп красноречиво негодовал против насилия со стороны людей… Береза… та сентиментально жаловалась на свою судьбу… Сосна – и та, несмотря на свою гордость, снисходила до бесед со мною. Молчала лишь ива… Несмотря на все мои усилия, я не мог нарушить ее молчания. Грустно склонив свои ветви к воде, она печально-равнодушно смотрела вниз…
Леший остановился. С крутого обрыва ему открывалась, казалось, бесконечная полоса воды… Снизу доносилось кваканье лягушек, прерываемое неожиданным плеском… Где-то далеко, там, на другой стороне озера, где синел лес, блеснул огонек лесничего, блеснул и потух.
«Разве туда?» – подумал леший, но усталость взяла свое и он уселся на траву у самого обрыва.
В это время в деревьях послышался шорох и что-то чирикнуло. Чирикнуло раз, другой и примолкло, как бы прислушиваясь… Через минуту, однако, сделавшись смелее, птичка сразу перешла на высокую трель и залилась нежными, то тягучими, то сразу обрывающимися переливами…
Кто не слыхал соловья? Кто не увлекался его дивным пением?..
И леший, которому, казалось бы, могло приесться подобное пение, пение, слышанное им ежедневно в родном лесу, затаив дыхание, слушал певца.
А соловей увлекался… Тишина ободряла его, и его трели стали подниматься все выше и выше…
«Славно поет, – рассуждал леший, – но о чем он поет?.. Все, что я могу разобрать, это восторженность в каждом звуке».
– Послушай!
Соловей умолк.
– Не бойся, это я…
– Леший?!
Соловей спорхнул с ветки и сел на куст.
– Ты какими судьбами здесь? – удивленно спросил он.
– Так… прогуливаюсь, – потупился леший, решив никому не открывать своих планов. – Что это ты пел?.. О чем?
– Как так о чем? О том, что…
– Я только и слышу от тебя хвалебные гимны, – прервал его леший. – Кому поешь ты хвалу? Не своей ли свободе?
– Чудак!.. В твоих словах желчь, – усмехнулся соловей. – Мой удел воспевать природу.
– Но за что же ее воспевать?.. Не за то ли, что, наделив одних, она обделила других? Не за то ли, что она создала тысячи разнообразных форм существования, положив уделом одних страдать, а других быть счастливыми?.. Наконец, не за то ли, что, создав человека, эту козявку, которую ничего не стоит раздавить, создав человека-козявку, она наделила его живым разумом, волей, а меня, носящего в себе высшую мудрость, ограничила в каждом движении, в каждом желании… Стоит ли хвалы несправедливость?!
– Ты богохульствуешь, – сказал соловей. – Бог дал каждому поровну… Если человеку Он дал разум, гибкий, подвижный и бесконечный, то не дал ему твоей мудрости… Дав человеку бесконечный разум, Он создал для него бесконечную мудрость… Пройдут сотни тысяч лет, миллионы лет, а человек всегда останется человеком… Он постепенно будет познавать тайны природы, но никогда не достигнет конца своих исканий уже потому, что тайн этих столько, сколько капель воды на всем земном шаре. Понял ты, мудрец?.. Тебе природа дала сразу все, а человеку только способность постигать, постигать бесконечно…
– Ложь! – злобно воскликнул леший. – Со всей своей мудростью я не стою одной минуты человеческого страдания. Ложь! Я несчастнее человека и проклинаю такого Бога!..
– Молчи… молчи!.. Не смей так говорить!.. Бог дал тебе все и отнял то, чего ты не заслуживаешь… Чего тебе недостает?..
– Всего: тепла, свету, счастья! Всего… Даже слез не дал Он мне, чтобы я мог плакать, плакать так, как мне сейчас хотелось бы заплакать.
– Ты никому никогда не сделал добра, вот почему и не можешь плакать, – с сожалением в голосе сказал соловей. – Первые твои слезы должны быть слезами счастья, а в чем же счастье, как не в том, чтобы делать добро?
– Добро?.. Кому же мне делать добро? Может быть, птицам, которые сторонятся от меня? Или ящерицам и змеям, которые ни в чем не нуждаются? Может быть, этому самому человеку, который проклинает меня и боится одного моего имени? Наконец, в чем заключается это делание добра?..
– Глупый мудрец… Ведь ты же мудрец, – и соловей засмеялся.
– Будь проклята моя мудрость! – прошипел со злостью леший. – Она трактует только зло.
Он замолчал…
Соловей взглянул в даль и снова запел. Теперь лешему показалось, что он понимает это пение…
Соловей пел о солнце, о воде, о камышах… Сколько прекрасного видел он на своем веку!.. И обо всем этом он рассказывал…
И, как бы зачарованная его пением, луна выплыла из облаков, и светлый диск ее, улыбающийся и веселый, ярким пятном отражался на зеркальной поверхности озера…
Долго пел соловей… Не шевелясь, как изваяние, сидел леший и только тяжело дышал. Но вот песнь оборвалась… Соловей в последний раз протяжно свистнул, вспорхнул и улетел.
Очнулся и леший.
– Добро… – задумчиво произнес он, – попробую сделать добро…
Он вскочил и огляделся.
– В деревню, – и, прыгнув в воду, быстро поплыл он к другому берегу…
Вода была холодная. От его резких сильных взмахов по озеру пошли пенистые барашки и с шумом начали бросаться на берег. Его порывистое дыхание ветром понеслось вперед и, достигнув противоположного берега, ударилось на деревья… Зашелестела их листва, закачались верхушки… А леший плыл, минуя омуты и водовороты, плыл, не замечая начавшейся непогоды.
III
Близился рассвет. Нежным колоритом, бледным пурпуром вспыхнул небосклон.
Леший шел, задумчиво глядя себе под ноги. Мысли диким хаосом загромоздили его мозг… Громадой своей они давили тисками его лохматую воспаленную голову…
– Логики, логики!..
Он взывал к ней, к этой логике, но хаос оставался хаосом… Мысли перегоняли друг друга, путались, мешались…
Что-то настойчиво сверлило мозг, и, старясь уловить это «что-то», леший с безумной злобой, в бессилии кусал пальцы.
Он шел по тропинке через чащу леса. Первые лучи восходящего солнца проникали через густую листву деревьев и резкими желтовато-зеленоватыми пятнами скользили по мху и кустарнику…
Вдруг среди мертвой тишины еще не совсем проснувшегося леса, где-то впереди, за кустами, раздался едва слышный шорох и треск сухих сучьев.
Леший вздрогнул и инстинктивно остановился. Чьи-то осторожные шаги медленно приближались… Слышно было, как чья-то рука раздвигает сучья, ломает ветви. Перед глазами лешего успел даже промелькнуть между кустарником красный платок. Мелькнул и исчез…
Спрятавшись за стволом огромного суковатого дуба, леший растянулся в высокой, мокрой от недавнего дождя траве и затаил дыхание…
За кустами вторично мелькнул красный платок. Через минуту на тропинку вышла с корзинкой в руках молодая деревенская девушка… Осторожно ступая босыми ногами по траве, она внимательно оглядывалась по сторонам, останавливалась, раздвигала кусты и, быстро нагибаясь, ловко выкапывала из земли торчащие шляпки груздей и рыжиков… Когда она нагибалась, ее толстая золотистая коса, перевитая простой кумачовой ленточкой, тяжелым жгутом ниспадала через плечо… Когда она нагибалась, короткая синяя юбка приподнималась и открывала до самых колен стройные девичьи ноги с упругими полными икрами.
Несколько раз она повертывалась лицом в сторону куста, за которым, тяжело дыша, сидел спрятавшийся леший…
Он видел ее румяное лицо с высокими дугообразными густыми бровями, с глазами, глубокими и огромными, светящимися голубоватым пламенем жизнерадостности и энергии, молодости и красоты, видел ее молодую высокую грудь, непослушно наполовину выбившуюся из-под белой сорочки, видел…
Что-то острое, новое и незнакомое с быстротой молнии пронизало все безобразное тело лешего. Он чувствовал напряжение своих нервов, чувствовал как бы раскаленное железо, прикоснувшееся к его затылку…
Туманом заволоклись глаза безобразного лесного бога… Какая-то дикая необузданная сила толкнула его вперед…
Она уронила свою корзину и с широко раскрытыми глазами, полными безумного ужаса, замерла на месте… Мертвенной бледностью сменился яркий румянец щек, а высокая грудь, высоко вздымаясь, трепетала…
И, стоя перед ней, нервно напрягаясь, леший, казалось, любовался ею, любовался ее страхом… Из полуоткрытого рта его с сухим хрипом вырывалось тяжелое дыхание… Глаза горели зеленоватым, то вспыхивающим, то потухающим пламенем… Горели пламенем змеи, страстным, насмешливым. Губы кривились и передергивались… Гримаса страдания, непонятного, мучительного, исказила все его лицо.
Леший страдал… Страдал от нахлынувшей, непонятной ему страсти… Страдал от безумного острого желания неизведанных наслаждений…
Он страдал, леший, страдал, стремясь к непонятному…
А это непонятное жгло ему грудь, сжимало горло, душило его. Это непонятное вихрем крутилось в его голове… И он страдал, бедный леший… Он, мудрец, язвительный, страстный, остановился перед непонятной ему тайной…
Зачем он стоит здесь перед ней, прекрасной девушкой! Бежать, бежать тебе надо!..
Беги, мудрец, беги от недоступных тебе тайн!
И он хочет бежать, но что-то приковало его к месту. Его взор впивается в ее огромные голубые глаза, с ужасом, не моргая, смотрящие на него…
Огонь его глаз, сверкающий фосфорическим светом, жгучий и властный, притягивает ее…
Медленно она подвигается к нему навстречу, трепещущая, безвольная… Безмолвно стоит он и смотрит… Смотрит пристально, как будто там, в ее глазах, кроется мучающая его тайна… Смотрит так, как будто там, в этих широко раскрытых зрачках, вместе с искрой ужаса и отчаяния, горит пламя этого «непонятного», проклятого и желанного непонятного…
Она подошла вплотную. Он чувствует трепет ее груди, струю горячего сдавленного дыхания…
Взор его жжет ее…
– Пощади, – прошептали дрожащие губы, – кто бы ты ни был, пощади!..
Дикий крик пересмешника истерическим хохотом пронесся по лесу… Замер вдали и эхом отозвался в чаще.
– А!.. Он смеется над ним, смеется над его мудростью, над его страстью?.. Лес смеется над ним, над лешим!
И диким порывистым движением он обхватил ее стан своими мускулистыми руками, поднял ее с земли и побежал…
– Не смей! – крикнула чаща.
– Не смей! – отозвалось на тысячу ладов по лесу.
Но он бежал… Бежал через овражки и болота, прыгая, как пантера, через кусты и поваленные грозой деревья… Бежал с безотчетным желанием бежать…
И только тогда, когда поредели деревья и вдали зазолотились сквозь кусты поля с густой рожью, леший остановился.
Бережно положил он свою ношу в кусты и, скорчившись, тяжело дыша от усталости, сел рядом.
Разметавшись, с разорванной сорочкой и юбкой, она лежала перед ним, полуобнаженная, неподвижная…
И он смотрел на эту наготу, смотрел пристально.
– Хо, хо! – крикнул над его головой пересмешник. – Хо… Глупый, бери же ее! Ты упускаешь свое счастье!
И огонек безумного желания снова загорелся в груди лешего.
– Счастье? Перед ним счастье?.. Эта глупая птица сказала, что это счастье!..
Но ведь он и ищет этого счастья… Он жаждет его, стремится к нему!.. Это счастье?.. О, он хочет его, хочет мучительно, безумно.
– Безумно! – проскрежетал он и упал с ней рядом на траву…
Очнувшись, но все еще с закрытыми глазами, она почувствовала его могучие стальные объятия, почувствовала безысходность его страсти и… безмолвно отдалась ему…
IV
Ожил угрюмый лес…
Безмолвно стоял леший с трясущимися губами, дрожа всем телом, перед своей жертвой…
Холодным безучастием светился его задумчивый взор, устремленный в даль, в глубь этого золотистого просвета опушки леса.
В душе лешего, страстной, порывистой, в его душе, могучей, возвышенной и экзальтированной, царил холод, холод мрачной осенней ночи.
Эта глупая птица!..
Это она указала ему на счастье, указала на этот единственный исход.
О, эти века, бесконечный цикл лет его существования!.. Эти бесконечные страдания одиночества… Эти века!.. Эти века, отравившие его душу… О, эта рутина, мрачная рутина безыдейного мелкого существования!.. Она задавила, придушила его… Она душила каждый его порыв, порыв к высоким чувствам, к светлым грезам…
А эти прекрасные грезы! Эти воздушные мечты!..
Он – леший, безобразен, безобразен до отвращения… Но разве гордость, самолюбие, ум… разве они способны возбуждать отвращение? А разве душа его безобразна? Разве мысли его не возвышенно горды? Разве он, леший, не стремится к своему идеалу?.. А самолюбие?
И эти дивные грезы… Он взлелеял их… Эти сладкие, опьяняющие воображение мечты… Он отдался им всей душой…
Зачем он существует? Всеми отвергнутый, неизвестный, зачем он живет? Во имя чего, во имя какого логического смысла он дышит этим чистым благоухающим смолистым ароматом лесов, ощущает прохладу холодных лесных ключей и ручейков!..
Зачем видит и ощущает палящие лучи полуденного солнца, смотрит на мириады блестящих звезд, покрывающих золотистым ковром ночной небосклон?
Зачем он живет?.. Одинокий, никому не нужный, вечно злой и на себя и на природу, создавшую его, вечно недовольный, угрюмо-задумчивый. Он бродит по целым ночам по чаще, по рощам, по лугам, крадучись, как хищник, заглядывает в ближайшие поселки, деревни…
В сладострастном томлении беспредельной злобы, с постоянным вулканом неугасающей мести в душе, поджигает крестьянские избы, душит скот, мнет рожь и пшеницу.
О, проклятые века одиночества!..
Они разбудили зависть в его душе, бесконечную мучительную зависть к чужому счастью, к людскому счастью…
Все, что счастливо, должно сгинуть, перестать чувствовать, жить…
Все, что не тоскует, не мятется, все должно стереться с лица земли ненавистной ему природы, к которой он затаил ненависть в своей душе.
И он мстит ей, мстит…
Но грезы, воздушные, сладкие грезы!.. Невидимым роем нахлынули они к его страдающей душе. Яркой радугой осветили они его мозг… И он отдался им… Он отдавался им в ночной тиши родного леса, своей берлоги, уносился с ними в беспредельный океан фантазии, и жил… Да, в эти минуты грез и мечтаний он жил.
Но инстинкт брал свое.
Грезы отлетали так же внезапно, как и прилетали. Отлетали, оставляя осадок горечи и еще большей ненависти к действительности.
И он снова мстил…
«Что же со мной? – думал леший, стоя теперь над неподвижным телом девушки… – Эта глупая птица указала мне на счастье. Это острое, мучительное, мимолетное она назвала счастьем».
Он думал ощутить в себе новый приток сил и в изнеможении опустился на траву.
Но ведь счастье лучезарно!.. Ведь счастье – свет, ослепляющий, обновляющий!
Он искал в себе это обновление… но гордая энергия исчезла. На душе тот же осадок недовольства и… пустота… пустота….
Счастье… Так это счастье?.. Это его грезы и мечты?








