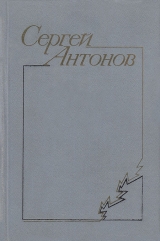
Текст книги "В тихой станице"
Автор книги: Сергей Антонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Сергей Антонов
В ТИХОЙ СТАНИЦЕ

Вечером к Василисе Михайловне зашел побеседовать Никодим Павлович, низенький человек в габардиновой гимнастерке, с неровно подстриженными усами и пухлым белым лицом. Василиса Михайловна понимала, что ходит он из-за ее внучки Люды, примеряется ее сватать. Гулять на людях Никодиму Павловичу поздно, вот он и ходит в избу, потихоньку приучает Люду к своему характеру. Примеряется и к хозяйству. Когда Люда накрывает на стол, он говорит строго: «А скатерть можно бы и не стелить: укапаешь вареньем – испортится скатерть». На это Люда отвечает, что для такого гостя не жалко никакой скатерти, и в голосе ее слышится откровенная насмешка.
Никодим Павлович, как он сам себя называет, «командировочный». Работает он в райцентре, в какой-то заготовительной организации, в станицу приехал по делам и живет уже больше месяца у садовода Петрищева. К своей работе он относится презрительно и с умилением вспоминает, как раньше служил где-то под Ярославлем, где обучают овчарок, и дело его заключалось в том, чтобы, надев комбинезон из плотной резины и сетку на голову, бегать от собак. Они нагоняли его, валили на землю, грызли комбинезон.
Приходя в гости, он иногда приносил гостинец.
На этот раз принес раков.
– В кипяток их, щелкунов, – сказал он, кладя на стол шевелящийся узелок. – В эту пору в них самый вкус…
– Сами наловили? – поинтересовалась Василиса Михайловна.
– Я, как вам известно, охотник.
– Вы только на раков охотник? – спросила Люда, щуря глаза, но Никодим Павлович оставлял без внимания такие вопросы и продолжал, обращаясь к Василисе Михайловне:
– Рак тогда имеет свой вкус, когда его изловили в месяце с буквой «эр», в марте, в апреле или, как сейчас, в сентябре. Каждой животной назначен свой срок, когда она наилучшим образом угождает человеку. К примеру, рыбец самый лучший – мартовский. В марте у него спина вот такая, – и он показал два сложенных вместе белых пальца.
Говорил Никодим Павлович всегда поучающим тоном и никого не любил слушать. А когда приходилось все-таки что-нибудь выслушивать, он грустно и снисходительно улыбался, словно ему было наперед известно, что ему скажут, и еще что-то сверх этого, чего никто не понимает, да и понять никогда не сможет. И Василиса Михайловна почитала его умным человеком.
Сели ужинать. Василиса Михайловна разлила борщ, припасенный на завтра.
Никодим Павлович поел немного и сказал:
– Красный бурак класть в борщ не рекомендуется. Надо класть такой бурак, – он пошевелил пальцами, – красный с белыми поясками, муаровый… А от красного бурака борщ воняет бураком.
После этого он молча доел борщ.
– Говорят, весной к нам море подойдет? – спросила Василиса Михайловна. – Плотину возле Кумшацкой горы насыпать кончают.
– Море, конечно, будет, – сказал Никодим Павлович, с треском разламывая раковый панцирь, – только до какого места оно разольется, это еще вопрос. Положено ему, к примеру, до вашего куреня дойти и остановиться, а оно не остановится. Вода – это стихия.
– У них все высчитано, что вы… – немного испугавшись, возразила Василиса Михайловна.
– Расчет – дело ненадежное. В расчете один нолик пропусти, зальет ваш курень, одна скворешня будет торчать. Сейчас вы, к примеру, раков едите, а тогда раки вас станут есть… А зальет или не зальет – все одно. Из науки известно, что земля упадет на солнце, и все, что на ней есть, сгорит к чертовой матери. Знаете, Василиса Михайловна, что такое солнце?
– Нет, – испуганно ответила она. – А что?
– Солнце – это расплавленное железо. Что от вас останется, если вас, к примеру, кинуть в расплавленное железо?
– Так это еще когда будет…
– Когда бы ни было. Да что там солнце, – атомная бомба, и та сжигает так, что от вас на земле останется одно пятнышко, одна ваша фигура в форме тени.
Василиса Михайловна со страхом посмотрела на свою тень и проговорила:
– Да такую бомбу наши не дадут кинуть.
– А они, думаете, спрашивать станут? Вон вчера в газетах был напечатан меморандум.
– Что? – еще больше пугаясь, спросила Василиса Михаиловна.
– Меморандум, – таинственно повторил Никодим Павлович и, обтерев руки платком, в котором были принесены раки, поднялся из-за стола. – Ну, мне пора. Кажется, дождик?
Все трое молча прислушались, глядя в темные окна. По крыше стучал дождь.
Никодим Павлович надел фуражку, попрощался и, уверенный, что Люда после сегодняшнего вечера стала еще больше удивляться его учености, пошел в сени.
Накинув пуховую шаль, Василиса Михайловна проводила его до крыльца, предупредила, чтобы он нагнул голову, потому что во дворе развешаны веревки для сушки белья, и остановилась у порога, слушая осторожные, удаляющиеся шаги. Вечер был темный. Тихо и печально шумел дождь. Вдалеке хлопнула дверь, шаги смолкли. «Кис-кис-кис», – позвала Василиса Михайловна, кутаясь в шаль, и ей казалось, что с кошкой случилось что-то недоброе и что кто-то чужой стоит за плетнем. Наконец мокрая кошка прошмыгнула в сени. Василиса Михайловна заперла дверь на крюк и задвижку и пошла спать.
– Хоть и ученый человек, а всю душу бередит своими разговорами, – сказала она внучке с досадой. – Скорей бы порешали вы с ним.
– Неужели ты все еще думаешь, что я пойду за него? – ответила Люда. – Ох ты, бабушка, бабушка. Ты уж не хлопочи за меня. Я большая стала.
Все-таки сердечная у Василисы Михайловны внучка, хоть и любит на людях насмешничать. Да и насмешничает не со зла, а когда ей немного совестно или стеснительно.
Василиса Михайловна легла с тревогой на сердце. Раньше спокойно было в станице, тише: до ближней станции надо было идти сто верст. А в прошлом году провели до самого Дона железную дорогу, понаехали всякие люди, ходят с трубами, вымеряют, многих переселили на новые места. Хоть и сказали Василисе Михайловне, что ее курень оставят на месте, а кто его знает. А тут еще повадился этот «командировочный» со страшными историями… Василиса Михайловна заснула, и ей снилось, что по всему двору разлилась вода и никак невозможно было пройти к корове, а на скворешне сидел Никодим Павлович и спрашивал, что такое солнце.
Ночью к ним постучали. Василиса Михайловна села на кровать и перекрестилась.
Украдкой, словно стараясь не разбудить спящих, в листьях акаций шуршал дождь, тот самый тягучий дождь, который зарядил еще вчера вечером. Шум дождя в листве был похож на торопливый беспокойный шепот, и казалось, по палисаднику все время ходят на цыпочках. Стояла такая темень, что в комнате не было видно окон.
Постучали снова. В сенях упала уздечка.
– Бабушка, стучат, – сказала Люда, проснувшись.
Было слышно, как ветер шевелил тонкую струйку воды, текущую с желоба в кадушку, и звук этой струйки все время менялся, словно ее настраивали. Где-то далеко у плотины трескуче просигналил мотовоз.
– В позапрошлом годе к соседям так-то вот, среди ночи, напросились со строительства ночевать, а утром шубу унесли, – проговорила Василиса Михайловна. – А может, со скотного двора дежурная прибегла… Прямо не знаю – откликаться или нет…
– Конечно, надо спросить – кто, – сонно пробормотала Люда, забираясь глубже под одеяло. – Дождь ведь. Там мокро.
– Сарай у нас замкнут?
Люда не ответила – наверное, заснула.
Не зажигая света, Василиса Михайловна накинула пальто, приотворила дверь, ведущую в сени, и спросила издали:
– Кто это?
– Я, – послышался мужской голос. – Крепко же вы спите, мамаша.
Голос был простуженный, хрипловатый, и Василиса Михайловна не могла понять, старый или молодой человек стоит на крыльце.
– Да кто вы будете? – спросила она снова.
– Гидромеханизатор.
– Кто?
– Столяров. Старший прораб по намыву. Слыхали?
«Видно, тоже со строительства, – подумала Василиса Михайловна. – Не стану отмыкать, хоть ты тут об косяк разбейся».
– А у вас документы есть? – спросила она, поджимая губы и строго глядя в темноту.
– У меня полная планшетка документов. До утра не перелистаете.
«Гляди-ка, уж и ноги обтирает. – Василиса Михайловна со страхом прислушалась. – Ровно к себе домой пришел».
Действительно, неизвестный человек строгал тяжелыми сапогами по доскам крыльца с такой силой, что в сенях шевелились половицы.
– Вы не беспокойтесь, – сказал он, словно его приглашали к столу. – Ни чайку, ничего такого не надо…
– Да у нас и дров-то нет, батюшка. Какой там чаек… Холодно.
– Это неважно… В шесть утра мне на карту идти…
– Где же их наберешься, дров, – продолжала Василиса Михайловна. – В нашем степу если какую щепку найдешь, так и ту велят назад положить… Глядите, какую грудку привезли на всю зиму…
И то ли оттого, что она заговорилась, то ли потому, что у человека был обыкновенный, дневной голос, Василиса Михайловна, забывшись, отодвинула засов и спохватилась только тогда, когда кто-то мокрый и холодный, царапая полой плаща стену, прошел в сени.
Она торопливо нащупала выключатель и зажгла свет.
Посреди сеней стоял парень лет двадцати трех, высокий и крутоплечий. На голове его лежала маленькая выгоревшая кепка с пуговкой, с покоробившимся картонным козырьком. Загоревшие скулы его, до глянца начищенные степными ветрами, отражали свет лампочки.
– А нас двое, – сказал он и вытащил из-за пазухи черного щенка. – На дороге подобрал. Наверное, выбросил кто-нибудь. – Парень вытер дождевые капли с твердых губ и улыбнулся, показывая чистые зубы.
– Мне, батюшка, и положить тебя негде, – проговорила Василиса Михайловна, перестав бояться.
– А мы вот тут и ляжем, – сказал парень, со скрипом стянул плащ, сразу нашел, куда его повесить, и подставил под него лохань, чтобы на пол не натекла лужа.
«Ровно год тут живет», – подумала Василиса Михайловна.
– Квартиру я, мамаша, снимаю в Соколовке, – объяснил он, быстро и ловко постилая в углу ватник. – А сейчас туда, в гору, машины не идут. Грязь, – подумав, он снял пиджак и, свернув его наподобие подушки, положил к стене. – Отправились было мы с Александром Егоровичем пешком в Соколовку, а ноги ползут в другую сторону. Темно – земли не видно. Да что земля – Александр Егорович в темноте потерялся. Сейчас, наверное, тоже где-нибудь в двери скребется…
– Ты обожди-ка, не ложись, я сейчас, – сказала Василиса Михайловна, пошла в горницу и разбудила Люду.
– Механизатор какой-то пришел… Молоденький, – зашептала она. – Я ему застелю здесь, на диване, а мы с тобой вместе поспим. Все равно до свету часа четыре осталось.
Сердитая со сна Люда натянула платье и пошла в спальню искать чистые простыни и наволочку, а Василиса Михайловна позвала ночного гостя, попросив его снять в сенях сапоги. Он вошел, осмотрелся. Видно, от усталости лицо его выглядело капризным. На рубахе виднелись темные сырые пятна, вода пробралась сквозь плащ, телогрейку и пиджак.
– Гляди-ка, промок весь, батюшка, – сказала Василиса Михайловна.
– Ничего. Мы каждый день с водой дело имеем. Дамбу намываем. Электростанцию на Дону ставим.
– Не на Дону ее ставят, а на берегу. Я видала.
– А мы его к ней передвинем.
– Кого это?
– А Дон… – сказал парень.
«Ровно скамейку собрался передвигать», – подумала Василиса Михайловна, глядя на его большие руки с аккуратно подстриженными ногтями.
– Звать-то тебя хоть как? – спросила она.
– Владимир.
Из спальни вернулась Люда, начала перестилать.
И Василиса Михайловна заметила, что Владимир, напустив на лицо безразличное выражение, поглядывал украдкой на внучку.
– На учительницу выучусь, куплю кровать с шарами, – сказала Люда.
– Далеко больно загадываешь.
– Это хорошо, что далеко загадывает, – проговорил Владимир, – а так проживать день за днем – скучно. Только небо коптить.
– Я вот не загадываю, – немного обиделась Василиса Михайловна, – а живу себе да работаю на ферме. И люди не жалуются.
– Загадывай не загадывай, – добавила Люда с усмешкой, – а все равно, как Никодим Павлович говорит, земля упадет на солнце.
– Ничего, – сказал Владимир. – Придет время, ликвидируем и эту опасность.
«Вот ведь – ни о чем не задумается, – Василиса Михайловна начала сердиться. – Уж и землю куда хочешь направит».
Пошли спать. Прислушиваясь, как гость ворочается, привыкает к дивану, Василиса Михайловна думала о том, что было время – и она загадывала далеко вперед, а ничего из загаданного так и не получилось. Было их в семье шестеро – все девчонки. Как отца убили под Цусимой, так мать стала отдавать дочерей замуж без разбора – лишь бы кто взял. Василисе Михайловне достался проезжий лесничий. Вышла она за него и загадала – хозяйство налаживать, да года не прожила, забрали мужа на войну в Галицию; вернулся он в шестнадцатом году больной – легкие сожгло газами, все, что было нажито, пошло на леченье, а проку не было: покашлял-покашлял – да и помер. И осталась Василиса с младенцем, сыном, одна в самые трудные, голодные годы. Но и тут загадала – выучить его, сделать человеком. Намучилась, натерпелась всего, а своего добилась. Сын выучился и женился на образованной, стал работать в Ленинграде, стал переводы слать, по сто двадцать рублей в месяц. Будто все наладилось, а тут снова война, Ленинград окружили фашисты – и погибли оба: и сын и его жена. Пришлось ихнюю дочку Люду взять к себе. Все войны Василиса Михайловна помнила не по годам, а по родным: японская война – когда отца убили, империалистическая – когда муж помер, Отечественная – когда сын с женой погибли. И как только не стало любимого сынка, так и махнула Василиса Михайловна рукой, перестала думать наперед и хозяйство вела кое-как, даже дыру в плетне не хотелось заделывать, и полы кое-как натирала желтилом, и Люду воспитывала кое-как, вот и растет насмешница… «Утром расскажу ему это в назидание, – думала она, засыпая, – чтобы понял, что хорошо этак мечтать, пока молодые… А как жизнь начнет тебя с бока на бок переворачивать, так ты и поймешь, чего стоят твои загадки…»
Проснулась Василиса Михайловна рано, но парень уже ушел. И только мокрый плащ его по-прежнему висел в сенях. Плащ был тяжелый, сшитый из такого же толстого брезента, из какого делают ведра, чтобы поить лошадей. Василиса Михайловна покачала головой и повесила сушить плащ на плетень. Из-за облачка поднималось солнце.
Дня через два пришел Никодим Павлович. Василиса Михайловна наизусть выучила его характер и по тому, что он ничего не принес, поняла, что гость не в духе. Сейчас начнет чаевничать, да примется наворачивать такие страхи, что и сам потом на улице станет оглядываться.
Никодим Павлович повесил фуражку на угол зеркала, загладил волосы набок, чтобы не видно было лысины, и, оглядевшись, заметил плащ. Василисе Михайловне пришлось рассказать про ночного посетителя.
Выслушав ее, Никодим Павлович загадочно покачал головой, подумал и стал примерять плащ. Поглядев, как он затягивается, Люда прыснула и убежала на кухню.
За чаем Никодим Павлович, против обыкновения, молчал и только вздыхал изредка и загадочно покачивал головой. Выпив стакан, поднял палец и сказал: «А плащ-то не зря оставлен», и попросил еще чая. Чуя недоброе, Василиса Михайловна смотрела, как он отхлебывает чай и поглядывает после каждого глотка, сколько осталось в стакане. Наконец Никодим Павлович напился, утер усы и проговорил:
– А вы задавались вопросом, Василиса Михайловна, почему он оставил плащ?
– Нет, – быстро ответила она. – А что?
Но он не сразу объяснял, о чем его просили, а обыкновенно заводил разговор в сторону, чтобы слушатели имели время поломать голову и убедиться, что до того, до чего дошел своим умом Никодим Павлович, им никогда не дойти. И поэтому он спросил помолчав:
– Спал-то этот полуношник у вас где?
– На диване.
– Не надо бы класть на диван. Сотрется обивка… Пружины согнутся…
– Да он не толстый, – заметила Люда, щуря глаза. – Если бы вас положить, тогда правда пружины поломались бы…
– А плащ оставлен не по забывчивости, а со значением, – продолжал Никодим Павлович, пропуская, по обыкновению, ее слова мимо ушей. – Вот он высмотрел, где что лежит, и пошел. А теперь нагрянет среди ночи, скажет, за одеждой пришел, и вы обязаны ему открыть. А с ним, может, еще двое или трое…
– Ну что уж вы говорите, – поежилась Василиса Михайловна.
– Живете вы на краю, крика вашего не слыхать.
Василиса Михайловна посмотрела в окна. Вечер был ясный, и на фоне светлого лунного неба неподвижно чернели ветви одиноких тополей, и черные тени, как нарисованные, лежали на дороге. Луна светила ярко, и во дворе, казалось, можно было читать газету. На улице послышались шаги. В дверь постучали.
– Ну вот. Я вам говорил, – сказал Никодим Павлович, встал и почему-то надел фуражку.
– Иди-ка ты, Люда, – торопливо заметила Василиса Михайловна, – скажи, чтобы днем приходил. Скажи, что спать ложимся…
– Сейчас я его пугну, – усмехнулась Люда и пошла в сени. Вскоре там послышался разговор, смех.
– Смотри-ка, пустила, – растерянно развела руками Василиса Михайловна. – Вовсе не слушается девка…
Вошел Владимир, на этот раз в пиджаке и без кепки.
– Хотите чайку? – спросила Люда, поглядывая то на Никодима Павловича, то на бабушку и едва сдерживая смех.
– Не откажусь, – Владимир сел напротив Никодима Павловича и стал рассказывать, что плащ был мокрый и его неохота было тащить с собой.
– Вы на строительстве? – спросил Никодим Павлович.
– На строительстве. Здесь через год кончим, в другие места поедем.
– Вон вы какой быстрый, – снисходительно усмехнулся Никодим Павлович. – В Новочеркасске собор с молитвой закладывали, и то два раза обваливался. Сто лет строили…
– У нас не обвалится, – перебил Владимир. – Нам некогда допускать такую роскошь. Здесь кончим, поедем на Волгу, а потом, может, на Обь или Енисей.
– Вон у тебя, батюшка, как складно все расписано, – не удержалась Василиса Михайловна. – Ты, я вижу, и правда далеко глядишь.
– Сильно далеко глядеть – зрение испортишь, – заметил Никодим Павлович.
– Кто за зрение боится, тому надо рыбий жир пить, – ответил Владимир. – Нам нельзя вперед не глядеть. Господь бог, когда мир сотворял, поторопился, накидал навалом горы, леса да пустыни. Без всякого порядка. А нам теперь приходится все по местам расставлять: море – на свое место, горы – на свое, как мебель в доме, чтобы уютнее было.
Никодим Павлович слушал, разглядывая полустертые цветочки на блюдцах, будто ему все давным-давно известно, и по лицу его было видно, что толку от таких разговоров он не видит никакого.
– Вы моря перестанавливать думаете, – сказал он со вздохом, – а моря-то сохнут покамест. Ученые сделали открытие, что Каспийское море и то сохнет. Высохнут все моря да реки, вот тебе и все. Природа свое возьмет, ее не перебороть.
– Вы не то говорите, – возразил Владимир. – Количество влаги на земле не уменьшается. Уровень Каспия действительно падает, но на это есть разные причины.
– Какие же это причины? – спросил Никодим Павлович.
– Много разных причин. Даже от количества тракторов Каспий мелеет.
– Как же он мелеет от тракторов, разрешите узнать? – устало улыбнулся Никодим Павлович.
– А очень просто. Чем больше у нас тракторов, тем больше пашни. А чем больше пашни, тем больше воды задерживается в почве и меньше стекает в Волгу. А Волга, как известно, впадает в Каспийское море.
– Интересно, – сказала Люда.
– А вот ничего интересного-то и нет. Это давно известная аксиома, что Каспий мелеет, – недовольно проговорил Никодим Павлович. – На то существует наука, чтобы все это изучить. Вот вы, наверно, учились где-нибудь. В техникуме? Пускай в техникуме. А вы думаете, обучили вас всем наукам до самого конца? Вот – нолик. Вы, наверное, думаете: нолик, он нолик и есть. А пропустите в расчете нолик, и все у вас получится наоборот. Каждое число имеет свое значение. Это не зря люди поняли, что тринадцать – несчастное число. А, например, шестьсот шестьдесят шесть – число звериное.
«Ну, теперь опять ночь не спать», – подумала Василиса Михайловна, но тут Владимир внезапно перебил Никодима Павловича:
– А вы знаете таблицу умножения на девять? – спросил он.
Никодим Павлович только поморщился, показывая, что не любит, когда его перебивают. Но Владимир не унимался:
– Вы, я вижу, крупный специалист по части цифр. Сколько будет, например, девятью два?
– Восемнадцать, – ответил Никодим Павлович снисходительно.
– Правильно, восемнадцать. Результат состоит из двух цифр. Единицы и восьмерки. Если сложить эти цифры – сколько получится?
– Ну, девять, – ответил Никодим Павлович настораживаясь.
– Хорошо. Теперь – девятью три. Двадцать семь. Сложите-ка двойку и семерку.
– Опять девять, – удивился Никодим Павлович и забормотал: – Девятью четыре – тридцать шесть, три да шесть – девять, девятью пять – сорок пять, четыре да пять – девять… – Это его поразило.
– Интересно, – сказала Люда.
А Василиса Михайловна, не знавшая таблицы умножения, но довольная, что страшные разговоры кончились, оживилась и стала потчевать Владимира чаем.
Но он посмотрел на часы и стал собираться уходить.
– Вы снова в Соколовку? – спросила Люда.
– В Соколовку. Сейчас хорошо идти. Светло и сухо.
– А то ночуйте у нас, – предложила Люда, посмотрев на бабушку. – Зачем вам в такую даль идти.
Василиса Михайловна закивала головой, и Владимир остался.
А еще через день он переселился в курень Василисы Михайловны со всем своим имуществом: с двумя незапирающимися чемоданами, с щенком и с маленькой подушкой, вышитой «болгарским крестом». В чемоданах оказалось множество книг. Владимир сразу же расставил их между цветами на подоконниках.
– Это кто вышивал? – спросила Люда, рассматривая подушку.
– Мама вышивала, – ответил Владимир и улыбнулся.
С Василисой Михайловной они подрядились так, что он будет жить и столоваться у них до конца строительства, а платить два раза в месяц, как принесет зарплату. И получилось хорошо: Владимиру стало ближе ходить на работу, а Василиса Михайловна почти перестала бояться: все-таки мужчина в доме, – привыкла к нему и за ужином уже называла Володей. А Люда повязала щенку на шею ленточку и любила смотреть, как он, дрожа от нетерпения, лакает молоко. Имя щенку Володя дал Монитор и объяснил, что есть у них на строительстве такая машина – гидромонитор, которая струей воды может размыть любую гору. Работа у него, видно, была интересная: на заливных придонских лугах возле Кумшака делал он дамбу высотой чуть ли не в сорок метров и длиной больше двенадцати километров. И землю на эту дамбу возили не тачками, не подводами и даже не грузовиками, а подавали ее по трубам со дна Дона, перемешанную с водой. Вода несла землю по трубам версты на две, а то и на три, укладывала, где надо, уминала лучше всяких трамбовок и даже, говорил Володя, сама отделяла мелкий песок от крупного. Дамба растет, и трубы приходится переставлять все выше и выше.
– У вас, наверное, вода и трубы переставляет? – спросила Люда, выслушав это.
– Пока еще до этого не додумались, – серьезно ответил Володя, – но скоро и это будет.
Так прошло четыре дня. Никодим Павлович ни разу не появлялся, наверно, рассердился. Но Василиса Михайловна тревожилась не из-за Никодима Павловича. Ее обижало, что Володя не очень-то обращает внимания на внучку. Вся станица на нее засматривается, а этот техник придет – и словно ее дома нет. А девку бог не обидел: статная, кареглазая, казацкая полукровка. Правда, Володя сильно уставал, говорил, что основные работы на дамбе надо кончать обязательно до морозов, а они отстают, не поспевают. Но Василиса Михайловна ходила как-то к Кумшаку, видела эту дамбу. Растет гора прямо на глазах, быстрее уже невозможно работать… Володя приходил поздно, раскладывал бумаги да книги, считал да писал или, задумавшись, ходил из угла в угол, словно вымерял комнату широкими шагами, а за ним, как маятник, мотался Монитор.
Но Василиса Михайловна, видно, всего не углядела. В субботу, пока Володя еще не вернулся, Люда прибежала домой с фермы и стала гладить платье с короткими рукавами, пестрое шелковое платье, которое берегла и надевала всего два раза. Ей надо бы поесть да бежать на занятия, – она училась на курсах поливальщиков, – но она забыла и суп подогреть, и занятия пропустила.
– Ты куда собираешься? – строго спросила Василиса Михайловна.
– Сегодня кино в Сосновке… Получила приглашение от одного красивого блондина, бабушка.
– Холодно будет с голыми руками.
– Ничего, бабушка. Наше дело такое: дрожи, а фасон держи.
Люда переоделась, села у окна и стала глядеть в ту сторону, откуда приходил Володя. Она сидела в своем красивом платье, то поглядывая в окно, то листая книжки, в которых были нарисованы непонятные чертежи и значки.
«Хоть бы Никодима Павловича не угораздило сейчас явиться, – вздохнула Василиса Михайловна, – прямо беда». И только она это подумала, вошел Никодим Павлович с гостинцем в платочке. Монитор подбежал к нему ласкаться. Никодим Павлович отодвинул его ногой, посмотрел на чемоданы, на книги и сказал грустно:
– А собака, обождите, вырастет, все тряпки у вас погрызет.
– Они у нас недолго жить будут, – усмехнулась Люда, – только до конца строительства.
– Куда собрались?
– В кино. В Сосновку.
– Ненадежный он человек, – подумав, сказал Никодим Павлович, обращаясь к Василисе Михайловне. – Так и будет по свету бегать со своими чемоданами. Никакого хозяйства не наживет… Сегодня по радио передавали, залетел к нам американский самолет…
– А девять умножить на двадцать шесть, получается двести тридцать четыре, – перебила его Люда, – два, три да четыре – опять девять. Почему это, Никодим Павлович?
Он помолчал, барабаня по столу белыми пальцами, потом вдруг резко поднялся и, не попрощавшись, пошел в сени. Через минуту вернулся, взял со стола гостинец и пошел снова, но, дойдя до порога, остановился и сказал:
– А девять на одиннадцать – девяносто девять. Дурак он по самые уши.
Только после ухода Никодима Павловича Люда спохватилась, что времени уже много и кино в Сосновке, наверное, началось. Но она все сидела у окна, глядя на розовое от вечерней зари займище, на пересохшую старицу Дона и гладила Монитора. Монитор повизгивал на ее коленях, скучал по хозяину, и Василисе Михайловне было жалко и внучку и щенка. Наконец, когда на улице совсем стемнело, Люда сняла платье, бросила его на спинку кровати и легла спать.
– И хорошо, что он не пришел, – сказала она бабушке, – погода плохая, до Сосновки пять километров. Пусть этот шагающий экскаватор один ходит.
Но по голосу ее Василиса Михайловна поняла, что внучке очень обидно.
Ночью пришел Володя, принес какой-то камень, положил на стол. Василиса Михайловна не стала его расспрашивать ни про камень, ни про то, почему задержался; только поджала губы, чтобы показать свое неудовольствие, и пошла на кухню подогревать борщ. Возле печки она возилась долго, стучала рогачом и думала: «Пусть посидит да прочувствует свою вину». Но, войдя в камору, она увидела, что Володя спал сидя за столом, положив голову на руки. Рядом с ним на скамейке спал Монитор. Услышав ее шаги, Володя проснулся.
– Что это за булыга? – спросила Василиса Михайловна.
– Это зуб мамонта. Выкинуло вместе с землей… Люде подарок. Она, наверное, обиделась на меня. Я сейчас снова на карту иду, так вы скажите ей, что никак не мог прийти вовремя. Неприятность у нас там… Иловатый грунт в дамбу пошел, негодный… Ночью не уследили. Около тысячи кубов надо заменять…
– Как же теперь?
– Ничего. Выправим положение.
– Тут Никодим Павлович приходил, – нерешительно проговорила Василиса Михайловна. – Самолет, говорит, заграничный к нам залетел.
– Ну и что? – спросил Володя, аккуратно зачищая тарелку.
– Кабы войны не было.
– Не бойтесь, бабушка…
Володя встал тихонько, чтобы не разбудить Монитора, надел ватник.
– Гляжу я на тебя, – сказала Василиса Михайловна, – и не понять мне, с чего ты такой спокойный. Или у тебя горя не было?
– Горе у нас у всех было. А мы его вот этими вот руками с себя смахнули, – и он покачал перед ней своими большими тяжелыми руками.
Он ушел и пропадал на стройке почти двое суток. Люда ничего не спрашивала о нем, выбросила мамонтов зуб во двор, но Василиса Михайловна видела, как она украдкой гладит Монитора и задумывается.
Василиса Михайловна несколько раз пробовала объяснить внучке, что в насыпь попала негодная земля и ее надо выкидывать, и на это дело нужно время, но Люда говорила: «Да ладно тебе, бабушка», и не слушала. Набросив на плечи шаль, Василиса Михайловна выходила к плетню, который давно ждал починки, и смотрела вдаль, за одинокие черные вербы, откуда должен появиться Володя. Наконец он пришел, мокрый, довольный. Люда не сказала ему ни слова, взяла заступ и ушла на огород, хотя перекапывать гряды можно было и на следующий день.
– Поставили две трубы сечением по двести пятьдесят миллиметров, – говорил Володя Василисе Михайловне, – направили их открытыми торцами вроде пушек на иловатый грунт, пустили пульпу и отжали всю дрянь хорошим грунтом. Здорово, бабушка?
Василиса Михайловна кивала головой и тихо радовалась, хотя мало понимала суть дела.
Ужинать Володя захотел на кухне. Из кухни окно выходило на огород. Было видно, как между подсолнечными будыльями и колышками, увитыми засохшими стеблями, ходит Люда в полинявшем красном платье.
– Может, позвать ее? – несмело предложила Василиса Михайловна.
– Пусть работает, – сказал Володя. – Я люблю смотреть, когда работают. На работе человек красивей всего.
На улице был ветер. Прутья виноградников упруго изгибались в разные стороны.
Люда ходила против ветра гордая, стройная, и красное платье трепетало на ней.
– Вы были похожи на знамя, – сказал Володя, когда она вернулась.
– На переходящее? – насмешливо отозвалась Люда.
Володя стал объяснять, почему не мог прийти, и Василиса Михайловна слышала, как среди разговора он предложил внучке в следующую субботу пойти с ним на вечер самодеятельности строителей в рабочий поселок и обещал зайти за ней точно в назначенное время. Люда говорила, что ничуть на него не обижается, но идти в рабочий поселок наотрез отказалась: каждую субботу пропускать занятия из-за какой-то самодеятельности – дело накладное. Володя долго убеждал ее, шагая по привычке из угла в угол, и Монитор, стуча коготками, бегал за ним.
– Отступись ты от нее, – сказала Василиса Михайловна, когда Люда пошла доить корову. – Ее нипочем не переговоришь.
– Уговорю, – ответил Володя и улыбнулся.
И правда, уговорил: в субботу Люда снова гладила платье с короткими рукавами.
Солнышко стало опускаться за вербы и уже светило в кухне. Скоро должен воротиться Володя. Чтобы не мелькать у них перед глазами, Василиса Михайловна пошла во двор, принялась чинить плетень. Заплетая одна за другой лозины, она заметила, что работается ей в охотку: появился вкус налаживать хозяйство. С тех пор как стоит у них Володя, почему-то легче стало на душе, словно с десяток лет сорвалось с ее плеч. Василиса Михайловна так увлеклась работой, что не сразу заметила парнишку, маленького и худенького.








