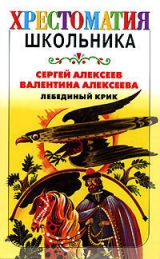
Текст книги "Лебединый крик (сборник)"
Автор книги: Сергей Алексеев
Соавторы: Валентина Алексеева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Месяц простояли повстанцы под Москвой у села Коломенского. Рядом Москва-река. Рядом речка бежит Котловка.
Место высокое. Далеко видно.
Несколько раз пытались восставшие ворваться в Москву.
Начали со штурма Серпуховских ворот. Не получилось. Вскоре бои вспыхнули у Симонова монастыря. И снова удачи не было.
Затем ожесточенные схватки завязались в районе Красного села, на берегу реки Яузы. Победу никто не вырвал. Ночь развела войска.
Наконец, 2 декабря 1606 года развернулось решительное сражение. Сошлись войска у Даниловского монастыря, у села Заборье. К этому времени к царю Василию Шуйскому подошла помощь – ратники из Смоленска, Вязьмы, Твери, Ярославля.
Целый день продолжалась битва.
Второй день продолжалась битва.
Наступил решающий, третий день.
В восстании Болотникова принимали участие отряды казаков. Они сражались у села Заборье. На Заборье был направлен один из главных ударов царских воевод. Казаки попали в окружение. Они еле держались.
Распорядился Болотников направить на помощь казакам одного из ближайших своих сподвижников Истому Пашкова.
Двинулся Пашков со своими людьми к Заборью.
Торжествуют казаки. Вот она – рядом помощь.
Идут ратники Пашкова. Идут. Минута – и примут с врагами бой.
И вдруг… Что такое?!
Не сразу все поняли, что измена.
Не вступил Истома Пашков в бой с царскими войсками, не освободил из окружения казаков. Развернул своих ратников и перешел на сторону воевод.
Разгромив казаков, царские войска обрушились на главные силы Болотникова.
Не устояли восставшие. Дрогнули. Побежали.
Победно царские воеводы вошли в Коломенское.
ИшутаПосле поражения Болотникова под Москвой воеводам достались пленные. В числе тех, кто был схвачен, оказался и Ишута Рябой.
Начались боярские расправы над непокорными.
Согнали пленных в тюрьмы. Сидит Ишута. Ждет своей участи.
Обратился к соседу:
– Может, отпустят?
– Жди! – рассмеялся сосед.
– Может, всыпят розог, и этим все кончится?
– Как бы не так, – рассмеялся сосед.
– Повесят? – с испугом спросил Ишута.
– Может, и повесят, – сказал сосед.
Поежился Ишута. Представил виселицу. Себя на виселице. Висит. Болтается.
Лезет опять к соседу:
– А может – на плаху?
– Может, и на плаху, – сказал сосед.
Поежился Ишута. Представил себя на плахе. Подошел палач. Топор в руке. Взлетел топор над Ишутой. Покатилась Ишутина голова.
Несколько дней сидели в темнице узники. Ожидали, что будет.
И вот вывели их на улицу. Ночь. Мороз. Звезды с неба на землю смотрят.
Снова Ишута гадает: «Может, отпустят, может, розог всыпят, и этим все кончится…»
Река Яуза рядом. Лед. Во льду прорубь.
Привели пленных к реке. В ряд построили.
Появился огромный нечесаный мужик. В руках дубина.
Подошел к первому. Хвать дубиной по голове – и в прорубь.
Подошел ко второму. Хвать – и в прорубь.
Поравнялся нечесаный мужик с Ишутой.
Понял Ишута: все!
Схватили Ишуту за руки, за ноги, потащили к реке, оглушили дубиной по голове. Опустили под лед в Яузу.
Кончил свой век Ишута.
Все просто. Все ясно. Э-эх, жизнь человечья! Ни веревок, ни пуль, ни топора не надо.
Смутное время. Страшное время. Лютость по русской земле ходила. Сила ломила силу.
Крест поцеловалРазбитые под Москвой отряды Ивана Болотникова отошли к Калуге. Началась осада Калуги царскими войсками. Продолжалась она пять месяцев. Не взяли город царские воеводы. Отступили. Но и Болотников решил Калугу больше не удерживать. Ушел со своими отрядами в Тулу. В Туле посад больше. Здесь крепостные валы выше. Здесь кремль надежнее.
Пришли войска Болотникова в Тулу, а тут неожиданность. Оказалось, в Туле находятся отряды терских, волжских и донских казаков. Привел их сюда самозванец из Мурома Илейка Коровин – «царевич Петр».
Шепчут люди Болотникову:
– Царевич он, царевич!
– Он сын царя Федора Ивановича и царицы Ирины Годуновой.
– Внук царя Ивана Грозного.
Усмехнулся Болотников. Однако не поссорились они с Илейкой Коровиным. Не повздорили. Наоборот, объединились «царевич Петр» и Болотников. Вместе стали готовиться к новым боям с царскими воеводами.
Войска Шуйского не оставили повстанцев в покое. Был отдан приказ осадить Тулу.
Под Тулу прибыл сам царь Василий Шуйский. Пришла артиллерия, осадные пушки.
Всем хороша для обороны Тула. Неудобство одно – город лежит в низине. По низине петляет река Упа. Бежит она и под стенами Тулы.
Четыре месяца штурмовали царские войска Тулу. Взять не смогли. Тогда воеводы решили перегородить Упу большой плотиной и затопить город.
Согнали под Тулу людей. Начались строительные работы.
Растет, растет плотина.
Довольны воеводы. Доволен Шуйский.
Готова плотина. Перегородила она Упу. Поднимается вода в Упе. Заливает луга и пашни, подбирается к улицам города.
Довольны воеводы. Доволен Шуйский.
Разливается. Разливается вода все шире. Хлынула в город.
Довольны воеводы. Доволен Шуйский.
Страшным бедствием явилась вода для Тулы. Затопила она все кругом: дома, склады, амбары, конюшни, сараи. Погибли продовольственные припасы, промокла мука, отсырела, растворилась в воде соль.
Пришлось Болотникову и «царевичу Петру» пойти на переговоры с Шуйским.
Они соглашались сдать город, но ставили условие, чтобы всем осажденным в Туле была сохранена жизнь.
Василий Шуйский согласился. Он старался побыстрее взять Тулу, так как к осажденным спешили новые отряды восставших.
Поклялся Шуйский выполнить точно условия Болотникова и «царевича Петра» – всем восставшим сохранить жизнь. Даже крест поцеловал.
– Крест поцеловал! Крест поцеловал! – разнеслось по Туле.
Открыли восставшие царским войскам ворота.
Вода кругамиНе сдержал клятву Василий Шуйский. Хоть и распустил он по домам многих из тех, кто оборонялся в Туле. Однако и Иван Болотников, и «царевич Петр», и другие предводители восстания были взяты под стражу.
Но царь Шуйский не стал с ними расправляться сразу. Не торопился. Не хотел вызывать волну нового возмущения.
Четыре месяца после сдачи Тулы прожил «царевич Петр». Ждал своей участи. И вот приговор:
– Повесить!
Повесили «царевича Петра» – самозванца из Мурома Илейку Коровина.
Болотников же был отправлен далеко от Тулы, далеко от Москвы.
Дорога его шла на север. Болотникова везли через Ярославль, через Вологду. Потом на Белое озеро, мимо Кирилло-Белозерского монастыря. Дальше места и вовсе пошли глухие. Озеро Воже. Озеро Лача. Река Онега.
Привезли Болотникова в город Каргополь. Топи кругом бездонные. Леса – дремучие, непроходимые.
Ехал Болотников, о прошлом думал. Поносила его судьба по свету. Был он в Турции. Был он в Венгрии. Был в Польше. В Италии. Последний приют – в Каргополе.
Бился с барами он, с воеводами. Чуть-чуть – и Москву бы взял. А нынче закончит свой век на холодном севере.
Недолго здесь прожил Иван Болотников.
– Ослепили! Ослепили! – вскоре прошел по городу слух.
Действительно, Болотникову выкололи глаза.
А затем и вовсе страшная новость:
– Ивашка посажен в воду!
По приказу царя Василия Шуйского Болотникова утопили.
Сошлась вода кругами над местом казни. Жил человек, и – нет.
Не кончалось жестокое время. Сила ломила силу. Лютость по русской земле ходила.
Глава четвертая
Лжедмитрий II
В глазах рябитНе убывает в России число самозванцев. Наоборот – растет.
Не успели казнить «царевича Петра», как тут же появился новый царевич Петр. Мол, жив, здоров, а казнен вовсе не он. Не его повесили.
Потом в далекой Астрахани возник вдруг «царевич Август», потом «царевич Лаврентий», затем «царевич Федор». И пошло, и пошло, и поехало…
Хромоногая Соломанида – старуха-всезнайка – ходила по селам, клюкой стучала. Новых царевичей называла.
– Объявился царевич Клементий, – сообщала старуха Соломанида и добавляла: – Настоящий!
Через какое-то время:
– Объявился царевич Савелий, – и добавляла: – Настоящий.
Еще через какое-то время:
– Объявился царевич Семен, – несла Соломанида новое имя. И опять прибавляла: – Настоящий!
Потом пошли:
«царевич Василий»,
«царевич Ерошка»,
«царевич Гаврилка»,
«царевич Мартынка».
И все – настоящие, о каждом твердила хромоногая Соломанида.
Сбились люди с толку. Сколько же их, царевичей, – прямо в глазах рябит!
Все самозванцы называли себя детьми или внуками царя Ивана Васильевича Грозного.
У каждого из них находились свои сторонники. Возникли при каждом вооруженные отряды.
Хотя и было много разных иных «царевичей», однако оставалось по-прежнему притягательным для всех имя царевича Дмитрия.
Лжедмитрий – московский дворянин Михаил Молчанов, который после убийства Григория Отрепьева оказался в Самборе, вскоре отошел от борьбы за московский трон. Однако все ждали нового Дмитрия.
Ждали.
Ждали.
И он появился.
– Царевич Дмитрий, царь Дмитрий объявился! – торопилась с новой вестью хромоногая Соломанида. Ходила по селам, клюкой стучала:
– Воистину он настоящий!
Дождались!Город Пропойск. Белая Русь. Появился однажды в Пропойске странный человек.
Решили стражники, что это какой-то лазутчик. Схватили его, посадили в тюрьму.
В тюрьме человек заявил, что он – Андрей Нагой, родственник убитого в Москве царя Дмитрия. Человек стал требовать, чтобы его отправили в город Стародуб.
Решили в Пропойске с ним не связываться. Отправили в Стародуб.
Прибыл человек в Стародуб и тут тоже заявил, что он – Андрей Нагой, родственник бывшего царя. А вслед за этим сообщил и еще одно:
– Царь Дмитрий жив!
– Жив?!
– Жив! Жив! – подтвердил человек. И у тише, доверительно: – Царь находится отсюда недалеко.
– Царь Дмитрий жив! Царь – недалеко, – передавалось по Стародубу.
Прошло какое-то время. Жители Стародуба к человеку с вопросом:
– Так где же царь?!
– Недалеко, недалеко, – повторил Андрей Нагой.
Прошло еще какое-то время.
– Так где же царь Дмитрий?!
– Совсем недалеко.
И вот однажды услышали жители Стародуба от Андрея Нагого:
– Вот он царь!
– Где? Где?
– Вот он, – повторил Нагой и показал на себя.
Глянули люди. Действительно схож. И роста такого же невысокого, и телосложением вроде одинаков.
– Вот он, ваш царь, – повторил Нагой.
Тут же прошла молва: мол, царь Дмитрий принял имя Андрея Нагого, так как опасался преследования, скрывался от Василия Шуйского.
Скрывался. И вот – открылся.
Ждали люди доброго царя Дмитрия. Дождались.
Пали стародубцы на колени.
– Царь! Царь! – голосили люди.
«Резвые люди»«Резвые люди» – так называли ратников, из которых создавались передовые, самые надежные отряды. Были подобные отряды и в войсках у Василия Шуйского.
Самозванец, объявившийся в Стародубе, увлек людей.
Вновь пошли голоса:
– Надо идти на Москву!
– Гнать Шуйского!
– Да здравствует царь Дмитрий!
Лжедмитрий II – такое имя в истории получил стародубский самозванец – принял решение идти на Москву.
Повстанцы взяли город Почеп. Стали угрожать Брянску.
Навстречу восставшим царь Василий Шуйский послал войска.
– «Резвых людей» берите. «Резвых», – напутствовал Шуйский.
Одобряют решение царя московские жители. Говорят об отрядах «резвых людей»:
– На то они и резвые. На то они и самые надежные. Быстро покончат с вором.
Двинулись отряды Шуйского к югу – к Брянску и Стародубу.
Двинулись отряды Лжедмитрия II к северу – к Брянску и Туле.
Интересуется Шуйский:
– Как там «резвые люди»?
– Идут, идут. Еще немного – и вора в полон возьмут.
После Почепа повстанцы взяли город Брянск.
Повышает голос Василий Шуйский:
– Как там «резвые люди»?
– Идут, идут. Еще немного – и вора в полон возьмут.
Движется время. Взяли повстанцы после Брянска город Карачев.
Возмущается Шуйский:
– Как там «резвые люди»?!
– Идут, идут. Еще немного – и вора в полон возьмут.
Движется время. Взяли восставшие город Козельск.
Негодует Василий Шуйский:
– Как там «резвые люди»?!
– Идут, идут. Еще немного – и вора схватят.
Однако не схватили царские люди нового самозванца. Не взяли захваченные Лжедмитрием II города.
Мало того, изменили «резвые люди» Шуйскому. Как и многие другие, перешли к повстанцам.
Доложили царю Василию о переходе «резвых людей» к самозванцу.
Процедил сквозь зубы Василий Шуйский:
– Вижу, что они и впрямь люди резвые.
«Из грязи в князи»Идет Лжедмитрий II к Москве. Призывает самозванец всех перейти на свою сторону: и бояр, и князей, и простых людей. Всем обещает награды.
– Царь повелел!
– Царь повелел!
Вот что приказал Лжедмитрий II. Любой холоп, если он готов сражаться за самозванца, может получить земли и поместье своего господина, если этот господин остался на стороне Василия Шуйского.
Мардарий Клешня был холопом князя Щербатова. Щербатов как раз из тех, кто остался по-прежнему верен Шуйскому, кто отказался принять клятву верности новому Лжедмитрию.
Примчался Мардарий Клешня к самозванцу:
– В верной службе тебе клянусь! За тебя, государь, молюсь! Смерть Василию Шуйскому!
Донес Клешня Лжедмитрию о князе Щербатове. Принял самозванец Мардария Клешню в свои войска. Отняли у князя Щербатова дом и землю. Передали Мардарию.
Вот чудеса какие. Был Мардарий Клешня никем, ничем. А ныне – «из грязи в князи».
А вскоре был схвачен и сам Щербатов. Был он отдан в холопы Мардарию Клешне.
Вот чудеса какие!
Не только поместья и земли отнимал Лжедмитрий II у бояр и князей, не перешедших на его сторону.
– Царь повелел!
– Царь повелел!
Что же еще повелел Лжедмитрий II?
Разрешил он любому из своих сподвижников насильно брать себе в жены дочерей попавших в немилость к нему князей и бояр.
Не перешел на сторону Лжедмитрия, остался верен царю Василию Шуйскому боярин Семен Белозерский. Была у боярина дочь – красавица из красавиц. Звали ее Оксаньица.
Был и холоп у Белозерского. Лентяй из лентяев. Звали его Феодосий Рыбка.
Донес Феодосий Рыбка на своего господина. Боярину удалось бежать, однако Оксаньица была схвачена.
Примчался Рыбка к Лжедмитрию:
– В верной службе тебе клянусь! За тебя, государь, молюсь! Смерть Василию Шуйскому!
И сразу:
– Отдай, государь, мне в жены Оксаньицу!
– Бери, – распорядился Лжедмитрий.
Вот чудеса какие. Был Феодосий Рыбка ничем, никем. А ныне – в родстве боярском.
Все поменялось на белом свете. Смутное время. Шаткое время. То плюс, то минус, то плюс, то минус. Жизнь у многих, как сук, ломается. Словно на качелях судьба качается.
Тушинский лагерьЧерез Козельск, Калугу, Можайск, Звенигород Лжедмитрий II пришел к Москве. Хотел он с ходу в нее ворваться. Однако войска Василия Шуйского удержали город.
Остановился самозванец огромным лагерем у села Тушино. Место удобное. Рядом река Москва. Рядом река Сходня.
В деревеньке, что находилась недалеко от Тушина, жили дружки-приятели Порошка Вершок и Семейка Глухов. Бегали они к Сходне, к Москве-реке, шатались по тушинскому лагерю, по сторонам глазели.
– Вот бы царя увидеть!
Увидели они самозванца.
Разочаровались ребята.
– Не высок, – произнес Порошка.
– Костляв, – произнес Семейка.
Тушинский лагерь начал отстраиваться.
– Вал насыпают, – как-то сказал Порошка.
– Вал, – согласился Семейка.
Потом привезли бревна.
– Частокол будут ставить, – сказал Порошка.
– Поверх вала, – уточнил Семейка.
И верно. Стал подыматься вокруг лагеря частокол.
Потом принес Порошка еще одну новость:
– Башни возводят.
Новость принес и Семейка:
– Ворота ставят.
Построены башни. Стоят ворота.
Вначале люди в лагере жили в простых палатках. Ночевали воины на телегах. Много телег собралось.
– Сотни их, – уверяет Порошка.
– Тысячи, тысячи! – кричит Семейка.
Верно, в тушинском лагере собралось несколько тысяч телег.
Приходят в Тушино все новые и новые боевые отряды. Порошка и Семейка и тут не без дела. Определяют, из кого состоят отряды.
То скажут:
– Ратники прибыли.
То скажут:
– Прибыли запорожские казаки.
– Низовые люди идут! Низовые люди! – кричит Порошка. Это значит – прибыли отряды из беглых холопов.
А вот и еще:
– Поляки прибыли!
– Литва прибыла!
Были в тушинском лагере и польские отряды. Были и отряды литовских воинов. Пригласил их к себе Лжедмитрий II как наемников. Обещал за помощь большие награды.
К осени в лагере стали рыть землянки. Стали ставить избы. Понадобились лес и бревна.
Прибегают как-то из лагеря к себе в деревню домой Порошка и Семейка. Холод стоит на улице. Вот сейчас в избах они отогреются.
Смотрят, а где же избы?! Нет их на привычном месте.
Посмотрели налево, направо. Нет и соседних домов. Исчезли.
Оказывается, нагрянули в село воины из тушинского лагеря. Разобрали крестьянские дома на бревна. Унесли их для строительных нужд в Тушино.
Растет, расширяется тушинский лагерь.
В город, чуть ли не в столицу новую превращается.
Снова Марина МнишекНедолго пробыла в Ярославле Марина Мнишек. Вскоре отпустили ее домой в Польшу.
Уезжала Марина вместе со своим отцом, воеводой Юрием Мнишеком.
Бегут кони. Бежит дорога. Дремлет в богатом возке старый Мнишек. Тысяча воинов сопровождает бывшую русскую царицу.
Прощай, Россия!
Узнал Лжедмитрий II, что Марина Мнишек покидает Россию.
– Догнать! Перехватить! Законная жена уезжает.
Бросились конные.
Уезжает возок.
Торопятся конные.
Уезжает возок.
Торопятся конные.
Догнали посыльные из Тушина Марину Мнишек и ее отца, поклонились:
– Государыня, вас законный муж, царь Дмитрий ожидает.
Подумал старый Мнишек, подумала Марина Мнишек. Согласились повернуть лошадей. Едут к Москве, в Тушино.
Уверена Марина Мнишек, что ее муж, то есть Лжедмитрий I, погиб. И все же… А вдруг!
Решила она на нового самозванца посмотреть. Встретились. Глянула. Ясно Марине: не тот.
Не осталась она в Тушине. Просила отвезти ее вместе с отцом в Звенигород.
Однако не закончилось этим дело.
Ездят из Тушина в Звенигород посыльные.
Ездят из Звенигорода в Тушино посыльные.
Ведутся между старым Мнишеком и приближенными Лжедмитрия II важные переговоры.
Настаивает Лжедмитрий II, чтобы Марина Мнишек признала в нем своего мужа. Важно это для самозванца. Хочет он всем доказать, что он настоящий Дмитрий.
Жаден был от природы самборский воевода Юрий Мнишек. На подарки и деньги падок.
Уговорили вскоре его тушинские посланцы. Пообещали 300 тысяч рублей и 14 русских городов в придачу, если он признает законным мужем Марины нового Лжедмитрия.
Признал его воевода.
– Зять он мой, – заявил Юрий Мнишек.
Признала после этого и Марина Мнишек Лжедмитрия II своим мужем. Переехала в Тушино. Специальный терем-дворец для нее построили.
Плохи дела у ШуйскогоПотянулись за Лжедмитрием II русские села и города.
– Настоящий он! Настоящий! Царица Марина его признала!
Неспокойно в городе Суздале:
– Вы за кого?
– За Дмитрия.
Плохи дела у Шуйского.
Неспокойно в городе Владимире.
– Вы за кого?
– За Дмитрия.
Плохи дела у Шуйского.
Неспокойно в городе Тотьме.
– Вы за кого?
– За Дмитрия.
Плохи дела у Шуйского.
Неспокойно во многих других городах и селах. Признали тушинского самозванца Ярославль, Вологда, Ростов Великий, многие другие города.
Однако Москва держалась. Держался и Шуйский, хотя и в Москве было немало недовольных царем Василием Шуйским. Были попытки его сместить. Были попытки его убить. Возникали заговоры.
Как-то явилась к Шуйскому группа бояр и лучших московских людей. [1]1
Лучшие люди – привилегированные слои населения.
[Закрыть]Было это в 1609 году, в субботу на масленицу.
– Отрекайся!
– Не отрекусь! – заявляет Шуйский.
– Убьем!
– Убивайте!
Не решились заговорщики на злое дело. Отступили.
В том же 1609 году и опять в церковный праздник в Вербное воскресенье против Шуйского снова был устроен заговор. Возглавлял его боярин Крюк-Колычев. На сей раз было решено убить Шуйского. Однако донесли верные люди о боярском плане царю. Провалился заговор. Не выдал Крюк-Колычев своих сообщников. Казнили боярина. Разыскивать других не стали. Так распорядился Шуйский. Решил не наживать новых врагов.
Потом была еще одна попытка убить царя. И тоже в церковный праздник – на Вознесеньев день. И еще один заговор – на день Николин.
Однако, видимо, под счастливой звездой появился на свет царь Василий.
Устоял, уцелел, удержался в те дни на троне Василий Шуйский.
ЗнаменитВместе с Лжедмитрием II в Россию пришли вооруженные отряды из Речи Посполитой. Были отряды польские, были литовские, были смешанные. Одним из наиболее известных польских военных начальников той поры был воевода Ян Сапега. Несколько побед одержал Ян Сапега над войсками Василия Шуйского. Думал без особого труда взять и Троице-Сергиев монастырь.
Троице-Сергиев монастырь – святое для русских место.
Заносчив Сапега. Подумаешь – монастырь! Подумаешь – монахи! В атаку! Вперед! Виват! И монастырь наш.
Однако ошибся Сапега. Троице-Сергиев монастырь был построен на возвышенном месте. Монастырские стены толстые. Башни высокие. Решили монахи свою обитель оборонять. На помощь монахам пришли русские ратные люди.
Началась длительная осада поляками Троице-Сергиева монастыря.
За стенами монастыря, помимо монахов и русских воинов, укрылось много простых людей. Были здесь женщины. Были и дети. Среди детей – девочка. Звали ее Аксютой. Девочка маленькая-маленькая. Как стебелек, как травинка в открытом поле.
Хочется Аксюте чем-то помочь взрослым. То она тут, то она там. То пристроится к тем, кто таскает к воротам бревна. Тянется к бревнам, тянется. Мала. Не дотянется. То окажется среди тех, кто укрепляет камнями стены. Пыжится, пыжится. Не получается и с камнями. Нет у Аксюты силы.
Нашли ей работу взрослые:
– Богу молись, Аксюта.
Стала Аксюта молиться Богу:
– Боженька, помоги!
Атакуют, атакуют поляки монастырские стены. Молится, молится кроха Аксюта:
– Боженька, помоги!
Тридцать тысяч воинов у Сапеги. Однако не может воевода Ян Сапега взять Троице-Сергиев монастырь. Обратился к его защитникам. Предлагает добровольно открыть ворота. Обещает жизнь и свободу каждому.
Не сдаются защитники монастыря.
Вновь обращается Ян Сапега. Обещает награды царские.
Не сдаются защитники монастыря.
Осень прошла. Наступила зима. Все хуже и хуже положение у осажденных.
Голодно. Холодно в монастыре.
Штурмует Сапега монастырские стены. Грозно стучит в ворота.
Молится, молится маленькая Аксюта:
– Боженька, помоги!
Не только Аксюта. Многие молятся.
И вот свершилось чудо. Явилась в людях тройная сила. Устояли они в боях. Не осилил Сапега Троице-Сергиев монастырь. Отошел тихо, без шума, кошачьим шагом.
Стал монастырь знаменит. Он и ныне на русской земле стоит.








