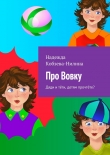Текст книги "Уроки правнука Вовки"
Автор книги: Сергей Залыгин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Фонари? Они мне не мешают. Они мафиози мешают, и то не очень.
– Это я и без тебя знаю, что не мешают. Я тебя не об этом спрашиваю, я спрашиваю: ты фонари на улицах бил? Приходилось или не приходилось?
– Что-то толком не припомню, детка. Может, и приходилось. Ручаться, во всяком случае, не могу.
– Ну вот, а тогда было так: половина населения России била фонари, другая половина эти фонари защищала. Дескать, зачем? Они еще пригодятся, еще посветят. А устареют – сами погаснут. Без битья. И получилась Гражданская война, долгая получилась, больше четырех лет. Жестокостей всяческих было! Террора было!
– Как сейчас?
– Вроде того. Во всяком случае, очень похоже. И как сейчас, война между теми и другими называлась политикой. Плохое слово!
– Это – точно! Мы у себя в классе постановили: политикой не заниматься! Чем угодно, только не политикой.
– Чем угодно – тоже нехорошо.
– Лучше, чем политика. Все равно лучше!
– Говорю же: кровищи было! Террор был жуткий!
– А это всем известно. Как есть всем. И вовсе незачем это повторять и повторять!
– Малыши – не знают.
– Все знают, все! – подтвердил Вовка. – Именно потому, что это вроде как сейчас.
– Похоже. Согласен – похоже! – кивнул Юрий Юрьевич. – Но, представь себе, время прошло, многие десятилетия, когда Гражданская война воспевалась на все лады, на все голоса, – и вдруг появляются люди, писатели появляются, которые сказали: нет и нет! Человеческий порядок хоть и через многие десятилетия, а должен быть восстановлен: пушкинские и толстовские времена должны быть не то чтобы восстановлены, нет, что было – то прошло, но проводить прошлое надо с великим сочувствием, с пониманием. По-толстовски проводить. А для этого, как ты думаешь, кто нужен? Какие люди?
– Ну, старцы какие-нибудь. С бородой, как у Толстого.
– А вот ничего подобного! Это сделали писатели. Молодые, лет сорока, того меньше. Оказалось, что то окровавленное, на помойку выброшенное прошлое чудом каким-то в них проявилось, оно жило в них даже сильнее, чем их собственное настоящее. Оно восстановилось в них во всем своем свете, по-другому сказать – во всем том самом-самом хорошем и человеческом, что когда-то было. Было и ушло. Такими писателями оказались Василий Белов, Федор Абрамов, Валентин Распутин. И другие были, но эти – прежде всего. Валентин Распутин, так тот ни много ни мало, а Толстого прямо-таки продолжил. Для этого надо быть гениальным. На мой взгляд, Распутин такой и есть.
– А так может быть?
– Может! Распутин для своего толстовства бороду не отращивал, он по-другому сделал: он нашел людей, которые даже и не читая Толстого все равно его знали как бы даже наизусть. И не только знали, но во всей своей жизни, в совершенно новые времена все равно Толстым руководствовались, дух его исповедовали.
– И что же это были за люди такие?
– А это были старушки деревенские. Старуха Анна в повести "Последний срок" и старуха Дарья в другой повести – "Прощание с Матёрой".
– Что такое? Матерное что-нибудь?
– Дурак! – не выдержал Юрий Юрьевич. – Дурак и есть! Матёра – это остров на реке Ангаре. Которая из Байкала вытекает. На Ангаре ГЭС строили и Матёру водой затапливали, а там деревня была под тем же названием – Матёра! В деревне люди жили. Бабуся Дарья жила. Дуб стоял высокий-высокий, либо кедр – забыл уже, но как сейчас помню: его какие-то пришлые люди спилили. Чтобы не мешал пароходам по будущему водохранилищу плавать. И все это, вся Матёра, она как бы стала прощанием с тем, с толстовским, прошлым. С тем, которое и до Толстого было, но Лев-то Николаевич носил его в себе и войну тысяча восемьсот двенадцатого года в романе "Война и мир" описал. А вот Распутин тот, ушедший вместе с Толстым, мир провожал спустя годы и годы. И гениально проводил. По-человечески. Я даже не представляю себе, что Распутин не на бумаге, а в самом-то себе при том прощании должен был пережить. Что?
– А мне вот понятно: он элемент совести пережил! Только вот зачем это нужно – представлять себе, что в каждом человеке внутри его делается? Я лично доволен, что не представляю, как там внутри у тебя. И хорошо, и правильно делаю. Я каждого человека своими собственными глазами вижу, и мне этого достаточно. По горло! Людей слишком много, чтобы в каждом копаться, вот в чем все дело-то... Ну а старуха Анна? Она – что?
– Старуха Анна умирала, и смерть человеческую Распутин показал сильнее, даже более мудро, чем сам Лев Толстой. Так мне кажется. У Толстого – смерть, ну, скажем, Ивана Ильича, а у Распутина – смерть времени, большой-большой эпохи.
– Старуха умрет – и весь белый свет кончится? Так ты хочешь сказать?
– Не кончится, нет. Он продолжится, но уже в другом качестве. В совершенно другом. В том, в котором живут ее, Анны, дети. Дети приехали попрощаться с умирающей матерью, и каждый из них представляет собой то ли, иное ли качество нового времени. Незавидные качества новой России. Нет, незавидные качества, скажу я тебе, Вовка. Мне бы вот тоже хотелось помереть, как старуха Анна помирала, это любимый, самый близкий мне персонаж. Но вряд ли удастся...
– А что мешает? Как хочешь, так и помирай. И к тебе твои дети придут проститься. И внуки. И даже я – правнук. Честное слово, приду! Не веришь?
– Не очень верю. Вот так. Прийти-то вы, может, и в самом деле придете, а я-то? Я-то кто такой? Мне со старухой Анной не сравняться! Она знала, из какого она времени уходит, а я не знаю: слишком много самых разных времен пережил. Самых разных.
– А тебе, детка, видать, хочется, чтобы тебя проводил какой-нибудь Валентин Распутин. Найдется такой?
– Такого – нет, не найдется... что-нибудь вроде такого...
– Вижу, детка, гляжу на твою личность и вижу: ты приуныл. Напрасно. Ты смотри в будущее с надеждой – и на тебя найдется какой-никакой Распутин, и о тебе напишет прощальное письмо. Кто-нибудь да скажет "аминь".
– Распутина Валентина не найдется – это я точно знаю!
– Даже если и так, все равно надо оптимистически воспринимать; какой-никакой чудак, а найдется... Какой-нибудь чудик...
Помолчали...
– Вот что, детка! – и еще сказал Вовка. – Я знаю, сейчас ты подашься в какие-нибудь философии, уже подался. Теперь я узнал также, что в повестях Распутина имеются элементы совести. И все равно мне срочно необходимо к Мишке сходить. Надо обязательно. Он к тому же Сергеевич, а фамилия у него Горбатенко. Вот мы ему и говорим: "Быть тебе, Мишка, Михаилом Сергеевичем, то есть лысым. Сам не полысеешь – мы тебе поможем". Ха-ха! Обязательно поможем! Ха-ха!
* * *
Вовка убежал, Юрий Юрьевич стал думать о себе и о своем уроке. Самокритично стал думать.
Во-первых, он на этом занятии назвал Вовку дураком. Хотя Вовка и отнесся к этому с полным безразличием, но все равно – как это можно было себе позволить?! Позволить учителю?
Во-вторых, Юрий Юрьевич и в самом деле ударился в недозволительную в этом случае философию. Он сидел и разговаривал с Вовкой так, как будто против него сидел он сам, Юрий Юрьевич, и он сам себя убеждал в том, в чем давным-давно был убежден. Разве это урок?
В-третьих, еще была какая-то нелепость. Была, присутствовала, хотя назвать ее Юрий Юрьевич не мог. Он ее допустил, и он же – не мог назвать... Что-то такое вообще...
Можно было бы и соснуть часок-другой, покуда Вовки нет дома, Юрий Юрьевич уже и к подушке прислонился, он любил соснуть днем, тем более день был выходным, но что-то не спалось.
Он, покуда объяснял Вовке смену эпох и времен – про старуху Анну объяснял и про старуху Дарью, – сильно разволновался. Вовке – как об стенку горох, а ему, старику, нет, его собственные объяснения касались его непосредственно. В самом деле обидно: его-то никто не проводит как следует, никто. И детям, и внукам, и правнуку – всем-всем некогда, всем куда-то скорей-скорей, а Распутина Валентина на него не найдется, не может найтись: что о нем можно написать, если он сам себя не знает? И потребности такой быть вполне определенным, что-то общее из своего времени в себе одном хранить – у него никогда не было. Он и коммунизм хранил, потому что так ему велели, а перестали велеть – он хранить не стал. "Ну если мы такие хорошие, такие за нами мировые дела, такое духовное прошлое, почему же мы так плохо, так неустроенно живем? Так бесчестно?" – думал он.
* * *
Вот и Вовка, как только пришел жить к Юрию Юрьевичу, первое он что сделал? Первым делом он спросил, сколько на его прокорм родители оставили Юрию Юрьевичу. Спросил и пояснил: "Мне карманные деньги крайне нужны. Без денег ни один нормальный человек нынче не живет! – снова и снова вспоминал Юрий Юрьевич тот потрясший его разговор. – Имей в виду: если не дашь – я все равно каким-нибудь путем деньги достану".
– Это какой же у тебя будет путь? – спросил тогда Юрий Юрьевич. И услышал:
– Мало ли какой... Мало ли... Самое простое – взять в долг. Под возвращение родителей. Родители приедут, я им по всей форме доложу: должен! Ну а они уж как хотят пусть выкручиваются. Им вовремя нужно было думать, а не ставить меня в немыслимое положение. Они – не дети. Должны по-взрослому соображать.
– Вот что, Вовка! У нас занятие, у нас урок, мы договорились. Договорились – значит, сиди и слушай, не хлопай ушами.
– Я не хлопаю.
– А я не слепой. Я вижу.
– А я вижу, что ты ничего не видишь, интеллигент... "Гении, гении"! Какой мне толк от гениев? Мне лично? Если их на десять миллионов один – им и самим-то нечего делать на этом свете. Разве что всё те же деньги делать? Если умеют.
Вот какого потомка воспитывали Вовкины родители. Они чтили запланированную дочку Людочку, а к незапланированному Вовке относились как к недоразумению. Вовка точно так же, и даже точнее, относился к родителям. Заодно и к прадеду.
В то же время Юрий Юрьевич думал: а все-таки покуда Валентин Распутин живет, почему бы и ему, старику, не пожить еще? Не подождать, что еще Валентин напишет?
* * *
– Чингисхан – это значит "могучий хан", – начал свой урок по истории Юрий Юрьевич. (Тема – монголо-татарское иго.) – Между прочим, настоящее имя "могучего" было Темучин, это уже позже ему дали такое наименование. Он родился в тысяча сто шестидесятом году, но это примерно, а вот год его смерти известен точно: тысяча двести двадцать седьмой. В русских дореволюционных учебниках о нем говорилось, что он – величайший завоеватель всех времен и народов.
Вовка сидел за кухонным столом маленький-маленький, усердно ковырял в носу, а на Юрия Юрьевича смотрел с некоторым сожалением, если уж не с презрением.
Вот так: Юрий Юрьевич Вовке – о величайших в истории человечества событиях, о потрясающей судьбе России и других народов, а Вовка "козу" из носа тащит.
Может быть, великие трагедии потому и происходят и никогда не кончаются, что малыши плюют на историю? Плюют на нее и когда подрастают?
Юрий Юрьевич к уроку покуда готовился, много чего пережил, о многом подумал, многое перечувствовал, а Вовка ничего не переживает, ничего по этому поводу не думает и ровным счетом ничего не чувствует.
Нехороший, неприятный разрыв, нехорошее, неприятное разноязычие.
– Чингисхан, он мало того что сам воевал, он династию завоевателей основал, его внук Батый воевал Россию и надолго погрузил ее в рабство. Это рабство, Вовка, сказывается в нас и нынче.
Вовка "козу" из носа вытащил, внимательно рассмотрел ее и сбросил под стол.
"Такова учительская доля!" – подумал Юрий Юрьевич, не оставляя, однако, попыток приобщить Вовку к великой трагедии.
– Династия Чингисхана, его сыновья, внуки и правнуки, завоевывали все новые и новые страны, присоединив к своей империи все тюркские, все татарские и почти все славянские народы...
– А этим-то чего надо было? – зевнув, спросил Вовка.
– Кому? – не понял Юрий Юрьевич.
– Ну, этим, как их, детям, внукам и правнукам? Сделал для них предок хорошее дело, подарок им сделал, ну и сидели бы. Жили бы и радовались. Нет, им все мало, все мало... Правда, что история – это глупая вещь. Только и делает, что учит глупостям.
– Ты слушай, Вовка. Слушай и не перебивай. Комментировать историю позже будешь.
– Когда позже?
– Ну, когда ее выучишь...
– Странно... – пожал плечами Вовка. – Ну ладно, я тебя слушаю...
– Несмотря на Великую Китайскую стену, монголы взяли Пекин, потом пошли на запад, разрушили очень мощное государство Хорезм. Это в Средней Азии. Это было очень культурное государство, оно возникло в шестом-седьмом веке до нашей эры, там были прекрасные оросительные системы и высокопроизводительное земледелие. Были развиты искусства, но под игом монголов многое погибло.
Юрий Юрьевич развернул на столе географическую карту, специально для этого урока приготовленную, и показал примерные границы государства Хорезм.
Вовка посмотрел на карту, потом на Юрия Юрьевича, вздохнул и сказал:
– Ничего не скажешь – порядочно. Значит, было – и не стало. Значит, как корова языком слизнула...
– Но этого мало, какое там! Монголы обогнули Каспийское море с юга, ну вот тут, где в настоящее время находится Иран, и заняли Закавказье. Потом вышли в заволжские степи и разбили печенегов, которые тоже были мощным племенем, но до этого их разбил великий князь Киевский, князь Ярослав Мудрый. В конце концов печенеги отошли в Венгрию. Вот она, Венгрия-то, где, на каком на западе!
– Далековато проскакали. Им, наверное, в Лондон хотелось.
– В Лондон? Там же пролив. Пролив Ла-Манш.
– Ну, о Ла-Манше они могли и не знать. А подъехали бы к берегу и свернули бы на Париж. Далее – на Мадрид.
Об исторических событиях Вовка и всегда-то имел привычку говорить насмешливо и как бы между прочим. Юрия Юрьевича это страшно раздражало. Иногда, сказать по совести, просто бесило, но он и на этот раз сдержался, помолчал минутку, взял себя в руки и решил сказать по поводу монгольского вторжения в Европу что-нибудь живописное, что-нибудь для Вовки увлекательное. Он подумал и сказал так:
– Нет, ты только представь себе, в армии монголов было шестьсот тысяч всадников! Это и по нынешним временам уму непостижимо – шестьсот тысяч! Монголы были кочевниками, кочевали по степям, жили в кибитках, пасли, перегоняли с места на место огромные-преогромные табуны овец и лошадей. Им такой поход был не в диковинку. Им, а больше никому на свете он не удался бы.
– Уж это – как пить дать... – согласился Вовка.
– Теперь дальше: каждый монгольский всадник вел в поводу еще двух-трех лошадей и менял их на ходу. Пересаживался, чтобы под его тяжестью лошадь слишком не уставала. Поход-то продолжался от зари до зари и все время рысью, рысью.
– Да хоть бы и десять лошадей у каждого, я все равно им не завидую...
– Теперь прикинь: если у каждого всадника – три лошади, значит, всего в армии был один миллион восемьсот тысяч, считай – два миллиона лошадей.
– Считаю... Получается – ты, детка, прав.
– Когда армия монголов проходила по местности, за ней оставался след пустыни: два миллиона лошадей – это ведь восемь миллионов копыт!
– Ты, детка, все-таки здорово соображаешь: так и есть, восемь миллионов. Восемь – все растопчут. Восемь – камни перемолотят. Вот пылищи-то было!
– Ага, значит, ты себе представил, что это такое!
– У меня развитое воображение. Достаточно развитое. Мне учитель географии именно так и говорил.
Юрий Юрьевич продолжил свою живопись:
– Монголы были страшно жестоки, все живое уничтожали на пути, но жестоки они были и к самим себе. В их армии существовал порядок: самой малой частью считался десяток всадников, десять десятков составляло сотню, десять сотен – тысячу, потом десять тысяч. Десятью тысячами командовал уже бо-ольшой начальник, по-нашему – генерал.
– Все может быть! – согласился Вовка. – Может быть, что и не просто генерал, а, скажем, генерал-лейтенант...
Теперь уже Юрий Юрьевич согласился с Вовкой:
– Все может быть, – и продолжил свой рассказ: – Так вот, если один монгольский воин бежал с поля боя, тогда казнили смертью весь десяток, а если бежал десяток – казнили сотню.
Тут Вовка заинтересовался:
– А если тысяча бежала? Если бежало десять тысяч? Тогда?
– Тогда... тогда я что-то не знаю.
– Ну вот! Не знаешь! То-то и оно! Если бежит один – за него казнят десятерых, а если бежит десять тысяч – за это никого. Командующий десятью тысячами остается жив-живехонек и, я думаю, даже не лишается генеральского звания. Такой порядок, он на все времена и у всех народов. До тебя дошло?
– Кажется, дошло...
– До историка обязательно должно дойти.
Несколько сникнув, Юрий Юрьевич не забыл все же своего намерения коснуться самого главного, ради чего он, собственно, и избрал тему монгольского ига на Руси.
– Теперь представь себе, Вовка, – заговорил он несколько иным, еще более трагическим тоном, – представь себе, каково было русским людям два и даже более века находиться под чужеземным игом, под игом государства гораздо менее культурного и гораздо более жестокого. Монгольские вассалы грабили русский народ, если те вовремя не платили дань, они уводили людей в рабство. Они приостановили процесс нормального развития славянства – одной из самых культурных наций того времени в Европе. Европа – это был земледельческий материк, а культура всегда начиналась от земли, от земледелия. При земледельце водится домашний скот, а кочевник – тот сам водится при скоте, его стада сегодня здесь, через неделю – за сто километров, а через месяц – за двести. Поэтому он и не создает архитектуру, живопись, а литература у него устная. У него нет театра, почти нет школ.
– Школ нет?
– И школ нет. Не было. А ты, поди-ка, и доволен?
– Как сказать. Начальные классы все-таки должны быть. Читать, писать, считать – это всё должны уметь все-все. А вот если дело доходит до всякой бодяги, откуда, например, взялась картошка или почему Батый пошел на древнюю Русь, – это все оч-чень сомнительно. Пусть все это, всю эту бодягу, изучают бодяжники, а тем, кому все это до лампочки, – им-то зачем навязывать? Вот тебе и твоя культура, твоя демократия! Ты их любишь-уважаешь, а они насильники вроде Чингисхана. Или хотя бы внука его, хана Батыя. Правильно я сказал – Батый?
– Сказал-то правильно... Но там кроме Батыя было еще много разных ханов... Хан Мамай, например. Хан Узбек – от него пошло название "Узбекистан", так я думаю. Все они были деспотами. Всем им культура была врагом.
– Думать можно обо всем на свете. Даже об истории. А у нас в классе тоже Мамай есть.
– Фамилия такая?
– Фамилия у него – Мамаев. А зовут Мамаем. Все зовут. Иной раз так и учитель скажет: "Мамай, к доске!" Ну уж тут мы похохочем так похохочем! Учитель сам не рад, а мы – ржем и ржем, ржем и ржем. Глядишь, минут десять прошло. А там, глядишь, и звонок.
– Не так уж и смешно.
– Конечно, не так.
– Тогда чего же вы ржете-то?
– Как – чего? Товарища выручить. Кому это охота к доске выходить? И вообще, чем скорее урок кончается, тем лучше.
– Зачем вы тогда в школу-то ходите?
– Не ходили бы, если бы знали, что это совершенно не нужно. Но раз уж без этого нельзя... От Чингисхана, от Батыя с Мамаем и Узбеком можно было в лес убежать, а от твоей культуры куда убежишь? Куда без диплома об окончании средней школы? И даже какого-никакого засраного института. Знаю я вас всех, культурников, – на краю света догоните.
– И в то же время ты предпочитаешь рабство Чингисхана? И не Россия тебе нужна, культурная и свободная, а чтобы ты был у кого-нибудь в рабстве и жил и думал как раб? Так это же – позор! Неужели не понимаешь – позор! Тебе дикость предпочтительнее? Вовка! Даже я о тебе так плохо не думал!
– Детка Юрий Юрьевич! Во-первых, я ничего не предпочитаю, по мне, как идет, так и идет. Лучше сказать – как шло, так и шло. Во-вторых, как ты обо мне думаешь – мне совершенно все равно. Думай как хочешь обо мне, я буду как я хочу – о тебе, это и есть настоящая свобода. А в-третьих... Как тебе сказать-то... Сказать нужно так: культурные люди – они что, разве не дикари? Если они всё знают про картошку, всё про Чингисхана и про Петра Первого, они уже не дикари? Чингисхан, тот имел восемь миллионов лошадиных копыт, а Клинтон, да и наш Ельцин тоже имеют ящички, в ящичках – кнопочки. Нажал один раз – и десятка, сотен миллионов людей как не бывало. Кто из них дичее-то? А?
Вот тебе и Вовка!
Юрий Юрьевич в недоумении спросил:
– Сам дошел? Или тебе объяснил кто?
– Всяко... Когда сам, а когда так в кружок к одному сектанту заглядывал, тот объективно говорил. Говорил, а не навязывал свои мысли. Три раза ходил на его беседы.
– И сейчас ходишь?
– Нет, это в прошлом. Сейчас не хожу. Некогда, культура заела, к тому же тот сектант ни с того ни с сего начал грубо нам навязываться, и мы, четверо мальчишек и одна девчонка из нашего же класса, совсем бросили к нему ходить. Свобода лучше. Ну их к черту, всех проповедников!
– А я, по-твоему, – кто? Тоже проповедник?
– Ну кто же ты еще-то? Сам подумай – кто? Впрочем, ты и сам не знаешь, кто ты есть.
– Нет! Я знаю: я инженер, я кандидат наук технических, я конструктор! Я пенсионер, а ты у меня – шестое поколение, которому я помогаю жить. Помогаю, как умею.
– Так вот я тебе скажу: ты лучше проповедуешь, чем наши учителя, но все равно – плохо... Впрочем, нам надо кончать... Мне к одному дружку необходимо сбегать. Я уже опаздываю. Если задержусь – значит, так надо.
– Подожди, Вовка. Ты уж не лидер ли в своем классе? По части всяческих пакостей? Лидер или нет? Если да – тогда зачем тебе?
Вовка задумался. Вовка крепко задумался, взвесил ответ и ответил:
– У меня поддержки нет. Настоящей. От тебя, что ли, дождешься? А родителям моим совершенно на меня наплевать. Отсюда и я: мне наплевать на них. Мы – каждый сам по себе. Ну вот. А чтобы быть лидером, обязательно должна быть поддержка. Вот у того же Мамая. У того же Вадика, который страдает – страдал уже – недержанием. У них родители созывают в свой дом мальчишек человек пять-шесть, хорошо их угощают и, того гляди, на "вы" с ними заговорят. То есть создают репутацию своему сынку. Поддерживают его, делают очень важный жест в сторону его лидерства. А – я? Я, можно сказать, беспризорник. Обо мне никто не заботится, никто не развивает во мне мои способности, перспективу лидерства. Но я не горюю, нет. Я думаю, что разовьюсь посильнее, чем Мамай: жизнь научит меня самому о себе заботиться. Уф! Вот ведь как высказался. Сам не думал, что смогу, – уф!
– А зачем тебе лидерство, Вовка? Зачем, объясни мне по-человечески?
– Зачем? Вопрос и в секте, которую я посещал, тоже возникал: зачем? Да затем, чтобы быть лидером. Чтобы не ты подчинялся, а тебе подчинялись люди твоего круга. Свой круг подчинил – тогда и шагай в круг следующий. Сектант нам проповедовал: это нехорошо! А я его слушал и думал: дурак! Вот теперь-то мне и объясни, дурак, для чего мне лидерство. Скажи мне, пожалуйста: вот, к примеру, в оркестре первая скрипка. Что – эта первая будет стараться, чтобы сделаться не первой? Спроси об этом даже и не у меня, мне ты не веришь, – найди первую скрипку и спроси у нее: зачем?
– А ты в концертах-то бывал ли?
– Раза два приходилось. Достаточно, чтобы увидеть первую скрипку... Один раз так я не очень и смотрел на оркестр, у меня поручение было. От родителей. Людка, видите ли, со своим каким-то хахалем отправились на концерт, а родители сказали: "Только втроем!" И послали с ними меня. А мне сказали: "Присматривай за ихним поведением!" Я и присматривал.
– Каким образом?
– Обыкновенным. Чтобы не очень-то жались друг к другу. Чтобы в ладоши хлопали, когда аплодисменты.
– Теперь, Вовка, скажи "уф!". Ну скажи, пожалуйста.
– А вот не скажу.
– Тогда я скажу. Знаешь, что потом с монголами случилось? Образовалось сильное маньчжурское государство, оно и Китай, и Монголию к себе присоединило. Часть монголов хотела уйти под власть России, но маньчжуры не позволили. И представь, стали монголы самым мирным, самым покладистым народом, пасли свои табуны, и только. Политикой не занимались. О завоеваниях и думать забыли.
– Правильно сделали. Почему бы и нынче многим-многим государствам так же не сделать? Завести побольше домашней скотины – и все дела! А то всем нужны свои Наполеоны, Сталины, Гитлеры – кто там еще-то? Всех не знаю! Всех сроду не запомнишь! Да и зачем стараться? В общем, мне некогда. Я сейчас ухожу, урок – в другой раз!
* * *
Юрий Юрьевич, оставшись один, так разволновался, так разволновался... Все в нем давно постарело, но способность к волнению – ничуть. Она стала чуть ли не больше. И даже – определенно больше! Вопреки общему состоянию организма.
Раскопал-таки Вовка "деткину" проблему: Юрий Юрьевич, прожив восемь десятков лет, не знал, кто он! Если бы умер лет в пятьдесят, он знал бы, каким человеком он умирает. А нынче вот не будет знать. Значит, тридцать с лишком годочков оказались для него лишними, он в них запутался. И теперь, как только мог, пытался об этих запутанных годах забыть. Не получалось. Не получалось забыть о всенародном и как бы даже праздничном энтузиазме стукачества, о ГУЛАГе, о преследованиях, ставших в его пору чем-то обычным, повседневным и вполне приемлемым. Посадили твоего давнего знакомого и друга – значит, так и нужно, неизбежно, по-другому быть не может.
Тот же Зюганов как Юрия Юрьевича нынче по ТВ уговаривает: "Забудь! Зачем тебе? Вот я же – забыл, и как мне стало вольготно! Какой я стал фигурой! А когда бы не забыл – никакой фигуры из меня не получилось бы, из моей партии не получилось бы! Ну? Сообразил?"
А Юрий Юрьевич был не в силах забыть. Он однажды понял и уже не способен был не понимать.
* * *
Во время войны Юрий Юрьевич плыл на пароходе "Карл Либкнехт" по Иртышу – Оби, плыл из Омска в Салехард... Там, на Севере, еще севернее Салехарда, уже в то время, еще раньше, затевался некий "оборонный" проект, в связи с проектом и приходилось ему бывать за Полярным кругом. Не впервой он то плыл, а то летел по этому маршруту, но тот раз был разом особенным, навсегда вклинившимся в его жизнь: шлепая колесами по свинцово-серой иртышской воде, по медно-коричневой воде Оби, "Карл Либкнехт" со скоростью пять – семь километров в час тащил за собой две металлические нефтеналивные баржи. Но в баржах нефти не было, а были дети, совсем изредка попадались старики и – женщины, женщины, женщины... Все с изможденными лицами, их изможденность была видна с кормы "Либкнехта". На Оби пароход звали "Карлушей", и что-то тянуло "Карлушиных" пассажиров, что-то звало их затаив дыхание внимательно рассматривать изможденных женщин. Их рассматривали, но не было на носу баржи женщин с улыбками, с самым коротким хотя бы смехом, в свободной позе, просто в спокойствии, а было все то же, все то же измождение и ничего больше. Иногда живые женщины медленно зашивали мертвую в мешковину, привязывали к трупу груз и сбрасывали за борт. Морской обычай, конечно, неприемлем на реке, но не причаливать же было "Карлуше" с его баржами к берегу, рыть на берегу могилку?
Может быть, еще и крестик на могилке ставить?
И флегматично шлепал плисами "Карлуша", останавливаясь только на крупных пристанях и загружаясь дровами для своего допотопного, еще парового, еще дореволюционного двигателя тех времен, когда "Карлуша" назывался "Скороходом".
Все на "Карлуше" нынче знали: это женщины из Ленинграда. Что как только ленинградская блокада немцев была прорвана, так женщин арестовали, посадили в поезд, привезли в Омск. В Омске посадили на баржи и вот везли в Салехард, еще куда-то севернее. И все это потому, что у них были немецкие фамилии. У иных эти фамилии были еще со времен Петра Первого, тот страсть как любил внедрять неметчину в свой рукотворный град, другие были русачки из русских, но вышли замуж за Шмидтов, Саксов, Гофмаймеров, Гиллеров. Может быть, что и за Карлуш Марксов, и за Карлуш Либкнехтов.
А женщины те, молчаливые, беззвучные, предназначались рабочей силой на заполярные рыбозаводы. Юрий Юрьевич на этих заводиках тоже бывал, знал, что там за работа, что там за труд, да еще подневольный, да еще в одежонке не заполярной, а ленинградской.
Из одной блокады женщин везли в другую; изможденные, они это знали, понимали это.
Не знали, знать ничего не хотели те, кто их эвакуировал из гордого Ленинграда, в чью трудовую обязанность входило не знать, но доносить, обыскивать, сажать в тюрьмы, расстреливать либо оставлять в живых по заказу заполярного Севера.
Забыто было многими – но не Юрием Юрьевичем: значительная часть тех энтузиастов жива по сей день, процветает под Зюганова знаменами.
Нынче Юрий Юрьевич мстить не хотел, не имел права, он только удивлялся: Зюганов-то, он что же – человек без прошлого? Без истории?
Давно это было, но и до сих пор Юрий Юрьевич помнил: стоя на корме, он ощущал, что "Карлуша" – не один, что и он сам помогает "Карлуше" буксировать ленинградских женщин в Новый порт, еще куда-нибудь севернее, и, когда это ощущение становилось нестерпимым, он уходил в свою каюту. Его каюта была в носовой части парохода, там было легче. Там была какая-то надежда: с левого берега тянулись заливные луга, с правого, высокого, тайга, тайга и тайга, впереди же – никого, только очередной поворот реки, освещенный неярким, но очень светлым солнцем северного дня.
Если на то пошло, то даже Вовка и тот был человеком с прошлым: побывал в секте и сектантская пропаганда ему никак не понравилась, он ушел, а это уже не что иное, как прошлое.
Тут же вспомнился Юрию Юрьевичу эпизод из недавних занятий его с Вовкой (которые Вовка тоже называл "пропагандой").
Он рассказывал Вовке о монгольском иге и вдруг вспомнил:
– Я ведь что-то и еще хотел тебе рассказать. Но – забыл.
– Постарайся вспомни!
– Нет, забыл.
– Пожалуйста! Очень тебя прошу!
Юрий Юрьевич сильно удивился неизвестно откуда взявшейся Вовкиной любознательности:
– Чего ты вдруг забеспокоился-то? На тебя не похоже.
– Я не за себя беспокоюсь, – громко вздохнул Вовка. – Если бы за себя – тогда полбеды...
– А тогда – как понять?
– Я за историю беспокоюсь. Это для истории может быть страшная потеря!
О чем-то Вовка, мерзавец, догадывался. И даже можно было сказать, о чем именно: Юрию Юрьевичу на фоне историческом, литературном и ботаническом очень хотелось высказаться перед самим собой. Вот он и затеял домашние занятия с Вовкой.
Помимо событий мировой и русской истории, помимо всего на свете у Юрия Юрьевича все-таки и несмотря ни на что оставалась и своя собственная история. Может, и крохотная, она все равно требовала своего места в общей истории. Опять-таки крохотного, но места.
И о чем бы Юрий Юрьевич нынче ни говорил, о чем бы ни думал отвлеченно от дня нынешнего, он это местечко отыскивал.
Безрезультатно отыскивал, но иначе он не мог: уже сам процесс отыскания был для него необходим.